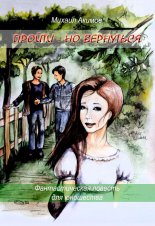Сергей Есенин Горький Максим
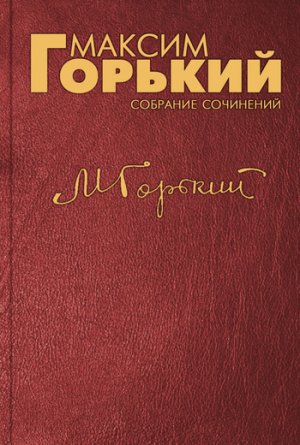
Глава первая
Бесконечная легенда
Я ведь теперь автобиографий не пишу. И на анкеты не отвечаю. Пусть лучше легенды ходят!
С. Есенин в разговоре с В. Эрлихом
«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок – не так, как вы, – иначе…»
Эта отповедь Пушкина публике, казалось бы, универсальная и окончательная, оказывается вдруг несостоятельной, когда задумываешься о судьбе Есенина… Да, жизнеописание его, вырастающее из стихов, писем, уголовных дел, мемуаров, биографий и автобиографий, конечно же легендарно. И конечно же, горы страниц о нем, написанные не только сильными мира сего – политиками, поэтами, актерами, художниками, но и «маленькими людьми» – обывателями, рядовыми журналистами, обычными завистниками и злопыхателями, – чрезвычайно противоречивы. Во многих воспоминаниях поэт предстает алкоголиком, психически нездоровым человеком, самовлюбленным эгоистом, перешагивающим через людские судьбы, хулиганом и хамом. Не приходится сомневаться, что многое из мемуаров подобного рода – житейская правда. Поразительно другое. Поток воспоминаний о Есенине как о «черном человеке» не в силах ни размыть, ни изменить в наших глазах светоносную есенинскую легенду. Темная легенда о нем не в силах уничтожить легенду светлую. В сказочном облике поэта, загадочность которого с течением времени не только не исчезает, а напротив, разрастается до гигантских размеров, приобретая немыслимые масштабы, так или иначе высвечиваются все его лучшие черты: ум, человечность, обаяние, гениальность, мужская стать, искренность… Словом, все то, что никоим образом нельзя назвать ни «мелким», ни «мерзким», ни «подлым». И никакому давлению официальной идеологии любых эпох – бухаринской, сталинской, ждановской, яковлевской и т. д. – неподвластно это стихийное творчество вот уже нескольких поколений.
Кажется, окончательно оформились в российской литературной истории легенды о Лермонтове, Некрасове, Блоке, получили свое завершение жизнеописания – с некоторыми блестками легендарности – Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Но по-настоящему полной и цветущей жизнью дышит лишь есенинская легенда. Она все время выбрасывает новые весенние почки, разворачивается свежей листвой, и никому не ведомо, закончится ли когда ее цветение. Думается, это произойдет не раньше, чем закончится история России.
И да не сочтет читатель нашу мысль кощунственной, но хочется вспомнить слова Гоголя о том, что Пушкин – «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет», и приложить их к Есенину. История России и судьба русского человека были подвергнуты таким испытаниям, которые не могли предугадать ни Пушкин, ни Гоголь, и именно есенинская жизнь, как нам кажется, определяет сердцевину русской истории XX века. Русскую революцию – ее ход и характер – определяли не люди «меры», а широкие русские натуры, которые любили «выплескиваться» через край и о которых Достоевский говорил, что их «надо бы сузить». Именно люди есенинского «безразмерного» склада были главными созидателями истории во всех социальных и политических слоях – у монархистов и большевиков, у эсеров и анархистов, у махновцев и антоновцев… Поэтому велик соблазн поменять имя в пророчестве Гоголя, поменять с дерзкой надеждой: а может быть, сущность русской жизни и русского национального характера мы поймем тогда, когда завершится сотворение легенды о Есенине и когда нам станет окончательно ясно, что он есть для России. Как будто бы он – последняя и роковая, самая крупная наша ставка. Оснований к тому не счесть. И сегодня история идет «по есенинскому пути»…
Русское время за последнее десятилетие переломилось еще раз, и даже в пророчества «ушедших и великих» Провидение вносит поправки. А в том, что именно Гоголь и Пушкин были бесспорными кумирами Есенина, есть тоже некое предначертание свыше. Ведь не случайно же крупнейшие поэты и писатели эпохи (как в советской России, так и в эмиграции), замечательные актеры, художники и скульпторы, влиятельные идеологи и известные политики сочли своим внутренним долгом, какой-то даже обязанностью оставить воспоминания о Есенине; причем именно в них делали они свои предположения о будущем России и русского человека.
Любопытно, что многие весьма именитые современники Есенина, хорошо знавшие его, чуть ли не на другой день после смерти поэта, отвернувшись от фактов и житейской правды, начали сочинять о нем бесконечную сказочную эпопею. Борис Пастернак, к примеру, знал о Есенине многое: его характер, стихи, быт, странный роман с Айседорой, чудачества и порой весьма расчетливое отношение к жизни. Но он пишет о Есенине так, будто они разделены морем пространства и времени, словно о Байроне или Казанове: «Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами…»
Валентин Катаев попытался сочинить несколько легенд («Алмазный мой венец»): о Пастернаке, Юрии Олеше, Владимире Маяковском, Михаиле Булгакове, Эдуарде Багрицком… Все эти жизнеописания, однако, как ни старался Катаев, не превратились в легенды и остались всего-навсего новеллами. У них не было подлинной основы, ядра, к которому должны были бы прирасти эти новеллы, ибо легенда не сочиняется после смерти, она должна зародиться еще при жизни. И поэтому совершенно естественно, что из всех катаевских новелл один лишь рассказ о «королевиче» Есенине как бы «прилип» к медленно катящемуся есенинскому снежному кому, следуя тайным законам притяжения легендарных частиц к уже существующему ядру воспоминаний.
Сейчас уже почти невозможно разобраться в том, где сам Есенин осмотрительно или легкомысленно рассыпал зерна своей легенды, а где их сеяли его современники. Достаточно вспомнить самые первые шаги… Когда двадцатилетний поэт всего лишь на два неполных месяца приехал в Петроград, он побывал в нескольких редакциях, встретился с Блоком, Городецким, выступил на нескольких поэтических вечерах, был принят в салоне у Зинаиды Гиппиус. Но тут же по литературному Петрограду поползли слухи. Вот как вспоминает о них один из современников: «О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что нежданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренек, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом… О Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно. Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петроград, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а главное, больше устраивала всех» (М. Бабенчиков)[1].
Создается впечатление, что литературная столица ждала пришествия некоего поэтического «мессии» из народа и признала его в Есенине. Один из рецензентов даже написал: «Это была нечаянная радость». Осторожно напомним, что «Нечаянная Радость» для людей той эпохи была не только названием блоковской поэтической книжки, но и чтимым в России иконописным образом Богородицы. Дальше, как говорится, некуда. Поэт сразу же почувствовал какую-то религиозную основу интереса к себе. В январе 1918 года он рассказывал Александру Блоку, что происходит из «богатой старообрядческой семьи», потом повторил И. Розанову, что его дед был «старообрядческим начетчиком», который знал «множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них».
Однако дед поэта по отцу, Никита Осипович Есенин, умер еще до рождения Сергея, а дед по матери, Федор Андреевич Титов, был отнюдь не книгочеем, а лихим купцом, владельцем нескольких барж. Не думая о священных книгах, он после удачных заработков гулял по неделе с земляками, и, как вспоминала Екатерина Есенина, «бочки браги и вино ставились около дома.
– Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! – говорил дедушка. – Нечего деньгу копить, умрем, все останется… Давай споем!»
А когда сам И. Розанов в 1926 году приезжал в Константиново, дед поэта откровенно сказал, что ни к каким раскольникам он не причастен, что духовных стихов почти не знает, а его сын говорил, что в их селе никаких раскольников и старообрядцев в помине не было.
Однако уже после смерти Есенина Сергей Городецкий, выступая на одном из вечеров памяти поэта, заявит, что «от деда-начетчика, сказителя сказок и былин, Есенин взял свои песни»!
Легенда Есенина такова, что если этот «сказочный мешок» опрокинуть, то содержимое будет сыпаться из него бесконечно. Высыплются десятки сообщений из газет 1915–1917 годов о молодом крестьянском поэте, который ведет «мужицкое хозяйство» и «пашет землю». Ни тем ни другим Есенин в жизни не занимался. Посыплются слухи о близости Есенина к царской семье. Дело это настолько запутано и мифологизировано, что до последнего времени не просто было разобраться, кому Есенин читал стихи 22 июля 1916 года. Установлено, что императрице Александре Федоровне в присутствии великих княжон Марии и Анастасии. Неизвестно было – чем наградили поэта за чтение стихов – то ли золотыми часами с орлом, то ли перстнем с изумрудом, который якобы до сих пор хранится у троюродной сестры поэта. А одна из мемуаристок вспоминает о том, что Есенин рассказывал ей, как великая княжна Настенька Романова выносила ему с черного хода царскосельской кухни горшочек со сметаной, которую они съедали с ней «одной ложкой поочередно». «Какая глупость!» – возмутится трезво мыслящий читатель, с порога отметающий все мистическое. Однако для того, кто не является рационалистом до мозга костей, в этом фантастическом сюжете не случаен даже тот факт, что, сочиняя подобную историю, поэт выбрал из четырех княжон именно Анастасию, которая потом якобы спаслась от расстрела и лишь совсем недавно скончалась в Англии, окруженная ореолом то ли наследницы престола, то ли самозваной авантюристки. Нельзя считать случайным и то обстоятельство, что именно Анастасия Романова «воскресла» в гениальной «Погорелыцине» «антимонархиста» Николая Клюева в облике спившейся, опозоренной, изнасилованной, забывшей свое имя России. Любая выдумка, любая оговорка, любая блажь Есенина таинственным образом обретала дальнейшую судьбу. Любая фантазия, и его собственная и чужая, как репей прилипала то к его голубой с крестиком «а-ля рюс» рубашке, то к пушкинской крылатке, то к европейскому модному костюму, то к его родным и близким, то вообще к русской истории. Аж страшно подумать – почему у него был такой талант, кроме поэтического, и такая легкая или, может быть, наоборот, такая тяжелая рука.
В пирамиду есенинской легенды вложили свои камушки чуть ли не все, кто встречался с поэтом: друзья и недруги, родные и близкие, русские и евреи, коммунистические идеологи и столпы белоэмигрантской литературы – Георгий Адамович, Георгий Иванов, Роман Гуль, Ирина Одоевцева. Не говоря уж о Максиме Горьком. Доходило до курьезов. Так, например, трагикомически (вплоть до повторения одних и тех же эпитетов и проклятий) совпало отношение к Есенину у Ивана Бунина и Николая Бухарина. Все то, что сказал о Есенине Бухарин – как о поэте «некрофилии», «жарких свечей», «пьяной икоты», «мордобоя», «российской матерщины», «сисястых баб», «шовинизма», – все или почти все в подобных же словах повторил великий русский писатель Бунин. Какой уж тут «златокудрый Лель» и «светлый отрок»! (Бедный Жданов – как он ни старался, из-под его пера не вышло ни одной легенды ни об Ахматовой, ни о Зощенко!) История коварна. Ну скажите, кому сейчас интересны труды «интеллектуала» академика Бухарина «Азбука коммунизма» или «Экономика переходного периода»? А «Злые заметки» живут и останутся в истории лишь потому, что замешены они на нескольких капельках живой есенинской крови. А кому интересна груда литературно-идеологического хлама, нагроможденная в свое время усилиями Троцкого, Луначарского, Сосновского? Достойна изучения, пожалуй, лишь та клевета, которую они сочиняли о Есенине…
В последние годы переизданы почти все книги Анатолия Мариенгофа. Но читаешь их и видишь, что действительно обращает на себя внимание лишь то, что он написал о Есенине. Однажды отец Есенина Александр Никитич, вернувшийся из Москвы, на вопрос матери поэта – видел ли он «Мерингофа» – с простодушной крестьянской проницательностью ответил: «Ничего молодой человек, только лицо у него длинное, как морда у лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея…» Вот и получилось так, что все эти мерингофы, бухарины, сосновские, шершеневичи, крученыхи и иже с ними до сих пор кормились и в необозримом будущем обречены «кормиться возле нашего Сергея»…
Поскольку в обиход ныне снова вошла легенда о Есенине, сотворенная Мариенгофом, не обойтись и без свежих комментариев к ней. Один из нынешних публикаторов «Романа без вранья», размышляя о неоспоримых достоинствах мариенгофских воспоминаний, настаивает на том, что они «достоверны», представляют собой «незаменимый источник для изучения биографии Есенина» и т. д. В конце концов можно согласиться с публикатором, что обвинения современников «в оскорблении памяти поэта» несправедливы и что ни в коей мере нельзя считать мемуары «пасквилем»… Но тем не менее какое-то общее неприятие современниками Есенина мариенгофского «Романа» не случайно. Просто никто из них не сформулировал в свое время, почему названные мемуары, можно сказать, недостойны памяти Есенина. Попробуем это сделать мы.
В одном из эпизодов «Романа без вранья» Мариенгоф рассказывает не новый, но нравоучительный анекдот о том, что такое культура: об Англии, об английском газоне, который надо стричь два раза в неделю и ежедневно два раза поливать в течение трехсот лет. В заключение автор легкомысленно заявляет: «Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского».
Анатолий Мариенгоф, не являясь коренным русским, мог высказать такую поверхностную и невежественную мысль. Но еврейская девушка Надя Вольпин однажды весьма жестоко поправила его, что известно из ее мемуаров.
Они сидели втроем – Есенин, Мариенгоф и Вольпин – возле бронзового Пушкина на Тверском. Мариенгоф, как всегда, ерничал.
« – Ну как, вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?»
Вольпин ответила:
« – Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь, как на ладони, да и я для вас… (Тень обиды легла на красивое лицо Мариенгофа.) Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей… Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков!
– Как это?
– Нашей с вами почве – культурной почве – от силы полтораста лет, наши корни в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя, и новая. Мы с вами россияне, он русский.
(Боюсь, после этой тирады я нажила себе в Мариенгофе злого врага.)…
Рассуждая так, я несколько кривила душой: умолчала, что, кроме «девятнадцатого века», во мне живет и кое-что от древних культур, от Ветхого Завета, которого добрую половину я в отрочестве одолела в подлиннике. Далеко ли ушли в прошлое те годы, когда мне чудилось, что я старше своих гимназических подруг на две тысячи лет?
Сергей слушал молча, потом встал.
– Ну а ты, Толя, ты-то ее раскусил?»
…Ассимилированный в русской жизни в первом или втором поколении, Мариенгоф был, конечно, куда более упрощенным человеком, нежели Надя Вольпин, девушка с ветхозаветным багажом, не говоря уж о Сергее Есенине. Но следует заметить, что Вольпин как литератору ее двухтысячелетняя традиция, далекая от русского духовного склада, не могла дать никаких преимуществ не только перед Есениным, но даже и перед Мариенгофом. В этом тоже состояла драма «россиян», подобных Вольпин. Кстати, более глубокая, нежели пошлая драма Мариенгофа. А главный изъян его мемуаров не в «пасквильности» или «вранье», а совсем в другом. «Моя Пенза» – «есенинская Рязань», «Эпоха Есенина и Мариенгофа», «Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу „Пугачева“… Я привез первое действие „Заговора дураков“»… Или вот еще: «Мы принялись оба за теорию имажинизма. Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой „Буян-остров“ был издан к осени»…
Ну кто сейчас помнит «мариенгофскую Пензу», «Заговор дураков», «Буян-остров»?! Не понимая, что ставит себя в смешное и глупое положение, Анатолий Мариенгоф с первой до последней страницы мемуаров совершенно искренне убеждает читателя, что он – величина, равновеликая Есенину! Он просто «лезет» как равный в есенинскую легенду.
Однажды Есенин в состоянии лукавого великодушия посмотрел на квадригу лошадей на фронтоне Большого театра и заметил:
– А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжелее Большого театра.
Поразительно, что Мариенгоф в своем тщеславии воспринимает эту реплику всерьез и всерьез верит, что он один из тех, кто, подобно Есенину, тащит воз русской литературы!
«Мне нравился Клюев, – вспоминает Мариенгоф. – …И то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом… и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере».
В этом отрывке Мариенгоф выступает как «черный человек» по отношению к страстотерпцу Клюеву, распятому эпохой, и, в сущности, рисует свой автопортрет циника с мертвой душой. То, что искусство и поэзия для него есть призвание, а не «великая фальшь», Николай Клюев подтвердил своей мученической смертью. Именно для Мариенгофа призвание было всего лишь «мистическим ряжением». Потому-то как литератор он и окончил свою жизнь в халтуре и бесславии.
Когда же Есенин понял суть своего друга и почувствовал его лицедейское понимание судьбы поэта, он резко отшатнулся от него. Все определилось в первой ссоре:
«Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:
– А я тебя съем!
Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле.
– Ты не Серый Волк, а я не Красная Шапочка. Авось не съешь.
Я выдавил из себя улыбку… Скрипнул челюстями.
– А все-таки… съем!..
Вот наша ссора. Первая за шесть лет».
Мариенгоф не понял, что это не ссора, а конец игры в «двух гениев». Моцарт наконец-то разглядел, что рядом с ним всего лишь навсего Сальери. «Я тебя съем» означало: «Все равно ты будешь в моей тени, все равно нам на одном пьедестале рядом не стоять, ибо для тебя поэзия „великая фальшь“, а для меня – жизнь и смерть…»
«Роман без вранья» – не столько завистливая книга (зависть пришла позже, в 1950-е годы, когда всем стало ясно, что автор – лишь одна из теней есенинского окружения), сколько глупо самоуверенная и потому даже в чем-то смешная. Мариенгоф в «Романе» творил легенду не только о Есенине, но и о самом себе, причисляя «себя любимого» к сонму бессмертных.
Самовлюбленная пошлость Мариенгофа особенно проявилась в одной из ключевых фраз романа: «А Есенин на другой день после смерти догнал славу». Это очень похоже на лихорадочно-завистливое заявление Маяковского о том, что если бы он умер и лежал в гробу, то о нем стали бы говорить не меньше, чем о Есенине. Напророчил…
Оба как бы упрекали Есенина в том, что он, покончив с собой, очень ловко и без хлопот достиг невероятной славы… Наивные люди! Да не Есенин после смерти догнал славу – она сама догнала его еще при жизни, во что ни Мариенгофу, ни Маяковскому не хотелось верить.
«Алкоголик», «хам», «хулиган» и «златокудрый Лель», «светлый отрок», «русский гений» – две великие легенды о нем. А всех мелких и не перечислить. Тут и записка, якобы написанная кровью и найденная утром 28 декабря 1925 года в «Англетере», о чем в тот же день сообщили чуть ли не все центральные газеты. Здесь и полное убеждение, что «Послание евангелисту Демьяну» – одно из популярнейших самиздатовских стихотворений 1920-х годов – принадлежит именно его перу. Оно не раз печаталось за рубежом, как принадлежащее Сергею Есенину, и Екатерина Есенина в 1926 году вынуждена была, отводя тень, нависшую над родными поэта, опубликовать письмо, в котором категорически отрицала, что ее брат – автор «антисоветского» православного стихотворения. Конечно же, никто из живших есенинской легендой не поверил ей. Чтобы стал ясен диапазон легенды – «от великого до смешного», – вспомним напоследок, что маститый литератор Давид Бурлюк перед тем, как встретиться с Есениным в Нью-Йорке, писал глупости о жизни поэта: «Поэт уезжает на Белое море, где его дядя имеет рыбные промыслы. 5 лет туманов, 5 лет бледные звезды, отраженные в северных морях, смотрят в поэтовы зрачки…»
«Дар поэта – ласкать и корябать, роковая на нем печать», – сказал поэт о себе. Но роковой печатью отмечены так или иначе все, кто был причастен к Есенину и его судьбе. И в этом также таятся суеверные корни есенинской легенды. Судьба многих друзей и недругов Есенина, судьба его родных и близких поистине страшна. В начале «перестройки» в 1987 году один казенный членкор, литературовед, наводя «тень на плетень», писал о том, что коммунистическая власть преследовала среди писателей только революционеров-новаторов. «Тех же, кто писал в традиционной манере, не трогали, больше того, они Сталину были нужны». Эту же точку зрения сформулировал в 1960-х И. Эренбург в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь». Он писал: «Вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу… вскоре в „формалистических вывертах“ оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрыниксов». Чего в этом утверждении больше – лжи или невежества, – сказать трудно, если вспомнить о стихах Пастернака, прославлявших Ленина и Сталина, о лакейском романе Катаева «За власть Советов», об эпопеях Эренбурга, отмеченных сталинскими премиями, о ленинских панегириках Тихонова. Все перечисленные «страдальцы» (за исключением Бабеля и Заболоцкого) прожили (кто относительно, а кто и абсолютно) благополучные жизни и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве с Брежневым. Дотошный летописец эпохи и маститый литературовед «забыли», что в первое советское двадцатилетие была уничтожена именно самая «традиционная», народная есенинская ветвь русской литературы. Расстреляны Клюев, Клычков, Орешин, Ганин, Иван Макаров, Наседкин, Иван Катаев, Иван Приблудный, Павел Васильев, Иван Касаткин. Вместе с ними погибли два самых заметных рабочих поэта той эпохи – Кириллов и Герасимов, любившие Есенина и сотрудничавшие с ним… Расстрелян товарищ есенинской юности поэт Леонид Каннегисер. Он, в сущности, первый, на ком была поставлена роковая печать уже осенью 1918 года. Повесился в 1932 году при невыясненных обстоятельствах свидетель последних часов жизни Есенина, его многолетний «враг-приятель» Георгий Устинов. Расстрелян в 1937 году автор книги «Право на песнь» поэт Вольф Эрлих. Отбыла северную ссылку близкая поэту женщина Анна Берзинь. Умер в карагандинской ссылке товарищ Есенина Александр Сахаров.
А о родных и близких и говорить нечего. Расстрелян в 1937 году его сын-первенец Юрий Есенин. Вкус сумы и тюрьмы узнала сестра Екатерина. Зверски была зарезана в своей квартире мучительная любовь поэта, мать его двоих детей Зинаида Райх…
Бениславская, Блюмкин, Сосновский, Андрей Соболь, Маяковский, Цветаева, Айседора Дункан – все они «убийцы, самоубийцы, невинно убиенные», которые «прошли, как тени», так или иначе коснувшиеся есенинского огня, навеки, каждый по-своему, остались жить в есенинском мире. И совсем не случайно круг людей, превратившихся, по словам Пимена Карпова, в «растерзанные тени», круг теней, бывших друзьями, врагами, любовницами, собутыльниками и гонителями Есенина, оказался таким необъятным. В этом кругу и его счастливый соперник Всеволод Мейерхольд, и его партийный покровитель Киров, и расстрелянный ЧК лейб-гвардии полковник Ломан… Несть им числа.
«Особую мету» близости к Есенину признавали даже те из его друзей, которые, как говорится, никогда не верили «ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай». Анатолий Мариенгоф в книге «Мой век, мои друзья и подруги» вспоминает о том, как Есенин, вернувшийся из-за границы, увидел новорожденного сына Мариенгофа и решил окрестить его:
« – Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются».
Крещение не состоялось, но в 1940 году, как пишет Мариенгоф, «Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный…». Повесился…
Под грудой мемуаров о Есенине можно задохнуться. Уже опубликовано все, что десятилетиями копилось в спецхранах, в архивах, в частных собраниях, и книги, изданные когда-то в Берлине, Нью-Йорке, Париже наконец-то пришли к нам. Многие новые исследования жизни поэта, которые вроде бы должны были заполнить «белые пятна» его судьбы, еще больше усложняют и затемняют ее. Так, в одной из книг можно прочитать о матери Есенина следующее: «Несчастна была Татьяна. Полюбила она парня, забеременела от него, но что-то не сладилось у молодых. А тут Александр Есенин уже в который раз добивался ее руки. Вышла замуж без любви. Муж обещал скрыть позор, но разве что утаишь в деревне».
В этом же исследовании описываются две встречи Есенина со Сталиным. Во время первой вождь якобы уговаривал Пастернака, Есенина и Маяковского заняться переводами на русский язык грузинских поэтов («Сталин с кавказской гостеприимностью угощал их чаем, фруктами и вином»), а во время второй встречи, на которой Есенин должен был читать стихи Сталину и старым партийцам, поэт с похмелья, «вместо того, чтобы читать стихи, пару раз качнулся из стороны в сторону, смахнул волосы со лба и зло бросил в зал:
– Вы хотели слушать мои стихи! – помолчал. – X… вам, а не стихи! – Он повернулся и вышел…»
По мнению автора книги, именно это хулиганство по отношению к Сталину якобы решило судьбу поэта; и не стоит удивляться, если подобная версия станет восприниматься через некоторое время читателями как историческая правда.
Так что создание есенинского апокрифа продолжается. «Что быть должно, то быть должно»… А чем, в сущности, отличается новая есенинская фактография от прежней, ну, к примеру, хотя бы изложенной в «Калужской коммуне» от 31 декабря 1925 года: «Слишком остро носил в себе Есенин память бабки, которую запорол во времена крепостные рязанский помещик»? Ну чем же «эта штука» слабее приема у Сталина?
По-прежнему самыми честными, самыми бесхитростными, самыми «нелитературными» остаются воспоминания о Есенине его сестер, его дальних родных по Константинову, его земляков и товарищей детства. То есть тех, для кого он всю жизнь да и после смерти оставался Сережей, Сергунькой, Сергухой. Они рассказывают, как приезжал Есенин на родину, как вместе ловили рыбу, переплывали Оку, купали лошадей. Как играл он на гармошке, во что был одет, какие песни слушал, какие частушки пел. Это – воспоминания тех, кто бы «вилами пришли вас заколоть» – вас, чужих, за каждый «крик», брошенный в поэта. Но каждый «брошенный крик» тоже ложится камушком в необъятную для взора пирамиду.
Вполне достоверны «женские» воспоминания о поэте (Г. Бениславской, Н. Вольпин, А. Берзинь) хотя бы потому, что единственная пристрастная нота в них сводится к сетованиям на то, «как она одна его спасала» и спасла бы, если бы не роковые пьяницы-друзья и другие соблазнявшие поэта женщины.
Зачатки легенды человек конечно же приносит в мир сам – своим лицом, жестами, словами, поступками и чем-то еще не до конца объяснимым. Но есть несколько объективных условий для ее развития. Необходимо, чтобы древо легенды разрасталось в пассионарное время и в пассионарном народе. В Европе XIX – XX веков лишь несколько – по пальцам можно пересчитать – поэтов удостоились легендарного ореола. Джордж Байрон, Поль Верлен, Гарсиа Лорка…
Для субъекта легенды крайне важно, чтобы ему самому не до конца была ясна роль, ради которой он пришел в мир. Много раз Есенин спрашивал сам себя: «Кто я?», «зачем пришел я в мир?» И как бы пытаясь помочь поэту, его сотворцы по легенде вот уже несколько десятилетий ищут ответ на эти вопросы. Но волю к поиску спровоцировал он сам, примерившийся к Пушкину, а Пушкин, как известно, это «наше все».
- Блондинистый, почти белесый,
- В легендах ставший как туман,
- О, Александр! Ты был повеса,
- Как я сегодня хулиган.
Не зря же все крупнейшие русские поэты XX века – Блок, Маяковский, Ахматова, Цветаева, Пастернак – каждый по-своему пытались поговорить с пушкинскими памятниками. Один прощался с Пушкиным на «тихой площади Сената», другой с фамильярной застенчивостью докладывал: «Александр Сергеевич, разрешите представиться». Третья вспоминала о «треуголке и растрепанном томе Парни», четвертая ревниво заявляла – «мой Пушкин»…
Есенин же примерял свою жизнь к пушкинской почти буквально, когда искал себе оправдания:
- Но эти милые забавы
- Не затемнили образ твой,
- И в бронзе выкованной славы
- Трясешь ты гордой головой.
Да, эти милые забавы если не затемнили реальный облик есенинского собеседника, то и не прояснили его, потому что он ушел от прояснения в бронзу, в памятник, в легендарную жизнь. Есенин хотел не реальной судьбы, не биографий и автобиографий, а «бронзы», закутанной в «туман». Поэтому, воссоздавая его образ, одними бесхитростными воспоминаниями сестер и земляков не обойдешься. Он и сам не желал этого. Однако без них мы тоже не поймем, почему Есенин стал бронзой, песней, «русской судьбой».
И разве могла быть другой судьба поэта, стихи которого волновали душу московского чекиста и врангелевского офицера, могли увлечь царицу Александру Федоровну и Сергея Кирова, московскую проститутку и Василия Качалова? По мнению современного русского писателя Ю. Мамлеева, совершенно особое место Есенина в русской ауре определено тем, что его поэзия «вступает в соприкосновение с самым сокровенным, тайным уровнем русской души, с тем уровнем, который коренным образом связывает русских с Россией и с собой». Миф о Есенине в течение XX века постепенно изменил свое «молекулярное» строение и из явления истории переродился в явление природы.
Эта книга была задумана и рождалась в тяжелейшее для России время. Может быть, не менее тяжелое, чем есенинское. С неменьшей яростью, нежели тогда, унижаются Россия и ее национальные поэты. Но тщетны потуги русофобов затемнить светлую часть есенинской легенды. Она обречена разрастаться и увеличиваться. Тщетны и благие усилия исследователей-лакировщиков перечеркнуть тень, отбрасываемую «черным человеком» Есенина. Чем больше тень, тем крупнее и монументальнее фигура, отбрасывающая ее. Нечистая сила, пытающаяся увеличить есенинскую тень, обречена с отчаянием наблюдать, что ее действия приводят к противоположным результатам, что работа против Есенина чудесным образом оборачивается работой на его легенду и на его славу. Есенин, в отличие от Хомы Брута, спокойно выходит за очерченный меловой круг и не падает, как гоголевский герой, замертво, а стоит с непостижимой улыбкой на лице и смотрит, как нечисть в панике от своего бессилия бросается после третьего петушиного крика в решетчатые окна заброшенного храма и при свете зари превращается в прах, ветошь, пыль, небытие…
Глава вторая
Родина кроткая…
Он не такой, как мы. Он Бог его знает кто…
Александр Есенин о сыне Сергее
«Четыре деревни одна за другой однообразно вытянуты вдоль улицы. Садов нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. Кой-где грубо-яркие цветные наличники. Многопудовая царственная свинья посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом обертывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлет ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму.
На хилый курятник похожа магазинная будка села Константинова. Селедка. Всех сортов водка. Конфеты – подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не едят. Черных буханок булыги, увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору под стать.
В избе Есениных – убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовешь ни одну. В огороде – слепой сарайчик, да банька стояла прежде, сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами – обыкновенное польце.
Я иду по деревне этой, каких много, где и сейчас живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, – и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать: «На бору со звонами плачут глухари…»? И об этих луговых петлях спокойной Оки: «Скирды солнца в водах лонных»?
Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты – у печи, в хлеву, на гумне, за околицей – красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..»
Этот вопрос А. И. Солженицына – «какой же слиток таланта?..» – задавали многие и многие на протяжении десятилетий. А ответил на него сам Есенин буквально за день или два до смерти.
Ведя полушутливый разговор с соседкой по «Англетеру» Елизаветой Устиновой, он проронил тогда: «Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь «Божья дудка»».
И когда Елизавета попросила объяснить, что это значит, поэт ответил ей: «Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же».
«Он смеялся с горькой складочкой около губ», – вспоминала через несколько дней после гибели поэта Устинова, придавшая его словам фатальный смысл. А это определение своего творческого дара вовсе не было для Есенина неким роковым озарением – он всю жизнь жил с этим сознанием, безжалостно тратя свой бесценный дар, и лишь временами с его губ срывалось подобное сожаление.
И еще на одно размышление наталкивает солженицынская «крохотка». Солженицын писал ее, видимо, в плохом настроении. Потому что, во-первых, высокий берег Оки, заливные луга, темная кромка леса, зеленые овраги, ширь небесная на много верст – все это делает Константинове одним из красивейших уголков России. Во-вторых, конечно же, местные жители всегда замечали и чувствовали эту красоту, только выражали ее по-своему: отражалась она в их нарядах, в вышивках на рушниках и сарафанах, в песнях и плясках, в свадебных обрядах, в узорчатых причелинах и наличниках, в пословицах и поговорках – да всего не перечислишь… И все-таки… и все-таки, почему именно здесь появился Есенин?
Прежде всего надо обратить внимание на то, что древо есенинского рода было несколько необычным, отмеченным «особой метой». Все его ближайшие родные – оба деда, обе бабки, отец и мать, – если присмотреться к ним повнимательнее, были людьми необычными: или с некой тонкой душевностью, или с сильным характером, или с тягой к личной независимости, или с любовью к песне, к игре, к молитве, то есть со своеобразным художественным складом. Может быть, унаследованные от каждого из них свойства таким счастливым образом переплелись в Есенине, что он стал средоточием особого крестьянского аристократизма, который проявлялся буквально во всем – в походке, душевной чуткости, одежде, гибком и сильном уме, целеустремленности натуры. И представьте себе, что все эти свойства были увенчаны сверх того поэтическим даром. Дедушка поэта по отцу – Никита Осипович, проживший всего сорок два года и умерший до рождения Сергея, умел читать и писать, помогал землякам сочинять всякие прошения, был трезвым и умным человеком и не зря, видимо, занимал в деревне почетный пост сельского старосты. В молодости Никита Осипович хотел уйти в монастырь, за что он и все его потомство получили кличку «монахи» и «монашки».
«Я до самой школы не знала, что наша фамилия Есенины, – вспоминала сестра поэта Екатерина Есенина, – и была уверена, что мать и я с сестрой „монашки“, а отец с Сергеем „монахи“.
Редкостным в русской деревне было, наверное, встретить молодого крестьянина, мечтавшего не о хозяйстве, не о женитьбе, а о жизни «не от мира сего».
После смерти деда Никиты в доме его вдовы – бабки поэта Аграфены Панкратьевны – часто живали сельские богомазы, работавшие в церкви, что была напротив. Бабка постоянно давала приют монахам и монашкам, странникам, богомольцам. Для дохода: ведь осталась молодою вдовою с четырьмя малолетними детьми на руках. Сама она была женщиной с особым художественным даром. Любила петь, но поскольку в деревне считалось, что вдовам петь как бы неприлично, бабка отводила душу, когда причитала по покойникам или исполняла обрядовые песни на свадьбах. «Лучше 'монашки' никто не покричит», – говорили мужики о нашей бабушке. Рассказывали, как пьяные мужики приходили к бабушке и платили ей деньги за то, чтобы она «покричала» о них:
– Эх, тетка Груня! Покричи обо мне несчастном. Вот тебе деньги за труд, ты бери, а то ведь все равно пропью!
Бабушка причитала, а мужики плакали сами о себе».
(Кстати, и у Николая Клюева матушка была плачеей, известной на всю олонецкую округу.)
Сознавая все это, Сергей Есенин впоследствии, будучи уже известным стихотворцем, не раз с раздражением открещивался от звания «крестьянский поэт».
– Не хочу надевать хомут Сурикова и Спиридона Дрожжина. Я не крестьянский поэт, я просто поэт!
Да, он мог с гордостью сказать: «У меня отец – крестьянин, ну, а я крестьянский сын», мог укорить себя: «Только я забыл, что я крестьянин», мог спросить сестру: «Крестьянин я иль не крестьянин?!» Он мог с гордостью сознавать, что отцу и матери он дорог «как поле и как плоть», но одно дело быть «крестьянским сыном», «плотью», и совсем другое – поэтом. Ведь поэзия – жизнь души, а душа принадлежит не отцу с матерью, не крестьянскому миру, а лишь Господу Богу и ему самому – Сергею Есенину…
Николай Клюев уже после смерти Есенина рассказывал:
«За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям, как писателя „из низов“. Есенин долго плевался на такое непонимание: „Мы, – говорит, – Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России; самое аристократическое, что есть в русском народе“».
Бельгийский поэт Франц Элленс, переводивший на французский язык есенинского «Пугачева», встречался с русским поэтом в 1923 году в Париже. Есенин был тогда не в лучшей душевной и физической форме. Много пивший, опухший, с темными подглазьями, он тем не менее произвел на Элленса неотразимое впечатление: «элегантность в одежде и совершенно непринужденная манера держаться», «он сочетал в себе здоровье и полноту природного бытия», «этот крестьянин был безукоризненным аристократом»…
Но ведь и отец Есенина, Александр Никитич, не был похож на обычного крестьянина. Мальчиком он пел в церковном хоре, у него был прекрасный дискант, его, как и Аграфену Панкратьевну, приглашали на свадьбы и похороны, а мать даже пыталась отдать мальчика в рязанский собор в певчие, однако он сам не согласился и поехал в Москву, чтобы начать свою самостоятельную жизнь в мясной лавке. На фотографии видно, какое у него тонкое породистое лицо, аккуратные, даже изящные усы, как он чисто одет, какие у него печальные глаза. Он был болен астмой, у него не хватало ни сил, ни опыта для тяжелых крестьянских работ; когда в 1921 году, после того как в Москве закрылись все мясные лавки, Александр Никитич вернулся в деревню, он зажил там жизнью трудной и безрадостной. Однако заметим, что поэт, который из-за распрей с отцом редко вспоминал его, в автобиографии 1916 года обмолвился: «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их».
Дед поэта по матери, Федор Андреевич Титов, не был вопреки уверениям внука ни старообрядцем, ни начетчиком. Грамотой он владел еле-еле, но колоритности, характерности, своеобычности ему было не занимать. Неравнодушен был дед к тому, какая слава ходит о нем по деревне. Когда он возвращался из Петербурга, куда гонял баржи с различными грузами, то закатывал пир на весь мир, чтобы все знали, как он щедр, самостоятелен, удачлив. Выкатывал Федор Андреевич на лужайку перед домом бочонок вина, вешал на него ковшик. Как увидит, что мужики, идущие из церкви, нацеживают в ковшик зелье, выходил из дома, выпячивал грудь колесом и – коренастый, рыжебородый, громкоголосый – ударял себя в грудь и похвалялся, словно Васька Буслаев либо Садко – богатый гость:
– Ладная посуда – славой проживу!
«Любил, любил старик похвастать, себя потешить, что и говорить, – вспоминала о нем соседка Анна Ефремовна. – Его хлебом, бывало, не корми, только дай ему гоголем себя среди других выставить…» Он даже часовенку напротив своего дома в благодарность Николе-угоднику за удачи воздвиг. Из красного кирпича. Когда Крестный ход, бывало, шел в праздники по селу, то возле его часовенки останавливались, чтобы отслужить молебен… Любил, любил быть во всех делах первым Федор Андреевич и в душу малого внучонка Сергушки заронил с детских лет желание первенствовать.
Сестра поэта Екатерина вспоминала, что дед был «умен в беседе, весел в пиру и жестокий в гневе… умел нравиться людям… Со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей».
В этом доме с 1899 по 1904 год – четыре первых своих детских сознательных года, когда для ребенка так новы «все впечатленья бытия», – прожил Сергей Есенин. А попал он в дом деда Федора и бабушки Натальи трехгодовалым дитятей.
Все началось с того, что Татьяна Титова вышла замуж за Александра Есенина не по любви, а по воле своенравного Федора Андреевича. Ходили слухи, что она была просватана за некоего угрюмого мужика из деревни Федякино, но нравился ей другой, развеселый, бедовый. Идти замуж за «угрюмого» она отказалась, а кто ей нравился – тот сватов не заслал. Именно тогда отец и присмотрел для дочери тихого, скромного, задумчивого Александра Есенина. Может быть, отсюда и всплыла сегодняшняя легенда о том, что Александр Есенин покрыл ее девичий грех. А была она, как вспоминают подруги, «хороша необыкновенно, считали ее первой деревенской красавицей». Словом, «хороша была Танюша – краше не было в селе».
Александра Ивановна Разгуляева – жена второго сына Татьяны, прижитого ею в те годы, когда она расходилась с отцом Есенина, – вспоминает домостроевские страсти, бушевавшие в доме Титовых:
« – Татьяна Федоровна рассказывала мне: отец ее кнутом, а она не шла за Есенина. „Я, – говорит, – сроду его не любила“. А отец ее плетью: „Пойдешь, и все“. – „Я, – говорит, – реву: не пойду!“ А он: „Нет, пойдешь!“»
Как бы то ни было, но именно отсюда берет начало короткая, но яркая драма ребенка, ставшего сиротой при живых родителях.
Шумная свадьба была сыграна в доме Федора Титова на второй день после престольного праздника Казанской Божьей Матери. Молодых обвенчал о. Иван Смирнов, и вскоре после свадьбы Александр Есенин вернулся в Москву в свою мясную лавку, а красавица Татьяна вошла работницей шестнадцати с половиной лет в чужую семью под начало властной свекрови Аграфены Панкратьевны. Молодой муж, отъезжая, дал жене наказ ни в чем не противиться свекрови, которая получила даровую работницу. Весь свой заработок Александр Есенин посылал не жене, а матери. Жене же оставалось только убирать избу, вставать чуть свет, кормить и доить скотину, готовить обеды и ужины для постояльцев и лишь изредка, когда на побывки из Москвы приезжал Александр Никитич, вспоминать, что она не просто работница, а жена и женщина. Но судьба по-прежнему была немилостива к ней: первый ребенок – мальчик – умер в 9 месяцев, а рожденная после Сергея девочка Ольга не дожила до двух лет. Есенин в конце жизни вспомнил о них в стихах:
- Потом ты идешь до погоста
- И, в камень уставясь в упор,
- Вздыхаешь так нежно и просто
- За братьев моих и сестер.
А 21 сентября 1895 года (3 октября по новому стилю) у Татьяны родился третий ребенок. При крещении о. Иван уговорил Аграфену Панкратьевну назвать внука Сергеем (она не любила соседа с таким же именем):
– Аграфена Панкратьевна, не бойтесь, это будет добрый, хороший человек!
Но вражда матери Сергея со свекровью и неприязнь к нелюбимому мужу все нарастали, и наконец с трехлетним Сергеем на руках Татьяна ушла из есенинского дома к своим родителям. Дед с бабкой взяли внука к себе на воспитание, а дочь послали в Рязань, зарабатывать на жизнь для себя и для ребенка. К тому времени Федор Андреевич разорился, две его баржи сгорели, остальные унесло половодьем. Другая бабушка Сережи – Наталья Евтеевна, в отличие от певуньи и плачеи Аграфены, была женщиной кроткой и набожной. «Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: „Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст“» (С. Есенин. Из «Автобиографии». 1924 г.).
Память ребенка сохранила картины жизни в доме, где часто собирались странники, слепцы, пели духовные стихи о Голубиной Книге, о райском вертограде, о Лазаре, о заступнике крестьянском Миколе, о Женихе Светлом, Госте из Града Неведомого. Сам полуграмотный, дед пытался учить внука читать, а по субботам и воскресеньям рассказывал ему по памяти притчи из Священной истории. Через четверть века внук с благодарностью вспоминал:
- Наивность милая
- Нетронутой души!
- Недаром прадед
- За овса три меры
- Тебя к дьячку водил
- В заброшенной глуши
- Учить «Достойно есть»
- И с «Отче» «Символ веры».
- Хорошего коня пасут.
- Отборный корм
- Ему любви порука.
- И, самого себя
- Призвав на суд,
- Тому же самому
- Ты обучать стал внука.
В повести «Яр» двадцатилетний Есенин изобразил деревенского дурачка, который катается на хворостине и задает землякам всяческие загадки.
« – Эх, мужик-то какой был! – сказал, проезжая верхом, старик. – Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался… Дотошный был. Все пытал, как земля устроена… „Это, грил, враки, что Бог на небе живет“. Попортился. А може, и Бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили азбуки узнать, а болей не моги».
В отрывке угадываются какие-то приметы судьбы самого деда, которого обучали у дьячка за «овса три меры», и несколько самоотстраненные религиозные сомнения молодого поэта, и что, может быть, самое главное – явное соотнесение своего облика с обликом деревенского юродивого, рехнувшегося «с думы», то есть от слишком глубоких и дерзких мыслей. Многие воспоминания родных и земляков о детстве Есенина как бы сфокусированы на одном: «У Татьяны сын какой-то не такой», «не от мира сего», «он не такой, как мы. Он Бог его знает кто». Да и прозвище от деда Никиты – «монах» – время от времени мелькает в воспоминаниях земляков применительно к поэту.
А жизнь его в доме бабки и деда складывалась не просто. Вроде бы любила бабушка Наталья золотоголового внука, и нежности ее не было границ, мыла его по субботам, стригла ноготки, гарным маслом гофрила голову, расчесывала кудри деревянным гребешком. Но бабка – бабкой, а мать – матерью. Рос мальчонка без материнской любви.
Сиротство Есенина при живых родителях в какой-то степени всегда затушевывалось литературоведами. Ну про отца еще писали. А про мать – поскольку сын в стихах 1924–1925 годов создал почти общенародный культ матери, ждущей сына и страдающей о нем, – есениноведы долгое время предпочитали умалчивать.
Видимо, всякого рода этические причины до смерти матери удерживали и авторов мемуаров, и издателей от публикации подробностей из жизни есенинского рода. Ну а по инерции, оглядываясь на еще многочисленную в 1960–1970-е годы есенинскую родню, литературоведы не торопились осмысливать всю сложность душевного склада поэта, исходящую от семейной драмы его родителей.
Знакомая Есенина по московской жизни двадцатых годов Софья Виноградская вспоминала в 1926 году со слов поэта: «Мать свою он в детстве принимал за чужую женщину, и, когда она приходила к деду, где жил Есенин, и плакалась на неудачи в семье, он утешал ее: „Ты чего плачешь? Тебя женихи не берут? Не плачь, мы тебе найдем жениха“».
То, что это не выдумка, а суровая правда, подтверждают и воспоминания сестры поэта Екатерины: «Мать пять лет не жила с нашим отцом, и Сергей все это время был на воспитании у дедушки и бабушки Натальи Евтеевны. Сергей, не видя матери и отца, привык считать себя сиротою, а подчас ему было обидней и больней, чем настоящему сироте. Бабушка Наталья Евтеевна часто кормила его потихоньку от снох, на всякий случай, чтобы не вызвать неприятности».
Получается так, что Есенин, как и Лермонтов, в первые годы сознательной жизни воспитывался не матерью, не отцом, а бабушкой. Сиротство при живых родителях, безусловно, сказалось на его душевном облике. Впечатлительность, душевная хрупкость, лермонтовский комплекс одиночества, преодолеваемый напускной дерзостью, своеобразным деревенским «юнкерством», за маской которого скрывался целомудренный и замкнутый мир будущего поэта, – вот, видимо, суть есенинского детства и отрочества. В 14 лет, как вспоминает Николай Сардановский, Есенин наизусть выучил «Мцыри». Такой подвиг можно было совершить только от необыкновенной любви к герою поэмы и от сознания братской близости к нему – одинокому, ранимому, беспредельно обиженному судьбой отроку-монаху. А тут еще по-деревенски грубые дядья: ну представьте себе, чтобы трехлетнего ребенка посадить на лошадь без седла и сразу пустить в галоп! «Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку». Тут очумеешь. От этого и нервные припадки можно заработать, и заиканье получить, не говоря уже о том, что сломать шею или руки-ноги мальчонке ничего не стоило. А дядя Саша брал дитенка в лодку, отъезжал от берега, раздевал и бросал, как щенка, в воду, пока тот, неумело побарахтавшись, не начинал захлебываться. Дядя Саша при этом кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты годишься!» Стерва у него было словом ласкательным.
Дядьям и в голову не приходило, что их брат Петя стал припадочным из-за того, что отец его, восьмилетнего, спрятавшегося из-за какой-то проказы на чердак, в приступе грубого гнева сбросил с чердака и на всю жизнь искалечил психику ребенка. Наверное, когда Есенин рисовал образ юродивого в повести «Яр», он думал и о себе, и о несчастном дяде Пете, который, как вспоминает Екатерина, «был первым другом Сергея, он учил его плести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки». Поэтому, творя легенду о себе, Сережа Есенин старался представить себя коноводом, вожаком, лидером, как бы мы сейчас сказали, во всех своих автобиографиях. Он всюду подчеркивает свою силу и ловкость, любит вспоминать, как дрался со сверстниками, как был «средь мальчишек всегда герой», как удачливо ловил рыбу, как ловко – ловчее всех! – лазал по деревьям к птичьим гнездам, как «обносил» огороды, играл в бабки, плавал за подстреленными утками. Но маска деревенского «супермена» на самом деле скрывала легко ранимую душу и отнюдь не богатырское тело. В ранних стихах он не единожды проговаривается о своей некрестьянской хрупкости, о физической и душевной утонченности, что, конечно, отличало его от обычных константиновских ребятишек.
- Рыжеволосый внучонок
- Щупает в книжке листы,
- Стан его гибок и тонок,
- Руки белей бересты.
Нечто женственное есть в этом внучонке, и даже его рыжеволосость – признак некой физической утонченности, почти слабости. (Недаром рыжеволосых людей и блондинов на нашей земле становится все меньше, они почему-то вырождаются, их генетическая система не выдерживает давления современной цивилизации.) В разговорах поэт признавался, что из-за физической слабости ему частенько приходилось в детстве терпеть неудачи. И. Розанову он как-то рассказал, что и дед и бабка «видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить». Сверстник поэта Василий Ефремов вспоминает: «Был горяч, куда там… и все время драки затевал, ему же поэтому больше всех и доставалось». А переплывши однажды реку с двумя товарищами, Сергей долго сидел на песчаном откосе и отплевывался кровью, видимо, от переутомления. Бабушка знала о слабостях своего любимца и укрепляла его здоровье всеми средствами.
- С глазу ль, с немилого ль взора
- Часто она под удой
- Поит его с наговором
- Преполовенской водой.
Да никакой он не коновод, не драчун, не атаман – все это он придумает о себе году в 1919–1920-м, а пока, в 1915–1916-м, он еще не стесняется говорить о своей почти девичьей стати, о милой ему немужественности, о природной изнеженности:
- Ждут на крылечке там бабка и дед
- Резвого внука подсолнечных лет.
- Строен и бел, как березка, их внук,
- С медом волосьев и бархатом рук.
(Впоследствии Есенин будет сравнивать «березку» лишь с женщиной или с девушкой!) И уже непонятно, то ли бабушка держит на руках женственного внучонка, то ли юная Дева Мария своего Сына, лишенного по замыслу Божию облика мужественности:
- С тихой улыбкой на тонких губах
- Держит их внука она на руках.
Отроческая замкнутость, созерцательность, душевная исключительность – все это определило во многом и тон и тематику поэзии Есенина на рубеже 1916–1917-го годов.
- Уже давно мне стала сниться
- Полей малиновая ширь,
- Тебе – высокая светлица,
- А мне – далекий монастырь.
«Константиновский Мцыри» через поколение как бы повторяет монашеские настроения деда Никиты.
- Полюбил я тоской журавлиного
- На высокой горе монастырь.
Пахота и жатва – основные вехи русской крестьянской страды – обойдены поэзией Есенина. Он живет более светлыми, более праздничными чувствами и картинами: сенокос, хоровод, гулянка, песня, молитвенная служба. В этих картинах нет некрасовских, надрывающихся под тяжестью труда пахарей, нет несжатых полосок. Поэту, как он вспоминает в позднейшем стихотворении, гораздо ближе сад в цветенье, нежели необходимое для жизни картофельное поле.
- Отцу картофель нужен,
- Нам был нужен сад.
- И сад губили,
- Да, губили, душка!
- Об этом знает мокрая подушка
- Немножко… Семь…
- Иль восемь лет назад.
Далекий от сына, скептически относящийся к его «стихоплетству» и во многом не понимающий его отец становится губителем столь нужной для отроческого сердца красоты – цветущего вишневого сада.
Всю свою жизнь, любя родину и крестьянство, Есенин тем не менее чувствовал, что многое и отделяет его от тех,
- …Что в жизни сердцем опростели
- Под веселой ношею труда.
Он не брезговал этим трудом, не унижал его, называя эту ношу даже «веселой». Он просто никак не хотел и не мог «опростеть» сердцем и душою. Не желая опрощения, он бежал в книги, в песни, в кашинскую усадьбу на театральное представление. Потому и сочинил легенду о деде-старообрядце, чтобы усложнить свое происхождение, выделить себя из окружения «опростевших», даже любя их и осознавая свою кровную связь с ними.
Не скандалистом и сорванцом рос мальчик Есенин, а скорее мечтателем. Мечтал о любви, тайне, дружбе. Эта мечтательность порой оборачивалась для него тяжким осознанием своего изгойства, и он сам начинал обвинять себя в этом.
- С каждым днем я становлюсь чужим
- И себе, и жизнь кому велела.
- Где-то в поле чистом, у межи,
- Оторвал я тень свою от тела.
И так всю жизнь. Вплоть до предсмертного:
- Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
- Синь очей утративший во мгле…
Усталый от жизни, почерневший, замученный гонениями, предательством, тоскою, он по-прежнему не может опростеть сердцем…
Образ «забияки и сорванца» стал соблазнительным для Есенина значительно позднее – после жизни в Петрограде, а потом в Москве, когда жестокие нравы революционной эпохи как бы вынудили его сделать ставку на «хулиганство», «пугачевщину», «разбойность». Ему хотелось в детстве и отрочестве быть гораздо отчаяннее и бесстрашнее, чем он был на самом деле, но об этом он всегда думал с затаенными чувствами ужаса и восторга:
- Я одну мечту, скрывая, нежу,
- Что я сердцем чист.
- Но и я кого-нибудь зарежу
- Под осенний свист.
…Это стихи 1915 года, до них еще долго жить, а пока после пятилетнего бунта мать поэта возвращается в дом к мужу. Бунтовала она отчаянно. Судилась с Александром Есениным, требовала развода, требовала разрешения на получение паспорта, даже прижила ребенка на стороне. Муж был неумолим. Закон защищал его права властвовать над женой. Татьяна ничего не смогла добиться. Муж не дал ей развода. То ли он все-таки любил свою строптивую жену, то ли считал развод позором для себя, но в конце 1904 года, когда Сергей уже пошел учиться в Константиновское земское четырехгодичное училище, семья объединилась. Мальчику пришлось вернуться в отцовский дом к другой бабушке и к женщине, которую надо было называть своей матерью.
«Когда Сергей вернулся с матерью в наш строгий и угрюмый дом, где хозяйствовала другая бабушка и другая сноха (жена нашего дяди по отцу), он до смерти бабушки Аграфены не мог привыкнуть к нашему дому и часто из школы уходил к Титовым» (из воспоминаний Е. Есениной).
Учебный день в училище начинался с «Отче наш». Закон Божий преподавал священник Иван Смирнов, пятьдесят (!) лет прослуживший в Константиновском приходе. Он венчал родителей поэта, крестил его самого, и ему пришлось через много лет служить панихиду по рабу Божию Сергею, потому что отец Иван так и не поверил в то, что крещенный им его ученик наложил на себя руки.
В Константинове Сергею жилось тогда довольно легко и беззаботно. В доме хозяйничали три женщины, но у семьи не было ни земли, ни лошади, чтобы пахать, сеять, боронить, жать, скирдовать, возить снопы на гумно, а зерно в амбары. Единственно, где требовались его руки, – в лугах во время сенокоса. И эта работа была Сергею по душе, как никакая другая.
«Причудлив вид с горы на покосные луга в сумерки. Разбросанные то тут, то там покосные станы походят на цыганские таборы. Мерцают вдали огоньки многочисленных костров, и в тихую погоду дым от них, расстилаясь по всему лугу, голубой вуалью окутывает копны, которые издали кажутся шапками огромного войска, а стоящий вдали лес, застланный снизу дымом, как будто плывет по воздушному морю».
Так выразительно вспоминает о сенокосной поре Александра Есенина, как бы еще раз подтверждая особую художественную одаренность всех Есениных. В летние каникулы Сергей с утра до вечера пропадал в лугах или на Оке, грелся у костров, рыбачил, собирал утиные яйца и конечно же начинал потихоньку прислушиваться к самому себе, непроизвольно складывая в рифму свои мысли и чувства и про себя напевая их. Его школьный друг Н. Калинкин рассказывал, как однажды ученики узнали, что Есенин пишет стихи. Сергей показал их как-то учителю Власову. Учитель был суров:
– Ты, Сережа, учись. А сочинять всякие глупости – это не твое дело. Рано еще тебе…
Несмотря на то, что Сергея однажды за баловство оставили на второй год, он закончил сельское училище с похвальным листом. Тот же Николай Калинкин вспоминает, как они завершили учебу: все ребята серьезно готовились к выпускным испытаниям, несколько человек, в том числе и Сергей, сдали экзамены на пятерки. Когда вручали похвальные листы и подарки, священник Иван Смирнов объявил: особо отличившиеся ученики Есенин, Воронцов и Данилин рекомендованы для поступления в Спас-Клепиковскую учительскую школу или в Рязанское духовное училище.
Дома у Татьяны Федоровны случился настоящий праздник. Неожиданно из Москвы приехал отец Сергея с гостинцами и двумя красивыми застекленными рамками. Одна для сыновнего похвального листа, другая – для свидетельства об окончании сельской школы. Обе награды отец повесил на стенку. А вечером за столом обсуждали, что делать с Сергеем дальше? Отец Иван настаивал на своем:
– Учиться Сереже надо дальше, учиться. Мальчик способный!
Так и порешили. Через несколько дней к есенинскому дому подъехала подвода, мать помолилась на лик Николы-угодника, собрала сыновние вещички в сундучок, села вместе с Сергеем на подводу, и неторопливая лошадка повезла их в Спас-Клепики.
В год окончания Есениным сельской школы отмечалось столетие со дня рождения Гоголя. По случаю юбилея дирекция народных училищ распорядилась в этот день освободить учащихся от учебных занятий, в стенах училищ отслужить панихиды по Николаю Васильевичу, раздать учащимся его портреты, а также поелику возможно и «отдельные сочинения его, существующие в дешевых изданиях». В Константинове по этому случаю был устроен праздник, и каждый выпускник школы получил по четыре книги – «Ночь перед Рождеством», «Старосветские помещики», «Вий», «Тарас Бульба». С той поры Гоголь стал для Есенина писателем, о котором в автобиографии 1922 года поэт записывает: «Любимый мой писатель». Не счесть гоголевских образов, строчек, словечек, намеков, которые растворены в его стихах и письмах… Знакомая поэта учительница Полина Гнилосырова вспоминает о том, как однажды она с Есениным поехала на подводе в Рязань за учебниками для школьной библиотеки. Сергей был за кучера, и, возвращаясь, возле угора, за которым начиналась деревня, он хлестнул кобылу вожжами.
– Прокатимся под уклон, Полина Сергеевна, чтобы в ушах звенело, а? – И погнал лошадей, крича: – И какой же русский не любит быстрой езды!
Учится Сергей в Спас-Клепиках в школе-интернате, как бы сказали сейчас, живет среди сверстников, как Лермонтов в юнкерском казарменном общежитии, а все никак не становится похожим на всех, никак не подладиться к бурсацким правилам жизни, все больше и больше с каждым месяцем выделяется он из толпы собранных со всей рязанской земли подростков. Свидетельства тех времен при всей их разноречивости сходятся в одном: Сергей отличался от других учеников повышенной чувствительностью, уязвимостью, интеллигентностью.
Вскоре после начала учебы он приехал с константиновскими мужиками обратно в деревню. Соврал, что распустили всю школу, но на другой день показал матери следы от побоев на теле и заявил, что больше в школу не воротится. Бунт был подавлен, но стало ясно, что Сергей в школе живет на положении «белой вороны». Учитель литературы Е. М. Хитров вспоминал, что Есенин отличался «нежностью своего характера», «у него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном».
Учился Есенин хорошо, и учителя поручили ему проверять уроки у всех лодырей, которых оставляли без обеда за несделанные домашние задания. Естественно, что такое возвышение над ними своего однокашника лодырям не нравилось, и на этой почве частенько возникали драки.
Способности к стихосложению не прибавляли Есенину авторитета. Однокашник Сергея Н. Сардановский вспоминает: «Его намерения и способности писать стихи ничуть не возвышали его в наших глазах, а его заносчивость при оценке своего таланта и его постоянные разговоры о своих стихах казались нам скучными». Уязвленное самолюбие, непризнание его талантов, драки и ссоры – все это развивало в отроке мнительность, замкнутость, склонность к сопротивлению и ощущение своего особого пути, особого призвания. Вольно или невольно, но в нем все явственней проступали странности характера, сближающие его с юродивым, свихнувшимся от чтения книг, из будущей повести «Яр». Домашние стали обращать внимание на эти странности:
«К Рождеству на каникулы приехал Сергей… Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку… Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него, в избе никого не было, в это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:
– Ты что смеешься-то?
– Да так, смешно, – ответил Сергей.
– И ты часто так смеешься, один-то?
– А что? – спросил Сергей.
– Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А от чего? Все книжки. Дьячок-то какой был!..
…Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но ничего из этого не выходило» (из воспоминаний Е. Есениной).
Летом Сергей плел младшей сестре Шуре платья из цветов, разных фасонов шляпы, приносил ее домой всю в луговых цветах. Ходил к Поповым играть в крокет либо на берег Оки – созерцать бескрайнюю ширь лугов, черную кромку леса, голубую, отражающую небо и облака, извилистую ленту реки. Любил прогуляться по деревне, одевшись в свой хороший, хотя и единственный костюм. Стеснялся сестры Кати, когда она в потрепанном пальтишке прибегала к Поповым поглядеть на чудную игру в крокет:
– Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой, – тихо, чтобы не слышал никто вокруг, говорил он огорченной сестренке.
Была в нем эта неприятная черта: стеснялся своих родных, когда они появлялись в «интеллигентном» обществе на вечерах у священника Ивана Смирнова, где молодежь порой ставила простенькие пьесы или разыгрывала музыкальные концерты. Однажды мать с дочерью Катей в тайне от него проникли на представление. Сергей увидел их и досадливо нахмурился.
– Уходите сейчас же, а иначе я уйду! – И настоял на своем.
Так же ревниво и настороженно оберегал юноша свои отношения с семейством местной молодой помещицы Лидии Кашиной от посягательств и насмешек домашних. К самой Лидии Кашиной, несмотря на то, что она, мать двоих детей, замужняя женщина, была на десять лет старше его, Есенин, несомненно, испытывал чувства более глубокие, нежели почтительные или уважительные. Есенин любил бывать в кашинском доме, богатом и красивом, обрамленном декоративными кустарниками и цветочными клумбами. Каждое лето Лидия Кашина приезжала в деревню с детьми, но без мужа. По деревне ходили слухи, что ее муж – очень важный генерал, но она не хочет с ним жить. А потому молодая барыня развлекалась в деревне, как только могла. В усадьбе появились породистые лошади, на которых барыню учил кататься верхом хмурый наездник. Ее нередко видели в костюме амазонки во время верховой прогулки по полям. Она любила играть с гостями в крокет, в ее доме ставились спектакли. Однажды друг Есенина Тимоша Данилин, приглядывавший за детьми Кашиной, пригласил в усадьбу Сергея. С тех пор шестнадцатилетний поэт и зачастил в барский дом, поразивший его воображение.
Татьяне Федоровне очень не нравилось, что ее сын пропадает в барской усадьбе. Она спокойно относилась к тому, что он флиртовал с учительницами или коротал вечера в доме священника, но – барыня! Замужняя, старше его намного, да с двумя детьми! Нет, это не дело!
– Опять у барыни пропадал? – сердилась мать. – Что вы там делаете?
– Читаем, играем, – хмуро отвечал Сергей. А иногда и огрызался: – Какое тебе дело, где я бываю!
Мать ворчала:
– Не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь, нашла с кем играть!
Кульминацией этого странного и таинственного романа была, видимо, встреча Есенина с Лидией Кашиной летом 1917 года, после того как хозяйка усадьбы уже отдала свой двухэтажный дом в Константинове деревенскому миру, а сама переехала жить в другую усадьбу – в Белый Яр, на луговую сторону Оки, в нескольких верстах от Константинова. Однажды утром Сергей сказал домашним, что уезжает в Яр с барыней. После обеда в округе началась настоящая буря, ливень хлестал тяжелыми струями по стеклам, старые деревья ломались под порывами бешеного ветра, сверкала молния, и раскаты грома то и дело проносились над разбушевавшейся Окой. От Оки вдруг раздались крики: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать Сергея бросилась вон из избы. Сестренки остались дома. Чтобы как-то отвлечься, в мыслях о Сергее Катя стала сочинять стихи:
- Не к добру ветер свистал,
- Он, наверно, вас искал,
- Он, наверно, вас искал
- Окол свешнековских скал.
Татьяна Федоровна вернулась вся вымокшая и сердитая: на реке оборвался паромный канат, и паром унесло к шлюзам. Но Сергея там не было. Он вернулся поздно ночью, никому ничего не объяснив, взял полушубок и ушел ночевать в амбар. Воспоминания об этом дне, о встрече с Лидией Кашиной, видимо, отразились впоследствии в поэме «Анна Снегина». Но не только:
- Не напрасно дули ветры,
- Не напрасно шла гроза.
- Кто-то тайный тихим светом
- Напоил мои глаза.
В память о том лете и о каком-то прощании, ведомом только ему одному, Есенин через год написал стихотворение, посвященное Лидии Кашиной:
- Зеленая прическа,
- Девическая грудь,
- О тонкая березка,
- Что загляделась в пруд?
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- И мне в ответ березка:
- «О любопытный друг,
- Сегодня ночью звездной
- Здесь слезы лил пастух.
- Луна стелила тени,
- Сияли зеленя.
- За голые колени
- Он обнимал меня…»
Лидия Кашина в отличие от героини поэмы «Анна Снегина» никуда не эмигрировала. После того как новая власть отобрала у нее усадьбу на Белом Яру, она переехала в Москву. Работала переводчицей, машинисткой, стенографисткой. Об отношениях ее с Есениным в то время можно судить по есенинскому письму осени 1918 года, адресованному Андрею Белому (Борису Бугаеву):
«Дорогой Борис Николаевич, какая превратность: хотел Вас очень сегодня видеть и не могу. Лежу совсем расслабленный в постели.
Черкните мне (если не повезло мне в сей раз), когда Вы будете свободны еще.
Любящий вас С. Есенин.
Адрес: Скатертный пер., д. 20.
Лидии Ивановне Кашиной для С. Е.».
Умерла Кашина в 1937 году и похоронена на том же Ваганьковском кладбище, где покоится и ее поэт.
«У нас все уехали на сенокос. Я дома. Читать нечего, играю в крокет. Немного сделал делов по домашности, – писал Есенин 7 июля 1911 года своему ближайшему другу по Спас-Клепикам Грише Панфилову. – Я был в Москве одну неделю. Купил себе книг штук 25. 10 книг отдал Митьке, 5 Клавдию… Остальные взяли гимназистки у нас здесь в селе». Итак, Есенин уже начинает делать вылазки в большой мир. Письма его той поры – а ему всего-то 15–16 лет – необыкновенно интересны. Они очень многое добавляют к внутреннему облику юноши, раздвоенного, мучительно ищущего свой путь в жизни, пытающегося нащупать ее цели и смысл. Он часто, но ненадолго влюбляется в девушек из учительских семей – то в Анну Сардановскую, то в Машу Бальзамову, пишет им письма искренние, трагические и мелодраматические одновременно, как бы желая вызвать сочувствие к своей судьбе в девичьих душах: «Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии?.. Или – жить, или – не жить?.. Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле…» (М. Бальзамовой, июль 1912 г.). Из другого письма ей же: «Я стараюсь всячески забыться, надеваю на себя маску веселия, но это еле-еле заметно… Ох, Маня! Тяжело мне жить на свете, не к кому и голову склонить… Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти. Потому что он меня проклянет, если это узнает».
Как раз в это время у Есенина происходит разлад с отцом: отец против того, чтобы сын пытался жить стихами. Он требует, чтобы Сергей пошел по его стезе, поступил в торговую лавку, имел надежный кусок хлеба. А в конце 1912 года Есенин, разочарованный охлаждением к нему Анны Сардановской, уязвленный, как ему показалось, насмешками над ним, вообще совершает отчаянный поступок, подтверждающий, насколько хрупкой и уязвимой была его натура:
«Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки, и… и теперь оттого болит моя грудь. Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена; я был в сознании, но передо мною немного все застилалось какой-то мутною дымкой…»
Словом, как пелось в популярном романсе тех лет, «Маруся отравилась». Но не следует думать, что это было лишь какой-то игрой или позой. Несомненно, в отрочестве и юности у Есенина наступали такие минуты, когда он с трудом справлялся со своими сомнениями, комплексами, слабостями, неудачами. «Небольшую, но ухватистую силу» поэт приобрел позже, после знакомства с Клюевым, научившим его надевать различные защитные маски, чтобы спастись от «страшного мира». С годами Есенин понял, что самая лучшая защита его поэтической души – это не воля и даже не талант, а умение носить ту маску, которая сегодня спасает тебя от посягательства корыстных и темных сил, жаждущих власти над беззащитным талантом. Итог этой многолетней внутренней работы сформулирован им в «Черном человеке»:
- В грозы, в бури,
- В житейскую стынь,
- При тяжелых утратах
- И когда тебе грустно,
- Казаться улыбчивым и простым —
- Самое высшее в мире искусство.
Первые его стихи 1912–1913 годов лишены всех масок, всей многомерности натуры, всех защитных средств, которыми он в совершенстве овладел позднее:
- Душно мне в этих холодных стенах,
- Сырость и мрак без просвета.
- Плесенью пахнет в печальных углах —
- Вот она, доля поэта.
В 1912 году он составил маленький цикл стихотворений и назвал его бесхитростно: «Больные думы». В них явственно прослеживается влияние Надсона, самой риторической части наследия Алексея Кольцова, поэзии Ивана Никитина и молодого Лермонтова. Названия стихотворений говорят сами за себя: «Звуки печали», «Мои мечты», «Слезы», «Брату Человеку» и т. д. Надсоном Есенин переболел очень быстро. Сергей Соколов – учитель Константиновской школы – вспоминает разговор с Есениным летом 1925 года:
«Заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах… Есенин слушал внимательно, а потом сказал:
– Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин – вот истинно русская душа…»
Весь цикл «Больные думы» вместе с другими стихами спас-клепиковского периода, написанными в 1910–1912-х годах, настолько несамостоятелен, подражателен, однообразен, что Есенин впоследствии никогда не вспоминал о них и не включал ни в один из своих сборников. Тем более парадоксальным кажется то, что несколько стихотворений: «Выткался на озере…», «Сыплет черемуха снегом…», «Дымом половодье…», подготавливая последнее Собрание сочинений, он датировал незадолго до смерти 1910 годом! Эти стихи – подлинные шедевры есенинской лирики, неизмеримо значительнее, нежели подражательные опыты из спас-клепиковской тетрадочки, написанной вроде бы гораздо позже.
Объяснение такому противоречию может быть только одно: ставя в 1925 году даты, Есенин, либо случайно, а скорее всего сознательно, для того чтобы внедрить в читательское сознание легенду о необыкновенно раннем созревании своего поэтического таланта, «прибавил возраста» нескольким любимым стихотворениям. Лишних два-четыре года. Но для того, чтобы написать их, он должен был знать не только народные песни, частушки и жестокие романсы, звучавшие в константиновской избе, прочитать не только Надсона и Кольцова, но еще и Пушкина с Гоголем, и Алексея Толстого, и, конечно, усвоить современную ему поэзию: Блока, Белого, Клюева. Не просто прочитать, но еще и прочувствовать, обдумать, сделать ее своей, а потом написать по-блоковски:
- Дуга, раскалываясь, пляшет,
- То выныряя, то пропав,
- Не заворожит, не обмашет
- Твой разукрашенный рукав.
И «Выткался на озере…», и «Подражание песне» перекликаются с этим стихотворением 1916 года, служат как бы подступами к нему.
- Опять раскинулся узорно
- Над белым полем багрянец,
- И заливается задорно
- Нижегородский бубенец…
Блоковский бубенец…
Глава третья
В Москву! В Москву!
Я люблю этот город вязевый…
С. Есенин
Москва. Август 1912-го – март 1915-го. В эти три московских года жизни начинающего поэта уместилось многое: работа в типографии ради хлеба насущного и роман с Анной Изрядновой, закончившийся рождением сына, флирт с социал-демократией и полтора года образования в университете имени Шанявского, признание в литературно-музыкальном Суриковском кружке и переписка с другом юности Гришей Панфиловым.
Первая встреча с «порфироносной вдовой», «городом вязевым», «сердцем России» произошла у него год назад. Есенин вспоминал, как он впервые бродил вокруг златоглавых соборов и дворцов Кремля, как возле Китайской стены попал в шумное чрево Никольского книжного рынка. С затаенным дыханием листал он тогда сборники русских былин, бережно ощупывал старые издания «Слова о полку Игореве», приценялся к заветным томикам Лермонтова, Некрасова, Кольцова…
И вот он снова в Москве, в комнатке у отца, в доме в Строченовском переулке. Он заходил в этот дом с тяжелым сердцем: отец не верил, что можно прожить на деньги, заработанные стихами. Ему казалось, что ничего путного из стихотворства не выйдет. Именно поэтому, получив впервые гонорар за стихи, Есенин отдал его отцу. Целых три рубля! Но эти рубли стали как бы доказательством его правоты в споре с отцом. Отец отнесся к «жертве» весьма спокойно, не счел ее священной и все равно не дал отцовского благословения на стихотворство… Это случилось чуть позже, в 1914 году, а пока летом 1912-го отец устроил сына в контору к своему хозяину с условием, что Сергей осенью поступит в учительский институт. Однако Сергей сразу же показал характер, ему не понравились конторские порядки, он не мог примириться с тем, что всем служащим конторы словно школьникам надо вставать, когда к ним заходит хозяйка. Через неделю он взял расчет и заявил отцу, что ни в какой учительский институт не пойдет и что сам будет искать себе место в жизни.
Из письма Грише Панфилову в Спас-Клепики: «Я вижу, тебе живется не лучше моего. Ты тоже страдаешь духом, не к кому тебе приютиться и не с кем разделить наплывшие чувства души… Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное. Я употреблю все меры, чтобы проснуться. Так жить – спать и после сна на мгновение сознаваться, слишком скверно. Я тоже не читаю, не пишу пока, но думаю».
Письма Есенина к Грише Панфилову – удивительная страница жизни поэта. Он посылал их из Москвы. Было ему тогда 17–18 лет. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Блока (да кого угодно возьмем – Гоголя, Некрасова, Тютчева) мы не найдем в таком юном возрасте столь глубоких размышлений о самых сложных тайнах бытия, совести, человеческого призвания, религиозного поиска. Диапазон сомнений и чувств в письмах чрезвычайно широк – от наивности до мудрости, от глубочайшей веры до отчаяния, от мучительного самоанализа до растворения своего «я» в море христианского чувства. Именно последнее обстоятельство сыграло свою роковую роль: содержание писем не исследовалось всерьез.