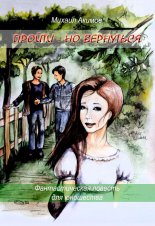Сергей Есенин Горький Максим
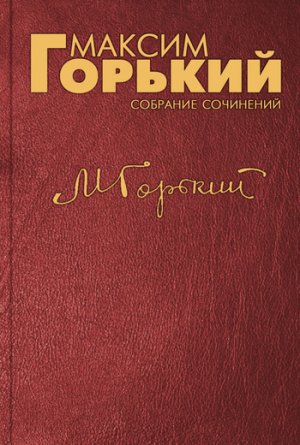
Есенин по-человечески сдружился со своими новыми приятелями и находил во всей этой кутерьме то облегчение, которое никогда бы не принесло ему одиночество. Сюда примешивалось еще одно обстоятельство: в «догутенберговскую эпоху» (печатать книги во время бумажного голода не было возможности) отстоять себя как первого в России поэта наилучшие шансы давала именно общая работа в группе, отличающейся наибольшей скандальностью.
Есенин включился в эту игру. Для него она сплошь и рядом оборачивалась то драматическими, то комическими ситуациями.
Приятели «дэндировали», а для него все было проще: «Гусей хочется подразнить».
И дразнили.
Даже цилиндры Есенина и Мариенгофа служили дразнилкой – цилиндры, полученные в одном из петроградских магазинов (на получение обычной шляпы необходим был специальный ордер). Кто бы еще по тем временам осмелился надеть на голову цилиндр, не рискуя быть застреленным вечером в подворотне, как «буржуй», у которого есть чем поживиться?
В общем деле необходим и общий стиль поведения. Компания стремилась поставить свое дело на широкую ногу и маршировала с ходатайствами за бумагой, деньгами, помещением то к заведующему Центропечатью Борису Федоровичу Малкину, то в Моссовет к Каменеву, то в Кремль к Андреевой.
«Марья Федоровна в глухом длинном шелковом платье, – вспоминал через много лет Мариенгоф, – была как вылитый из чугуна памятник для собственной могилы. Устроившись в удобном кресле неподалеку от Горького, она записывала каждое его слово в сафьяновую тетрадь. Вероятно, для истории. …То, что говорили другие, в том числе и я, она не записывала. По молодости лет это приводило меня в бешенство…»
Несмотря ни на что, дела имажинистов в эти тяжелейшие два года продвигались очень и очень неплохо.
У Малкина подписывались заказы на издания поэтических сборников. В Моссовете было выбито разрешение на создание книжной лавки, которая открылась на Большой Никитской. Шершеневич и Кусиков торговали книгами в Камергерском переулке, Есенин с Мариенгофом также встали за прилавок. В лавку свозились книги из оставленных библиотек, из разоренных квартир бежавших или арестованных. А осенью 1919 года была зарегистрирована «Ассоциация вольнодумцев в Москве». По сему случаю была получена специальная бумага с разрешением «иметь отдельную печать» от Анатолия Луначарского.
Интересная это была Ассоциация. Текст устава гласил, что членами ее могут бьггь «поэты, беллетристы, композиторы, режиссеры театра, живописцы и скульпторы, а равно лица, приносящие активную пользу Ассоциации…». Обращает на себя внимание тот факт, что Есенин привлекал в эту «Ассоциацию» совершенно разных людей, готовых идти за ним и никоим образом не связанных с имажинистской братией.
Кроме Есенина, Мариенгофа и Рюрика Ивнева, устав Ассоциации подписали Иван Старцев и не менее «талантливый» стихотворец Матвей Ройзман, а также Марк Криницкий (о бездарности которого Есенин позже говорил в одном из писем), Вадим Шершеневич, старый приятель, «пролет-поэт» Михаил Герасимов и группа лиц, не имевших никакого отношения к литературе, – предприимчивый делец, зав. отделом полиграфического отдела ВСНХ А. Сахаров, А. Силин – бухгалтер и фактический распорядитель литературного кафе «Стойло Пегаса», которое было собственностью Ассоциации, старый пензенский друг Мариенгофа – Гриша Колобов, работавший в таких организациях, как ВЧК и транспортно-материальный отдел в ВСНХ…
Но одно имя среди подписавших устав обращает на себя особое внимание: Я. Г. Блюмкин.
Это был один из приносящих, так сказать, большую пользу Ассоциации. Есть туманные сведения о его стихотворчестве. Неизвестно, что это были за стихи, в данном случае скорее можно говорить о самом Блюмкине как о персоне авантюрного романа, хотя и вовсе не оригинального по тем временам.
В Ассоциацию этот «герой своего времени» попал «с корабля на бал», через несколько месяцев после дачи показаний в ВЧК по делу об убийстве Мирбаха. С Есениным он был знаком еще в период близости поэта к партии эсеров. Вполне возможно, что Есенин, привлекая Блюмкина в Ассоциацию, воспринимал его (или делал вид, что воспринимает) в качестве телохранителя имажинистской братии. Ощущение (хотя бы и сиюминутное) безопасности в то жестокое время значило многое. При всем том очень скоро пришлось убедиться, что названный «телохранитель», вынимающий револьвер где попало, произносящий угрожающие фразы и разражающийся воплями «Убью!» и т. д., является на самом деле отчаянным трусом, что неоднократно проявлялось во время случайных уличных встреч с агентами Лубянки или УГРО, охотившимися на бандитов.
Подобного рода уличные встречи были не редкостью. Вечером на улице можно было нарваться и на «живых покойников» – грабителей, использовавших в «работе» простыни наподобие могильных саванов. Янька Кошелек, Сабан, Гришка Адвокат, Сережка Барин наводили ужас на жителей Москвы. Впрочем, трудно сказать, кто внушал больший ужас – бандиты, руководствовавшиеся принципом «кошелек или жизнь», или чекисты – апологеты революционного правосознания.
Что же касается блюмкинского стихотворчества и его дружбы с поэтами… тут ничего странного нет.
Любители искусства из ВЧК частенько совмещали «приятное с полезным», посещая литературные и артистические кафе и салоны, заводя дружеские отношения с известными литераторами, режиссерами, артистами. Это давало им возможность держать под негласным контролем неуправляемую полубогемную среду, в которой циркулировали слухи, сплетни и новости, подчас дающие «железным рыцарям революции» ценную информацию. В данном случае объект наблюдения был вполне подходящий – известный в литературных и общественных кругах поэт, некогда связанный с левыми эсерами. Блюмкину тут, как говорится, и карты в руки.
Но это лишь одна сторона дела. Была и другая, не менее, а может быть, и более важная.
Мы уже отмечали, что у новой власти на счету был каждый талантливый литератор, зодчий, музыкант, актер, живописец. Литераторы занимали в этом ряду особое положение. Причем не в качестве «национального достояния», а в качестве соратников или противников в жестокой политической борьбе за торжество определенной идеологической линии, то есть в итоге – в борьбе за власть.
И, наконец, еще один немаловажный аспект: в ту эпоху, когда стихи печатались на обратной стороне продовольственных карточек, самые отъявленные палачи давали выход своим эмоциям в литературном творчестве.
Кровавый чекист Лацис (Судрабс) пробовал свои силы и в драматургии. Известен по крайней мере один из его опусов – «Последний бой. Революционная хроника в пяти действиях, семи картинах».
Драматургические опыты Раскольникова…
Стихотворчество Вячеслава Менжинского…
Стихотворчество Феликса Дзержинского…
«О значении поэзии Ов. Туманяна» – исследование А. Мясникяна, руководителя ЧК Армении.
Пианист-виртуоз М. С. Кедров, начальник Особого отдела ВЧК.
Еще совсем недавно в наших «интеллигентских» кругах принято было восторгаться упомянутыми «культурными» людьми.
Этот восторг донесли до наших дней их современники – литераторы, славившие «подметание человеческой говядины».
«Вождями Октябрьской революции были идеалисты-интеллигенты с бородками второй половины XIX века (Ленин, Троцкий, Луначарский, Бухарин и др.).
Кончились бородки – кончилась революция».
Это из воспоминаний Анатолия Мариенгофа.
- Нет большей радости, нет лучших музык,
- Как хруст ломаемых костей и жизней,
- Вот отчего, когда томятся наши взоры
- И начинает бурно страсть в груди вскипать,
- Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
- Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»
Это стихи члена коллегии ВЧК А. В. Эйдука, напечатанные в тифлисском сборнике «Улыбка Чека».
«Как-то Эйдук засиделся у меня до 12-ти ночи. Было что-то спешное. Мы сидели у письменного стола, – вспоминал бывший торгпред в Латвии Г. Соломон. – Вдруг с Лубянки донеслось: „Заводи машину!“ И вслед за тем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились как бы в сладкой истоме, и каким-то нежным и тонким голосом он удовлетворенно произнес, взглянув на меня:
– Наши работают.
– Кто? Что такое?
– Наши. На Лубянке… – ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы поднимая и спуская курок револьвера. – Разве вы не знали? – с удивлением спросил он».
«Пантократор» подвел черту под периодом «поворота мира» и полета «скифской» вольницы. Конница опустила копыта. И единственное, что оставалось в душе и требовало выхода в слове, – нестерпимая жажда жизни и любовь ко всему живому в холодном и чуждом мире, лишившем человека права на существование.
Животный мир – последнее пристанище души поэта, ибо люди стали хуже зверей. Среди «братьев наших меньших» невозможно то, что творится в мире людском. Если где и осталось чувство любви, жалости, добра, то среди псов, кобыл, коров… обреченных на уничтожение.
- Утром в ржаном закуте,
- Где златятся рогожи в ряд,
- Семерых ощенила сука,
- Рыжих семерых щенят.
- До вечера она их ласкала,
- Причесывая языком,
- И струился снежок подталый
- Под теплым ее животом.
Эта непритязательная история о собаке, чьей радости материнства хватило всего лишь на день – от утра до вечера, поначалу кажется жанровой сценкой в духе старых художников-реалистов. И лишь с третьей строфы проступает нота тревоги, доходящая до высшего предела в последующем четверостишии. Здесь, в середине, убыстряется темп в такт шагам собачьих лап: «По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать…» Далее – обрыв. Пауза. Реалистическая картинка испаряется, и читателя, слушателя обдает ледяным холодом от кругов, идущих по воде – последнего пристанища новорожденных кутят… Остается только ощущение бесконечной усталости, которое в пределах одной строфы сменяется ощущением боли, безнадежности. И когда скрывается месяц, лишь поманив призрачной надеждой, что несчастная мать сможет хоть в небесной выси увидеть свое утопленное дитя, только горестный собачий вой оглашает окрестность да в слезящихся глазах отражается свет бесстрастных светил.
- И глухо, как от подачки,
- Когда бросят ей камень в смех,
- Покатились глаза собачьи
- Золотыми звездами в снег.
Художники Анненков и Осмеркин вспоминали, что не могли сдержать слез, когда Есенин читал им «Песнь о собаке». Не отрываясь, со слезящимися глазами, слушал ее позже, в Берлине, и Горький.
«Песнь о собаке» писалась, когда люди в тщетной надежде согреться топили дома мебелью и книгами, когда трупы умерших от голода лежали в подворотнях, когда заградительные отряды не пропускали в голодающие города ни одного мешка с хлебом, когда по ночам не прекращались расстрелы в подвалах ЧК. Когда нервы совершенно притупились и люди стали привыкать к этой нежити. Когда даже слухи не оказывали уже никакого будоражащего действия, а истерический крик «все дозволено!» стал заповедью многих и многих, в первую очередь представителей «творческой интеллигенции».
Холодная комната в Богословском переулке – совместное пристанище с Мариенгофом. Тверская, 18 – кафе Союза поэтов «Домино». Столовая возле Газетного, где кормили кониной. Книжная лавка на Никитской. Обычный есенинский маршрут того времени.
На Мясницкой, от Богословского до Красных ворот почти на каждом шагу лежали лошадиные мертвые туши. Вороны, слетавшиеся на пиршество, оглашали своим карканьем пустынные переулки, размахивая черными крыльями. Медленно падал снег, словно пытаясь скрыть жуткую картину от человеческих глаз.
Есенин с Мариенгофом добредали до дома, входили в комнату, где температура не поднималась выше нуля. Снег на шубах не таял, и друзья тайком от соседей и домоуправа включали электрическую грелку, дабы не замерзали пальцы и можно было водить пером по бумаге.
На этом бытовом фоне рождались «Кобыльи корабли». Но отражение его в поэме исчерпывается уже в первой строфе. Именно в «Кобыльих кораблях» впервые зазвучала нота, на которую позже будут настроены «Сорокоуст», «Исповедь хулигана», «Волчья гибель», «Пугачев»…
Попранная и уничтожаемая ипостась земного мира являет человеку свой, дотоле неведомый ему, страшный лик. Если ранее ощущение слитности с природой возникало в есенинских стихах в ореоле первобытной радости, торжества плоти, языческого поклонения земному бытию, то теперь разрыв этой завязи оборачивается наступлением хаоса, мрака, проявлением звериной жестокости, исходящей от древнейших основ человеческой души.
«Разве можно теперь любить, когда в сердце стирают зверя?..» Нельзя, и посему в «Кобыльих кораблях» мучительный вопль человека, изнемогающего от утери прежней гармонии, вторил конвульсиям природного мира, разрываемого по живому.
- Слышите ль? Слышите звонкий стук?
- Это грабли зари по пущам.
- Веслами отрубленных рук
- Вы гребетесь в страну грядущего.
- Плывите, плывите в высь!
- Лейте с радуги крик вороний!
- Скоро белое дерево сронит
- Головы моей желтый лист.
Глубину этой поэмы можно оценить, вспомнив окончание есенинских «Ключей Марии»: «То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: „Ной выпускает ворона“. Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем – образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности».
Лошадиные трупы с воронами, напоминающими собой черные паруса, – вот чем обернулись мечты Есенина об Инонии, о Преображении, Иорданской Голубице. Большевистская власть обманула? Он никогда особенно и не обольщался на сей счет – «Ключи Марии» ясно дают это понять. Просто воочию стало ясно, что великая революция духа, о которой мечталось, не состоится при его жизни на этой грешной, омытой кровью земле. Хуже того, то омерзительное кровопролитие и всеразрушение, которое он еще недавно оценивал как некое озорство, от которого взрослых детей легко отговорить, стало основой жизни, бытом, привычным делом.
«Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием» (Александр Блок).
Есенин тоже слушал «музыку революции»… Более того, сам создавал ее. Кого же теперь винить?
И к кому он сам обращает свое страстное: «Кто это? Русь моя, кто ты? кто?»
Не дает ответа. Только крик вороний вместо чудного звона колокольчика…
- О, кого же, кого же петь
- В этом бешеном зареве трупов?
- Посмотрите: у женщин третий
- Вылупляется глаз из пупа.
- Вот он! Вылез, глядит луной,
- Не увидит ли помясистей кости.
- Видно, в смех над самим собой
- Пел я песнь о чудесной гостье.
- Где же те? где еще одиннадцать,
- Что светильники сисек жгут?
- Если хочешь, поэт, жениться,
- Так женись на овце в хлеву.
- Причащайся соломой и шерстью,
- Тепли песней словесный воск.
- Злой октябрь осыпает перстни
- С коричневых рук берез.
Все, что некогда предавалось осмыслению в высших, разумных категориях, теперь было опущено на землю, в грязь земную и кровь человеческую. Кажется, ни единый солнечный луч более не озарит картину полного распада. Все залито мертвенным светом луны. Поэт, соединяющийся с овцой в хлеву, одновременно и выполняет свой завет «никуда не пойду с людьми», и заставляет вспомнить о рождении Спасителя, который в пору «злого октября» никого не спасет даже ценой собственной крови… Только поэту в дни всеобщей человекоубоины доступно, уже забыв о стремлении «пополам нашу землю матерь разломить, как златой калач», воплощать заповедь «не убий!» не в проповеди, а всем своим существом, отстраняющимся от остального холодного и чужого человечьего мира. Назад, к зверям, не знающим зла:
- Никуда не пойду с людьми,
- Лучше вместе издохнуть с вами,
- Чем с любимой поднять земли
- В сумасшедшего ближнего камень.
Мир есенинской поэзии в 1919–1920 годах явно менялся. Исчезала яркость и свежесть красок, пропадало ощущение прозрачности, одухотворения всего живого – черное, таинственное, пугающее вторгалось в поэтический мир, меняло музыкальный настрой, преображало мироощущение. Поэт уже не чувствовал себя пророком Третьего Завета и не рвался «на колею иную». «Горечь молока под ветхой кровлей» надо было испить до конца. И родным становится ему свист ледяного ветра, гуляющего по России, кровью умытой.
- Плюйся, ветер, охапками листьев, —
- Я такой же, как ты, хулиган.
Когда это стихотворение читалось с эстрады в богемных поэтических кафе, слушатели замирали. Едва ли кто-нибудь из них способен был дать себе отчет, почему их, которых уже, казалось бы, ничто не в состоянии пронять, начинала бить нервная дрожь.
- Русь моя, деревянная Русь!
- Я один твой певец и глашатай.
- Звериных стихов моих грусть
- Я кормил резедой и мятой.
- Взбрезжи, полночь, луны кувшин
- Зачерпнуть молока берез!
- Словно хочет кого придушить
- Руками крестов погост!
- Бродит черная жуть по холмам,
- Злобу вора струит в наш сад,
- Только сам я разбойник и хам
- И по крови степной конокрад.
Первое впечатление от «Хулигана» осталось незабываемым для невысокой худенькой женщины, впервые услышавшей есенинское исполнение на эстраде Политехнического, – Галины Бениславской.
«Он весь стихия, озорная, непокорная, – вспоминала она много позднее, кажется, уже в другой жизни, – безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.
Думается, это такой порыв ветра с дождем, когда капли не падают на землю, и они не могут и даже не успевают упасть.
Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.
Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.
Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесет неведомо куда…»
А в кафе «Домино» или в «Стойле Пегаса» посреди залитого светом зала разыгрывались действия под стать всей окружающей обстановке. Какой-то смертной тоской веяло от этого безудержного веселья посреди темной Тверской с мертвыми домами и заколоченными витринами магазинов.
На стене вывешены штаны – подарок Василия Каменского. Огромными буквами, перебегающими на потолок, выведены строчки стихов «собратьев по величию образа». В центре, конечно, есенинское: «О, какими, какими метлами это солнце с небес стряхнуть?» Гремит «румынский» оркестр, которому с замиранием сердца внимают сидящие за столиками спекулянты, уличные «дамы», бледные, кое-как одетые стихотворцы. Мариенгоф с эстрады «молится матерщиной», и тут же начинается перебранка с посетителями. «Не оскорбляйте публику, хамы!» – «К чертовой матери!» Кажется, сейчас дело дойдет до мордобоя, и тут вступает Есенин, оглушая зальчик диким свистом.
– Толя, смело бей ту сволочь! Я тебе помогу… Молчать, или спущу с лестницы!
И он же являл всем своим существом удивительный контраст с происходящим вокруг. Всюду появлялся в одной и той же теснейшей дружеской компании, в которой не было ни одного приличного поэта. Заставлял замолкать публику своими стихами, которая за секунду до этого освистывала Мариенгофа и Шершеневича. Та прощала ему любые оскорбления, сказанные перед началом чтения. В голодном и тифозном городе умудрялся находить подпольные столовки с очаровательными хозяйками вроде Надежды Робертовны Адельгейм. И выглядел в этих столовках, среди спекулянтов и ворья, совершенно инородным телом. Причем там, где хотел «пошуметь», поскандалить, «чтоб не забывали», попадал в тон своим «собратьям» и ничем, по сути, не отличался от них. Там же, где оставался самим собой, в ту же секунду привлекал всеобщее внимание, как нечто удивительное, явно не от мира сего.
«Видите ли, товарищи, я поэт гениальный…» Это Шершеневич исполнял давно заезженную и всем надоевшую еще со времен футуризма роль. Но полагалось шуметь и протестовать – и публика шумела. Чтобы потом замолчать в недоумении и восторге, когда светловолосый юноша выходил на эстраду и хрипловатым голосом, не в такт жестикулируя, бросал в заплеванный и прокуренный зал:
- Ах, увял головы моей куст,
- Засосал меня песенный плен.
- Осужден я на каторге чувств
- Вертеть жернова поэм.
- Но не бойся, безумный ветр.
- Плюй спокойно листвой по лугам.
- Не сотрет меня кличка «поэт»,
- Я и в песнях, как ты, хулиган.
Бывали, правда, минуты, когда и чтение стихов «чужому и хохочущему сброду» становилось просто невыносимым.
И тогда происходило следующее:
– Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к е… м… Спекулянты и шарлатаны!..
Это было уже серьезно… И реакция последовала также не шуточная.
ДОКЛАД
11 января 1920 года по личному приказу дежурного по Комиссии тов. Тизенберга, я, комиссар МЧК опер. части А. Рекстынь, прибыла на Тверскую улицу в кафе «Домино» Всероссийского Союза поэтов и застала в нем большую крайне возбужденную толпу посетителей, обсуждавшую только что происшедший инцидент. Из опроса публики я установила следующее: около 11 часов вечера на эстраде кафе появился член Союза поэт Сергей Есенин и, обращаясь к публике, произнес площадную грубую до последней возможности брань. Поднялся сильный шум, раздались крики, едва не дошедшие до драки. Кто-то из публики позвонил в МЧК и просил прислать комиссара для ареста Есенина. Скандал до некоторой степени до моего прихода в кафе был ликвидирован случайно проходившим по улице товарищем из ВЧК Шейкманом. Ко мне поступило заявление от Президиума Союза поэтов, в котором они снимают с себя ответственность за грубое выступление своего члена и обещают не допустить подобных выступлений в дальнейшем. Мои личные впечатления от всей этой скандальной истории сложились в крайне определенную форму и связаны не только с недопустимым выступлением Есенина, но о кафе, как таковом. По характеру своему это кафе является местом, в котором такие хулиганские выступления являются почти неизбежными, так как и состав публики, и содержание читаемых поэтами своих произведений вполне соответствуют друг другу. Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещается лицами, ищущими скандальных выступлений против Советской власти, любителями грязных и безнравственных выражений и т. д. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений, нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственное чувство, напоминающее о кабаках самого низкого свойства. В публике находились и женщины – и явно хулиганские выступления лиц, называющих себя поэтами, становятся тем более невозможными и недопустимыми в центре Советской России. Единственная мера, возможная по отношению к данному кафе, – это скорейшее его закрытие.
Комиссар МЧК А. Рекстынь
Их было достаточно в ЧК в те годы – революционных фурий вроде Александры Рекстынь, Конкордии Громовой, Евгении Бош, Ревекки Майзель-Пластининой и других. Удивительно в этом докладе только одно: откуда вдруг у комиссара МЧК, хотя бы и женского пола, такая чувствительность к «грязным и безнравственным выражениям» в ту пору всеобщей раскованности?
Здесь интересны по меньшей мере два момента.
Первый. Обычная для тех лет ситуация – публичный скандал в литературном кафе, и вдруг требуется вмешательство чекистов. Причем звонили по телефону и вызывали «чеку» представители той самой публики, которая имела все основания опасаться встречи лицом к лицу с ее сотрудниками.
Личное оскорбление еще можно было переварить – брань на вороту не виснет. Но выражение «спекулянты и шарлатаны», публично заявленное с эстрады в кафе, где – об этом знали все присутствующие – в каждом углу сидели тайные и явные осведомители, было уже не оскорблением, а констатацией факта, что грозило немалыми, мягко говоря, неприятностями. И спекулянты бросились «стучать» на поэта, демонстрируя свою абсолютную лояльность режиму.
Второй момент. Поведение «собратьев по перу», которые тут же поспешили отмежеваться и заявили, что Всероссийский Союз поэтов не отвечает за поведение своего члена. Отречение было подано за подписью председателя ВСП – имажиниста Ивана Грузинова.
Среди работников ЧК был распространен секретный приказ Дзержинского, в котором, в частности, рекомендовалось «устройство фиктивных белогвардейских организаций в целях быстрейшего выяснения иностранной агентуры на нашей территории». Устраивались эти «организации» с помощью провокаций руками секретных агентов, чьи доносы ложились в основу «разработки». В том, что кафе «Домино» было под прицелом «всевидящих органов», – сомневаться не приходится.
Закрытие кафе автоматически означало бы дальнейшую разработку дела с привлечением не столько посетителей, сколько самих поэтов – организаторов публичных выступлений. Мало того, для многих чтение в кафе было единственным источником существования. Вполне можно было, придравшись к некоторым фразам, записанным филерами, арестовать как минимум нескольких человек по обвинению в контрреволюции. Иван Грузинов знал, что делал, составляя страхующий документ. Другое дело, что «друзья» в первый, но далеко не в последний раз по-крупному подставили Есенина.
«Дело» это, однако, не имело драматических последствий. В начале января 1920 года состоялось заседание ЦК РКП(б), на котором сами же большевики обрушились на ВЧК в целом и на Феликса Дзержинского в частности. Именно там и прозвучали слова о царящей в ВЧК «уголовщине», конкретно воплотившейся в бессудных расстрелах и зверских пытках арестованных. Дзержинский бился в эпилептическом припадке… Это, однако, не помогло. 15 января в губчека была отослана шифротелеграмма с приказом прекратить расстрелы по приговорам ВЧК и местных органов.
«Дело кафе „Домино“» № 10055 было передано в местный народный суд, куда Есенин вызывался 31 марта. В суд он не явился. 23 марта Есенин, Мариенгоф и их общий приятель А. Сахаров отправились в Харьков. Сахаров, как заведующий отделом полиграфии ВСНХ, был командирован на Украину для участия в организационном совещании украинских полиграфических отделов. Надо думать, Есенин и Мариенгоф упросили его взять их с собой – по судам таскаться не хотелось, а заодно появилась возможность ненадолго вырваться из голодной Москвы.
Харьков, 1920 год.
Здесь фактически только-только установилась советская власть. Город еще не опомнился от крови, которая лилась здесь реками, когда одна власть сменяла другую, терроризируя население.
«Тот город славился именем Саенки…» – писал позднее Велимир Хлебников в поэме «Председатель Чеки», вспоминая страшного чекиста, чье имя наводило ужас на весь Харьков, и воспроизводил монологи еще одного «рыцаря революции» – следователя Реввоентрибунала Андриевского, помимо своей основной работы пробовавшего силы (а как же иначе – культурный человек!) в театральной режиссуре. Представить Харьков той эпохи помогают следующие строки:
- Приговорен я был к расстрелу
- За то, что смертных приговоров
- В моей работе не нашли.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Но я любил пугать своих питомцев на допросе,
- Чтобы дрожали их глаза,
- Я подданных до ужаса, бывало, доводил
- Сухим отчетливым допросом.
- Когда он мысленно с семьей прощался
- И уж видал себя в гробу,
- Я говорил отменно сухо:
- «Гражданин, свободны вы и можете идти».
Совершенно нищий и психически нездоровый «будетлянин» встретил имажинистов и молча протянул руку, на которую был надет ботинок. Мариенгоф пожал ботинок. Хлебников этого даже не заметил.
Есенин весело смотрел на Хлебникова, возвышающегося посреди пустой комнаты с единственным табуретом. Будетлянин. Футурист. Председатель Земного Шара. Друг злейшего врага – Маяковского. В висках гудела веселая идея.
– Вы, Велимир Викторович, Председатель Земного Шара!
– Председатель…
– Мы в Харьковском театре всенародно упрочим ваше избрание. Организуем церемониал!
Хлебников, очевидно, плохо понимавший, что происходит, крутился на сцене вокруг собственной оси, поворачиваемый Есениным и Мариенгофом. Те читали акафисты посвящения в Председателя. Как символ – надели на палец «посвященному» кольцо, занятое у Бориса Глубоковского.
После окончания церемонии кольцо было отобрано.
Потом Есенин возмущался: «Хлебников испортил все! Умышленно я выпустил его первым, дал ему перстень, чтобы он громко заявил: „Я владею миром!“ Он же промямлил такое, что его никто не слышал».
Очередное же выступление самого Есенина, как обычно, удалось на славу. В пасхальную ночь он на бульваре, вскочив на скамейку, надрывая голос, читал «Инонию» и «Пан-тократора».
- Тысчи лет те же звезды славятся,
- Тем же медом струится плоть.
- Не молиться тебе, а лаяться
- Научил ты меня, Господь.
Кругом собралось много людей. Верующие дрожали от негодования. Воздействие этих стихов было посильнее, чем любой похабной антирелигиозной частушки.
– Бей его, богохульника! – раздались крики.
Тут же они были перекрыты грозным ревом матросов-братишек, увидевших в Есенине «своего парня»:
– Читай, товарищ, читай!
Он продолжал читать и дочитался до бурных аплодисментов и подкидываний шапок в воздух.
Он и здесь шел наперекор всему – ситуации, людям, традиционному восприятию привычных вещей. А когда публика набилась в зал Харьковского городского театра и негодующими воплями и свистом встретила стихотворную бредятину Мариенгофа, Есенин, казалось, должен был продолжить скандал и довести его до высшей точки кипения.
Но… «просто невозможно было сердиться на этого светлого, радостного, рассеянно улыбающегося юношу», – вспоминал Эмиль Кроткий. Благостную атмосферу поэт взрывал изнутри. И гасил любой скандал чтением стихов, от которых затихал самый накаленный зал.
- Я еще никогда бережливо
- Так не слушал разумную плоть,
- Хорошо бы, как ветками ива,
- Опрокинуться в розовость вод.
- Хорошо бы, на стог улыбаясь,
- Мордой месяца сено жевать…
- Где ты, где, моя тихая радость —
- Все любя, ничего не желать?
В конце 1919 года вышли наконец отдельным изданием «Ключи Марии». Книга, которая Шершеневичу стояла поперек горла и которую он же из тактических соображений объявил теоретической основой имажинизма. Но после выхода «Ключей» тут же засел за собственную «теорию».
«Радостно посвящаю эту книгу моим друзьям ИМАЖИНИСТАМ Анатолию Мариенгофу, Николаю Эрдману, Сергею Есенину» – распинался он на титульном листе своего труда «2x2=5. Листы имажиниста». Посвящение Есенину здесь – не что иное, как воплощение форменного лицемерия. Ибо на первой же странице было заявлено:
«Эпитеты народного творчества – это нечто застывшее, что указывает на низкую ступень народного творчества вообще. Эпитет поэта есть величина переменная. Чем постояннее эпитет поэта, тем меньше значение этого поэта, ибо искусство есть изображение, а не приготовление».
«Анти-"Ключи Марии"» – вот что писал Шершеневич, стремясь перехватить лавры теоретика. Каждая фраза этого сочинения, по сути, метила в Есенина, в том числе и в Есенина-поэта.
Теоретические претензии были в данном случае лишь поводом для выражения нешуточной неудовлетворенности тем положением вещей, когда публика отшатывалась от стихов «великолепных», как от истерики умалишенных. Но Шершеневич брал реванш в теории: «Искусство должно быть радостным, довольно идти впереди кортежа самоубийц. Имажинизм таит в себе зарождение нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма арлекинадного порядка… Победа образа над смыслом и освобождение слова от содержания тесно связаны с поломкой старой грамматики и переходом к неграмматическим фразам».
А разве мог после выхода есенинской книги остаться в стороне Толя Мариенгоф? Он ведь тоже теоретик! Автор книжки «Буян-остров. Имажинизм», написанной в мае 1920 года. По существу, его книга – это вопль всеми презираемого графомана. Да и куда денешься, если цельного художественного произведения, обладающего всеобщей ценностью, из-под собственного пера не выходит и остается только выдавать ремесленную стихотворную работу за грядущий «ослепительный молниевый листопад».
Масла в огонь подлил и Арсений Авраамов – личность весьма типичная для того времени. Времени, когда Татлин конструировал проект памятника III Интернационалу, который должен был превысить на 100 метров Эйфелеву башню и стать «оживленной машиной», сооруженной из форм, кружащихся вокруг собственной оси в различных ритмах, вмещая в себя телеграф, кинозалы и залы для художественных выставок. Времени, когда Вс. Мейерхольд, основывая свой театр, декларировал: «На всех театрах, которые теперь функционируют, надо повесить замок», не подозревая, что в один прекрасный день замок повиснет на дверях его собственного театра. Арсений Авраамов – р-р-революционер хоть и меньшего масштаба, но в том же духе. Под псевдонимом «Реварсавр», то бишь «Революционный Арсений Авраамов», он исполнял в «Стойле Пегаса» специально написанные для перенастроенного рояля «рев. опусы». На сем рояле надлежало играть не пальцами, а садовыми граблями.
Так вот этот самый Арсений выпустил в 1921 году книгу «Воплощение. Есенин – Мариенгоф», содержание которой названные герои знали задолго до выхода ее в свет. В результате устроенного автором «музыкального» разбора и ритмического «анализа» стихов выходило, что Мариенгоф обладает ритмическим мастерством, «коему мог бы позавидовать Себастьян Бах!».
Наконец, Шершеневич выпускает книгу под названием «Кому я жму руку». Эта книга наряду со статьями из «22=5», публиковавшимися в «Знамени», положила фактически конец какому бы то ни было взаимопониманию между ним и Есениным, которое и до того не особенно проявлялось.
Есенин не мог оставить без ответа серию увесистых булыжников в свой огород.
Еще зимой он подал в Отдел печати Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов заявление о разрешении на печатание четырех книг. Кроме трех книг стихов, в заявлении фигурировала «Словесная орнаментика», которая должна была стать своеобразным продолжением «Ключей Марии». Однако все, что от нее сохранилось – статья «Быт и искусство». Надо полагать, Есенин выбрал одну главу для публикации, дополнив ее заостренными полемическими инвективами, направленными против своих «собратьев». Публикация статьи «Быт и искусство» стала с его стороны последней попыткой убедить свиту, что «из ничего и выйдет ничего», что любые образы в стихе должны находить гармоническое согласование между собою, так же, как они согласованы в традиционном быту.
«Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству, как к служению неким идеям…
Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных напечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума».
Он обращался к глухим и слепым. И едва ли сам этого не понимал. Не единожды ведь приходилось убеждаться в том, что его понимание образа и природы поэзии не имеет ничего общего с воззрениями компании дикарей, в которой он осуществлял свою «литературную политику». Почему его взгляды на искусство были для «собратьев» китайской грамотой, Есенин исчерпывающе объяснил в конце статьи. Отнюдь не теоретические разногласия явились яблоком раздора, как это могла подумать публика. Корень был гораздо глубже.
«У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласованно все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния».
Казалось, логика развития событий требовала, чтобы после подобного объяснения всякие отношения были прерваны. Но ни малейшей логики в поведении «друзей», в литературной жизни и быте того времени невозможно было усмотреть при всем желании.
Наглядной иллюстрацией ко всем тогдашним литературным и теоретическим спорам, отражающей взаимоотношения Есенина с «собратьями», могла бы стать известная фотография «великолепных», снятая на Тверском бульваре летом 1919 года. Четверо модно одетых «русских дэнди» с тросточками в руках смотрят в объектив. На лицах Мариенгофа, Шершеневича и Кусикова жизнерадостные улыбки. Тесным кольцом стали они вокруг Есенина, в глазах которого застыла какая-то затаенная печаль и тяжелая дума, неведомая улыбающимся товарищам…
В середине апреля 1920 года Есенин навестил родных в Константинове.
До этого он изредка встречал в книжной лавке или дома на Богословском односельчан, приезжавших в Москву. Встречал их радушно, угощал чем мог, дарил свои книжки, помогал, если это было в его силах. Одному из них он написал рекомендательную записку в костюмерную Большого театра, где тот получил костюмы для постановки спектакля в константиновском клубе.
Раз или два приезжал отец. Жаловался на тяжелую жизнь, на отсутствие денег. Есенин молча выслушивал. Никогда в деньгах не отказывал, хотя тяжело было вспоминать о прежних ссорах с ним, о пренебрежительном отношении отца к стихам молоденького Сережи и лицезреть его теперь перед собой – просящего денег, заработанных теми же стихами.
Есенин прожил в Константинове более двух недель. И, наверное, нечасто приходилось ему видеть более тяжелые картины.
Екатерина Есенина вспоминала: «…После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, но как всегда после бури вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи, как хочешь. Все обносилось, а купить негде».
Проливной дождь, ливший все эти дни, еще более усугублял тяжелое впечатление от увиденного. Многих односельчан поэт уже не застал в живых – кто убит на фронте, кто сгорел в тифу. Дед лежал на печке и проклинал советскую власть:
– Безбожники, это из-за них Господь людей карает. Консомол распустили, озорничают они над Богом, вот и живете, как кроты.
Страшно было смотреть теперь на эту новую жизнь, точнее, на отсутствие жизни, как таковой, на убиение российской деревни, происшедшее именно в годы военного коммунизма и сплошной продразверстки. 1920 год поставил на старой русской деревне крест. Но к этому все и шло. В «Положении о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» было декретировано, что на все виды единоличного землепользования нужно смотреть как на отживающие. «Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси слой и частнохозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента» (В. И. Ленин).
Если перевести эту политическую терминологию на язык житейских фактов, то реальным ее воплощением и стало то, что увидел Сергей Есенин весной 1920 года в родном Константинове. Голод. Мор. Отсутствие продуктов. Невозможность ничего ни купить, ни продать. Потеря земельных наделов…
Вспомнились его лихорадочные споры с Петром Мочалиным. Вспомнились антирелигиозные частушки, которые с упоением распевались константиновской молодежью и его сестрицами.
«Вот и живете, как кроты…»
«Ах, Толя, Толя… Не ты ли говорил, что ничего не напишу здесь?»
Гибель породившего и вскормившего его мира неизбежно навевала мысль о неотвратимости собственной гибели.
- Я последний поэт деревни,
- Скромен в песнях дощатый мост.
- За прощальной стою обедней
- Кадящих листвой берез.
- Догорит золотистым пламенем
- Из телесного воска свеча,
- И луны часы деревянные
- Прохрипят мой двенадцатый час.
- На тропу голубого поля
- Скоро выйдет железный гость.
- Злак овсяный, зарею пролитый,
- Соберет его черная горсть.
- Не живые, чужие ладони,
- Этим песням при вас не жить!
- Только будут колосья-кони
- О хозяине старом тужить.
- Будет ветер сосать их ржанье,
- Панихидный справляя пляс.
- Скоро, скоро часы деревянные
- Прохрипят мой двенадцатый час!
Это стихотворение он посвятил Мариенгофу, думается, не без намека. Для тебя, Толя, деревня – пустой звук, и меня счел неспособным написать что-либо стоящее о разоренном и погружающемся в небытие родимом мире. А кроме того, сам Мариенгоф – порождение железного гостя и его неутомимый воспеватель. Это вам не разность поэтических манер, как считает Львов-Рогачевский. Тут дело серьезнее. Гораздо серьезнее.
Изъятие подчистую хлеба, борьба с мешочничеством, заградительные отряды, принятие IX съездом РКП(б) программы Троцкого по превращению страны в огромный концентрационный лагерь, где каждый рабочий и крестьянин должен был счтать себя «солдатом труда, который не может собой серьезно располагать», – все было подчинено одной-единственной задаче: ликвидации России как таковой, ибо физическое уничтожение крестьянства и превращение рабочих в крепостных означали фактический конец великой державы.
Программа эта на практике так и не была до конца воплощена в жизнь. Людоедские планы превращения России в вязанку дров для костра мировой революции были сорваны, ибо наперекор им легли костьми сотни и сотни тысяч «неизвестных солдат» – простых русских мужиков, взявших в руки винтовки и пулеметы, дабы ценой крови отстоять свое право и право своих семей на хлеб и кров.
«Город пострадал сравнительно мало. Сейчас на улицах города убирают убитых и раненых. Среди прибывших позднее подкреплений потерь сравнительно мало. Только доблестные интернационалисты понесли тяжелые потери. Зато буквально накрошили горы белогвардейцев, усеяв ими все улицы». Это направленное в Совнарком сообщение повествует о разгроме крестьянского восстания в Ливнах. А вот донесение из Поволжья: «…Крестьяне озверели, с вилами и с кольями и ружьями в одиночку и толпами лезут на пулемет, несмотря на груды трупов, и их ярость не поддается описанию…» Подобная картина наблюдалась повсеместно – и на Дону, и на Северном Кавказе, и в средней полосе России.
На Украине из уст в уста передавалось имя «батьки» Нестора Махно. Сам он в откровенных беседах со своими приближенными мечтал о том, чтобы его имя встало в один ряд с именами Разина и Пугачева. И это были отнюдь не беспочвенные фантазии. Слухи о нем ползли по Украине, и, когда в 1918 году на юге страны разгорелось крестьянское восстание, кто-то вспомнил знаменитую реплику закованного в кандалы Пугачева: «Я не ворон, я – вороненок. А ворон-то все еще летает».
К середине 1920 года Махно, прошедший огонь и воду в борьбе с Деникиным, Слащевым, Григорьевым, Пархоменко, Якиром, был, по существу, обречен. Бои с врангелевскими частями, расправы с продотрядовцами и директива Фрунзе, призывающего покончить с махновщиной «в три счета», были еще впереди, но уже становилось ясно, что сохранить за собой более или менее обширную территорию, не подчиняющуюся советской власти, ему не удастся.
А большевистский режим все круче завинчивал гайки.
«Известия» от 24 мая 1920 года. Наряду с информацией о перевыборах в Союзе поэтов и нелепой стычке во время одного из выступлений Есенина с поэтом Соколовым («В связи с инцидентом Есенин – Соколов общее собрание исключило из членов С. Есенина») в том же номере был опубликован документ, вокруг которого в столице пошло много слухов и домыслов.
Речь идет о приговоре по делу Бориса Мокеевича Думенко, который был вынесен выездной сессией Ревтрибунала под председательством некоего А. Я. Розенберга:
«Комкор Думенко, начальник штаба Абрамов, начальник разведки Колпаков, начальник оперативного отдела Блехерт, комендант штаба Носов, начальник снабжения 2-й бригады конкорпуса Кравченко 1. вели систематическую юдофобскую и антисоветскую политику, ругая центральную Советскую власть и обзывая в форме оскорбительного ругательства ответственных руководителей Красной Армии жидами, не признавали политических комиссаров, всячески тормозя политическую работу в корпусе…»
Цитируем только первый абзац. По прошествии времени ясно, что Думенко и его окружение – герои первого этапа Гражданской войны – были «за Советы, но без жидов и коммунистов» и против «института комиссаров», учрежденного Троцким для надзора за такими командирами, как Думенко.
Текст же приговора был следующий: «Лишить полученных от Советской власти наград, в том числе ордена Красного Знамени, почетного звания Красных командиров и применить к ним высшую меру наказания – расстрелять… Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Председатель А. Розенберг, члены А. Зорин, А. Чуватин».
Тройка, выполняя распоряжение Троцкого, повязала себя кровью. Есенин прочитал номер газеты, скользнул взглядом по фамилии председателя, и мысль мелькнула: «А это хорошо, что у меня приятели – евреи да в фаворе! Ишь времена-то какие! Геройского Думенку расстреляли!»
В июне Есенин в компании с Мариенгофом отправился в поездку на Кавказ в отдельном салон-вагоне в сопровождении Г. Р. Колобова. Маршрут разработали сами поэты, рассчитывавшие провести несколько показательных «имажинистских» выступлений в различных городах.
Ростов, Таганрог, Новочеркасск…
Гастроли сопровождались привычными скандалами и водкой. Зреть, что сотворено с Россией, трезвыми глазами было невозможно.
В спокойные минуты Есенин молча смотрел в окно, читал, думал. Невеселыми были эти думы, которыми он делился в письмах к харьковской знакомой Жене Лившиц.
«Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление… Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического».
Не было ему, конечно, никакого дела до красот Кавказа после вида разоренной и изнасилованной России. Он еще пытался отвлечься то подтруниванием над Гришей Колобовым, то чтением Флобера, пока не увидел из окна вагона несущегося рядом с паровозом рыжего тоненького жеребенка, который постепенно отставал и наконец совсем пропал из виду.
Сам не свой ходил Есенин после этого зрелища. «Этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной».
Многим тогда казалось, что с окончанием братоубийственной гражданской войны наступит новая жизнь и русский крестьянин, оставив пулемет, возьмется за ручку деревянной сохи и руль стального трактора и устроит вечную счастливую жизнь, которая будет одинаково не похожа на жизнь дореволюционную и жуткую жизнь эпохи военного коммунизма.
Об этом мечтал Чаянов, этого страстно жаждал Клюев.
А Есенин видел и понимал все куда яснее.
«Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если построен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают…»
Как всегда, внутреннее не соответствовало внешнему. Публика рычала и свистела во время всех «кавказских гастролей». Афиши били по глазам и щекотали нервы. «Первое отделение: Мистерия. 1. Шестипсалмие. 2. Анафема критикам. 3. Раздел земного шара. Второе отделение: 1. Скулящие кобели. 2. Заря в животе. 3. Оплеванные гении. Третье отделение: 1. Хвост задрала заря. 2. Выкидыш звезд. Вечер ведут поэты Есенин, Мариенгоф и писатель Колобов…»
Совсем непохожим получился вечер в «Домино» после возвращения в Москву, где впервые прозвучал «Сорокоуст».
Сорокоуст – служба по умершему, совершаемая в церкви в течение 40 дней после смерти. Поэма Есенина напоминала скорее не заупокойную службу, а отчаянный крик человека, обреченного на гибель и все еще сопротивляющегося в последней агонии.
- Трубит, трубит погибельный рог!
- Как же быть, как же быть теперь нам
- На измызганных ляжках дорог?
- Вы, любители песенных блох,
- Не хотите ль пососать у мерина?
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Скоро заморозь известью выбелит
- Тот поселок и эти луга.
- Никуда вам не скрыться от гибели,
- Никуда не уйти от врага.
О первом исполнении поэмы вспоминал Иван Грузинов:
«Есенин только что вернулся в Москву… Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор.
– Помолчим несколько минут, я подумаю, я приготовлю речь…
Через две-три минуты Есенин на эстраде…
На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь: расположились на стульях, расставленных рядами, и за пустыми столиками.
Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался: он первый, он самый лучший поэт России, кто-то ему мешает, кто-то его «не признает». Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму.
По-видимому, он ожидал протеста со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей негодования. Ничего подобного не случилось: присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму… Он чувствовал себя неловко: ожидал борьбы, и вдруг… никто не протестует…»
Там же, в кафе, Есенина внимательно слушал Валерий Брюсов.
Постаревший, много переживший символист, он ныне стремился играть роль некоего литературного арбитра, третейского судьи, который квалифицирует поэтов, отводит каждому свое место, определяет пути развития русской поэзии. Все это выглядело несколько комично – Брюсов превратился в обычного советского служащего. Снисходительно одобряя, иронически поощряя и едко издеваясь, он с улыбкой наблюдал за всеми теперешними «школами» и «школками», которые не могут закатить даже настоящего литературного скандала. Что и говорить, далеко им было всем, вместе взятым, до него в молодости! Все эти «желтые кофты», мушки на щеке, «скулящие кобели» и «беременные мужчины» мало что стоили в его глазах. Но… молодежь есть молодежь. На роду написано резвиться. «Блажен, кто смолоду был молод…»
В настоящий момент Брюсов неподвижно сидел и не отрывая глаз смотрел на светловолосого юношу, срывающимся голосом бросавшего в неподвижный и молчаливый зальчик:
- Милый, милый, смешной дуралей,
- Ну куда он, куда он гонится?
- Неужель он не знает, что живых коней
- Победила стальная конница?
- Неужель он не знает, что в полях бессиянных
- Той поры не вернет его бег,
- Когда пару красивых степных россиянок
- Отдавал за коня печенег?
- По-иному судьба на торгах перекрасила
- Наш разбуженный скрежетом плес,
- И за тысчи пудов конской кожи и мяса
- Покупают теперь паровоз.
Такого он не слышал за последнее время ни от кого из поэтов. Ранее совершенно не выделял Есенина в массе других. Бывший «новокрестьянин», нынешний «имажинист». А здесь… послышалось то, чего не было до сего дня в русской поэзии. Виду Брюсов, естественно, не подал.
Растерянный Есенин подошел к столику.
Брюсов напряженно улыбался.
– Рожаете, Сергей Александрович?
– Да, – безучастно ответил Есенин.
– Рожайте, рожайте!
Но публично свое отношение к есенинской поэме он продемонстрировал 23 ноября на вечере поэзии, устроенном Союзом поэтов в Политехническом музее.
Этот вечер у многих сохранился в памяти.
Остервенелые крики послышались после первых же строк «Сорокоуста». «Не хотите ль пососать у мерина» вызвало возмущенный вой, а еще после четырех строчек в зале вообще ничего было невозможно услышать. Здесь и взял в свои руки бразды правления Брюсов.
– Надеюсь, присутствующие поверят мне, что я в поэзии что-то понимаю. Я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из того, что появилось в русской поэзии за последние два или три года.
Есенин начинает читать сызнова, и опять раздается протестующий рев. Одни требуют, чтобы Есенин читал дальше, другие настаивают на немедленном прекращении. В неистовом гаме слышен лишь голос Шершеневича: «А все-таки он прочтет до конца!!!» И Есенин дочитывает до конца, бросая в лицо ошарашенной публике:
- Черт бы взял тебя, скверный гость!
- Наша песня с тобой не сживется.
- Жаль, что в детстве тебя не пришлось
- Утопить, как ведро в колодце.
- Хорошо им стоять и смотреть,
- Красить рты в жестяных поцелуях, —
- Только мне, как псаломщику, петь
- Над родимой страной аллилуйя.
- Оттого-то в сентябрьскую склень
- На сухой и холодный суглинок,
- Головой размозжась о плетень,
- Облилась кровью ягод рябина.
- Оттого-то вросла тужиль
- В переборы тальянки звонкой.
- И соломой пропахший мужик
- Захлебнулся лихой самогонкой.
И это стихотворение он посвящает Мариенгофу – «любителю песенных блох», не слышащему и не желающему слышать, как за селом «плачет жалостно гармоника».
Он буквально «вытаскивал» своих «собратьев», которым постоянно доставалось на вечерах и стихотворных диспутах. Так, на вечере, о котором идет речь, публика и присутствующие поэты просто рвали их в клочья. Маяковский, можно сказать, стер Шершеневича в порошок. И только Есенин поставил «агитатора, горлана, главаря» на место.
– У этого дяденьки достань воробышка хорошо привешен язык… Он ловко пролез сквозь игольное ушко Велимира Хлебникова и теперь готов всех утопить в поганой луже, не замечая, что и сам сидит в ней… Сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы агитез!
– А каков закон судьбы ваших кобылез? – отозвался Маяковский.
– Моя кобыла рязанская, русская. А у вас облако в штанах…
Это была далеко не первая и не последняя их стычка.
Есенину нестерпима была сама мысль, что умелый стихотворец, напрочь лишенный чувства родины и поэтического мироощущения, покоряет аудиторию не только и не столько своим басом и площадным остроумием, сколько содержанием своих античеловеческих творений!
– Россия моя! Понимаешь? Моя Россия! А ты… ты – американец, – кричал он Маяковскому во время очередной стычки. А тот даже не спорил, только издевательски бросил в ответ:
– Возьми, пожалуйста! Ешь ее с хлебом!
Вот это «ешь ее с хлебом!» Есенину жутко было слышать в стихах и репликах своих «собратьев», которые без него не просуществовали бы и месяца. «А мы не Корнеля с каким-то Расином. Отца – предложи на старье меняться, – мы и его обольем керосином и в улицы пустим для иллюминаций…» Ну и чем отличаются от этих маяковских каннибальских откровений мариенгофские:
- Что днесь
- Вонь любви, раздавленной танками?
- Головы человечьи
- Как мешочки
- Фунтиков так по десять,
- Разгрузчики барж
- Сотнями лови, на!
Это и многое другое такого же типа читалось в Большом зале консерватории на литературном вечере «Суд над имажинистами». Председательствовал все тот же Брюсов, и ничто бы не спасло веселую компанию от убийственных насмешек и издевательств, если бы не Есенин.
31 декабря. Встреча Нового года с имажинистами. Снова в уши зрителей лилась отборная мерзость Шершеневича, Мариенгофа… На сей раз разыгрался скандал похлеще скандала в Политехническом. Есенин пришел с только-только написанной «Исповедью хулигана».
- Не каждый умеет петь,
- Не каждому дано яблоком
- Падать к чужим ногам.
- Сие есть самая великая исповедь,
- Которой исповедуется хулиган.
Начало многообещающее, все внимание слушателей было приковано к одинокой фигурке на сцене. А он вдруг, повысив голос, стал хлестать публику строками, и каждая была как удар плетью.
- Я нарочно иду нечесаным,
- С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
- Ваших душ безлиственную осень
- Мне нравится в потемках освещать.
- Мне нравится, когда каменья брани
- Летят в меня, как град рыгающей грозы,
- Я только крепче жму тогда руками
- Моих волос качнувшийся пузырь.
Буря постепенно стихла, когда поэт с нежностью вспомнил своих родителей. Но не успела публика по-настоящему настроиться на волну лирических воспоминаний, как последовал новый взрыв:
- Они бы вилами пришли вас заколоть
- За каждый крик ваш, брошенный в меня.
Никто не знал – негодовать или аплодировать. И крик возмущения сливался с гулом аплодисментов.
А Есенин прощался со старой деревней, с крестьянским миром, с крестьянским космосом, и это прощание вырывало у него из горла предсмертный хрип.
Несколько мотивов закрутили тугой узел этого стихотворения. «Нежное вспоминанье детства» возникало уже за той чертой, которую деревенский сын безвозвратно пересек. Цилиндр и лакированные башмаки, наделавшие столько шуму, – символ той самой «культуры» Политехнического и «Стойла Пегаса», которой он отдал обильную дань, став в центре помойной ямы, именуемой «литературной жизнью» Москвы 1920-х годов. Он и здесь остался самим собой с «нежными вспоминаньями детства», только перестроившим себя по новому плану, дабы заставить дрожать мелкой дрожью «чужой и хохочущий сброд».
- Я все такой же.
- Сердцем я все такой же.
- Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
- Стеля стихов злаченые рогожи,
- Мне хочется вам нежное сказать.
Зрители замирали, ожидая нежного, подчиняясь властной силе стиха. Никто и не замечал, как естественно и безболезненно вкраплен был сюда ставший чужим и почти ненавистным Клюев («Ах и солнышко отмыкало болесть нив и бездорожий, и земле в поминок выткало золоченые рогожи…»). И тут же последовало то, отчего зашлась в негодующем вопле половина зала, а вторая ответила радостным ревом:
- Спокойной ночи!
- Всем вам спокойной ночи!
- Отзвенела по траве сумерек зари коса…
- Мне сегодня хочется очень
- Из окошка луну обоссать.
Есенин подтвердил репутацию хулигана, и на последующих вечерах эта злосчастная «луна» ожидалась уже с нетерпением. Все знали, что будет буря, и предвкушали ее.
Откуда такое отношение к луне?