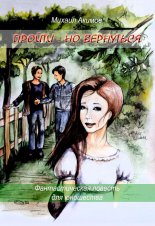Сергей Есенин Горький Максим
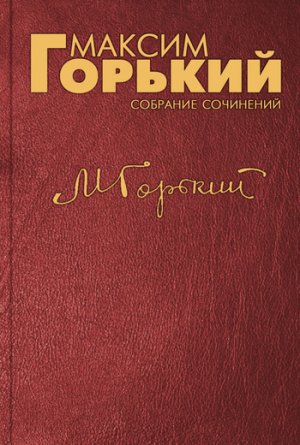
Но на всякий случай Есенин в письме В. Чернявскому из деревни изображает себя не «работником в поте лица», а «гулякой праздным», легкомысленным поэтом, не придающим никакого значения своим архивам и черновикам: «Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать».
В конце сентября, получив письмо от Клюева, в котором тот извещал, что будет в Петрограде до 5 октября, Есенин заторопился; с Клюевым повидаться надо обязательно, ну и через Москву не проскочишь разом, жену да сына следует навестить.
«Осенью опять заехал, – с грустью вспоминала Анна Изряднова. – „Еду в Петроград“. Звал с собой… Тут же говорил: „Я скоро вернусь, не буду жить там долго“ …Вот так было всегда: зовет с собой, а „долго жить“ не собирается».
Роковое свидание с Клюевым положило начало их легендарной «дружбе-вражде», в глубинах и тонкостях которой до сих пор разбираются литературоведы и биографы.
Клюев приезжает в Петроград и пишет Есенину письмо, полное дружеских излияний, братских чувств и столь свойственной для него в письмах к Есенину экзальтации: «Я смертельно желаю повидаться с тобой – дорогим и любимым, и если ты – ради сего — имеешь возможность приехать, то приезжай немедля».
Скорее всего они встретились и познакомились осенью у Городецкого, который помнит, как Клюев «впился» в Есенина. «Другого слова я не нахожу для начала их дружбы… Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением… Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время».
Что же увидел Клюев в молодом поэте и почему поистине «впился» в него? На этот вопрос пытались ответить многие мемуаристы и исследователи, останавливаясь в своих изысканиях перед некой невидимой чертой.
Клюев увидел в Есенине то, что не увидели ни Гиппиус, ни Сологуб, ни Чернявский, ни Ивнев с компанией, ни сам Александр Блок, ни, тем более, Городецкий. С первого же знакомства со стихами Сергея он понял, что перед ним не «молодое многообещающее дарование» и не «сказочный херувим», а зрелый, яркий поэт со своим уникальным зрением и неповторимым поэтическим миром. И центральное место в этом мире занимает живой Христос.
Это открытие Клюева ошеломило. Сам он, выходец из старообрядческой семьи, прошедший послушание на Соловках и искус в хлыстовских и скопческих сектах, подбирался к образу живого Христа трудными окольными путями. Возможность реального воплощения в слове Сына Божия он впервые, очевидно, ощутил, найдя тропку к хлыстам, которые в радениях своих видели возможность каждому в минуту наивысшего экстаза стать Христом и Богородицей. Но, используя мотивы их гимнов и песнопений, Клюев все же ощущал некую границу, которую он не в силах был перейти, и в своих попытках воплотить Христа опирался на Евангелие.
В стихах Есенина он увидел Иисуса-странника, нищего, просящего милостыню, одного из многих «слепцов, странствующих по селам» и поющих «духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте града неведомого». Иисус народных апокрифов, не теряющий своей божественной сути, естественно приходящий из Царства Божия на землю, неся с собой трагедию гибели и чудо Воскресения.
- Я вижу – в просиничном плате,
- На легкокрылых облаках,
- Идет Возлюбленная Мати
- С Пречистым Сыном на руках.
- Она несет для мира снова
- Распять воскресшего Христа:
- «Ходи, мой сын, живи без крова,
- Зорюй и полднюй у куста».
- И в каждом страннике убогом
- Я вызнавать пойду с тоской,
- Не помазуемый ли Богом
- Стучит берестяной клюкой.
- И может быть, пройду я мимо
- И не замечу в тайный час,
- Что в елях – крылья херувима,
- А под пеньком – голодный Спас.
Иисус приходит на землю «пытать людей в любови» в человечьем обличье, подобно «жильцу страны нездешней» Миколе, герою есенинской поэмы, посланному Богом на русскую землю, дабы было кому защитить «скорбью вытерзанный люд» и соединиться с ним в единой молитве. Но есенинский Иисус в мгновение ока может расстаться с человеческой оболочкой и раствориться в русской природе, преображая ее и создавая на земле подлинное ощущение нездешнего мира.
- Схимник-ветер шагом осторожным
- Мнет листву по выступам дорожным.
- И целует на рябиновом кусту
- Язвы красные незримому Христу.
Так незримый божественный мир легко и естественно воплощается в земной ипостаси, и в то же мгновение земная реальность окутывается сказочной дымкой, обретает нездешние черты, и сам поэт преображается под впечатлением встречи с Иисусом в облике человеческом, обретает ощущение пограничности между двумя мирами.
- Между сосен, между елок,
- Меж берез кудрявых бус,
- Под венком, в кольце иголок,
- Мне мерещится Исус.
- Он зовет меня в дубровы,
- Как во царствие небес,
- И горит в парче лиловой
- Облаками крытый лес.
- Голубиный дух от Бога,
- Словно огненный язык,
- Завладел моей дорогой,
- Заглушил мой слабый крик.
- Льется пламя в бездну зренья,
- В сердце радость детских снов,
- Я поверил от рожденья
- В Богородицын Покров.
Есенинская цветопись ранних стихов, по существу, в точности воспроизводит расположение цвета на русской иконе, а пламя, льющееся «в бездну зренья», как и «алый мрак в небесной черни» – основополагающий цвет образа «Спаса в силах», который возникает в глазах поэта именно на границе перехода из мира земного в мир небесный. И сама икона в его стихах становится подлинным окном в иной мир, а отворенное его словом, оно преображает и мир здешний.
Неудивительно, что естественная дерзость перехода непереходимой черты в стихах молодого Есенина ошеломляет и завораживает.
- Там, где вечно дремлет тайна,
- Есть нездешние поля.
- Только гость я, гость случайный
- На горах твоих, земля.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Суждено мне изначально
- Возлететь в немую тьму.
- Ничего я в час прощальный
- Не оставлю никому.
- Но за мир твой, с выси звездной,
- В тот покой, где спит гроза,
- В две луны зажгу над бездной
- Незакатные глаза.
Клюев сразу увидел: молоденький поэт легко и естественно достиг того, чего тщетно пытались добиться многомудрые и образованные символисты. Два мира – земной и потусторонний – слились в есенинских стихах совершенно гармонично без малейшего зазора, без отягощающей книжной риторики и поэтико-философских наслоений. Поистине Нечаянной Радостью стал этот «жавороночек» для него – одиночки – в холодном и неприветливом столичном литературном мире.
Всю осень 1915 года Есенин и Клюев неразлучны. Они вдвоем ходят в гости, позируют художникам, навещают Блока, постоянно печатаются, как правило, в одних и тех же петербургских газетах, сменяя друг друга, читают стихи на квартирах и в салонах.
И здесь не обойдем, не объедем то обстоятельство, что любовь у Клюева к Есенину была не только любовью поэта к поэту. Клюев, как и Кузмин с его окружением, как и многие молодые поэты из «Бродячей Собаки» и «Привала Комедиантов», был подвержен пороку, весьма распространенному в культурной элите той эпохи: содомскому греху. И естественно, что обаятельный Есенин сразу же стал объектом и его поклонения, и его притязаний.
«Видимо, Клюев очень любит Есенина, – записал в своем дневнике переводчик Ф. Фидлер, у которого два поэта как-то были в гостях, – склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам».
Есенин, который сразу же признал Клюева как учителя и в жизни, и в поэзии, оказался в дурацком положении. Рвать с Клюевым, стихи которого он ценил и без которого не мыслил своего дальнейшего пути к завоеванию читательских умов и сердец, ему вовсе не хотелось. Но и потакать Клюеву – он, молодой красивый юноша со здоровыми мужскими инстинктами, – конечно же не мог. В мемуарах В. Чернявского, опубликованных за рубежом, рассказывается о том, как Есенин, живший осенью 1915 года с Клюевым в одной комнате, уходил вечерами на свидание с женщинами, а Клюев буквально садился у порога и по-бабьи, с визгливой ревностью, хватал его за полы пальто и кричал: «Не пущу, Сереженька!» Но Сереженька сжимал челюсти, щурил глаза, вырывался из цепких рук соблазнителя и, хлопая дверью, уходил в ночь.
Приставания «старшего брата», видимо, надоедали ему, иногда он жаловался: «Я его пырну ножом когда-нибудь! Ей-богу, пырну!»
Скорее всего Есенин отстоял себя от болезненных притязаний собрата, и именно это позволяло ему с добродушным смехом относиться к клюевской патологической слабости, видеть в ней не драматические, а именно комические черты.
Галина Бениславская вспоминает, как в 1923 году обычно доверчивый и наивный Иван Приблудный вроде бы ни с того ни с сего стал весьма злобно высмеивать и подзуживать Клюева:
«Спокойно они не могли разговаривать, сейчас же вспыхивала перепалка, до того сильна была какая-то органическая антипатия. А С. А. слушал, стравлял их и покатывался со смеху. Позже я узнала, что одной из причин послужило то, что в первую же ночь в Петрограде Клюев полез к Приблудному, а последний, совершенно не ожидавший ничего подобного, озверев от отвращения и страха, поднял Клюева на воздух и хлопнул что есть мочи об пол; сам сбежал и прошатался всю ночь по улицам Петрограда»…
Есенин, отвергая ласковые домогательства Клюева, в отличие от Приблудного, понимал, чем он обязан Клюеву, и окончательно никогда не мог порвать с ним. «Клюев расчищал нам всем дорогу, – говорил поэт Бениславской. – Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла». Цитируя эти слова из разговора с Есениным, Бениславская от себя добавляет: «Быть может, потому, несмотря на брезгливое и жалостное отношение, несмотря на отчужденность и даже презрение, С. А. не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему „смиренного Миколая“, хоть и хотел этого».
Однако отношения «жалости», «отчужденности» и даже «брезгливости» возникнут через несколько лет, а пока – пока поэты живут молодой, бурной, праздничной жизнью. Ради того, чтобы как-то обособиться от дворянско-интеллигентского слоя питерских литераторов и привлечь внимание к себе, как к писателям народным, по предложению Сергея Городецкого Клюев и Есенин вместе с Алексеем Ремизовым образовали осенью 1915 года группу писателей и назвали ее «Краса». Мечты и планы Сергея Городецкого простирались к тому, чтобы в «Красу» вошли и Николай Рерих, и Вячеслав Иванов, и даже Илья Репин. Но это в будущем, а пока на Невском проспекте и примыкающих к нему улицах появилась афиша, что в Концертном зале Тенишевского училища 25 октября в 8.30 вечера состоится вечер «Красы». «Сергей Городецкий. Зачальное присловие. Ржаные лики. Алексей Ремизов. Слово. Сергей Есенин. Русь. Маковые побаски…» В программе были и «Избяные песни» Клюева, и «Рязанские и заонежские частушки, побаски, канавушки, веленки и страдания (под ливенку)». По одним сведениям, вечер «успех имел грандиозный», «обширный зал Тенишевского училища был буквально переполнен». По свидетельству других очевидцев, «в зале собралась немногочисленная, но благоговейно-чуткая и признательная аудитория».
Лариса Рейснер в журнале «Рудин», близком к взглядам социал-демократов, дала откровенно ироничный отчет о вечере со злой карикатурой, на которой Городецкий был изображен в облике попугая, Клюев – совы, Ремизов – снегиря, а Есенин – как желторотый, еще не совсем оперившийся воробей.
Но, несмотря на иронию такого рода, Есенин прочнее и прочнее входил в культурную жизнь столицы.
Он знакомится с Максимом Горьким и его окружением в журнале «Летопись». Но главного дела поэт не упускает из виду: в октябре-ноябре ведет переговоры с издателем М. В. Аверьяновым о выпуске книги «Радуница», которая вышла через несколько месяцев, в начале 1916 года, и окончательно узаконила пребывание Есенина на русском поэтическом Олимпе.
Общество «Краса» между тем прекратило свою деятельность. Вместо него возникло новое литературное объединение «Страда», учрежденное 17 октября 1915 года на квартире того же Городецкого. Председателем «Страды» был избран плодовитый романист и публицист Иероним Ясинский, и 19 ноября «Страда» закатила в «Зале гражданских инженеров» вечер в трех отделениях. В первом выступали все известные нам писатели и поэты, во втором популярные певицы О. Нардуччи и Л. Некрасова. Были «артисты императорских театров», «русские сказки», «хор гусляров». Словом, программа пестрая и богатая, как меню в ресторане. Вечер, о котором писали чуть ли не все питерские газеты, прошел успешно. А 1915 год закончился для Есенина и Клюева поездкой в Царское Село к Ахматовой и Гумилеву, о которой мы уже упоминали.
Побывав в Царском Селе, Есенин и не подозревал, что в этом «Питерском Версале» ему придется прожить чуть ли не весь следующий 1916 год. Внимательно вглядываясь в события из жизни поэта, произошедшие в 1915 году, отмечаешь некоторые любопытные устойчивые черты его характера.
С наслаждением играет он с питерской интеллигенцией в человека из глубинной сказочной Руси, из народного чрева, где и живут по-другому, и говорят на настоящем, живом, непонятном столичной, вымороченной интеллигенции языке. Эта черта, прикрытая лукавой иронией, угадывается в надписях, с которыми Есенин дарил свою первую книжечку самым разным питерским светилам:
«Иерониму Иеронимовичу Ясинскому на добрую память от размышливых упевов сохи-дерёхи и поёмов константиновских – мещерских певнозубых озер».
«Другу Натану Венгрову на добрую память от ипостаси сохи-дерёхи за песни рыцаря, который ничего не ответил, когда спросили его о крови».
Ю. Балтрушайтису: «От поёмов Улыбыша перегудной мещеры… от баяшника соломенных суёмов».
«Максиму Горькому… от баяшника соломенных суёмов»…
Есенин как бы с чувством превосходства, даже не утруждая себя разнообразием автографов, загадывает своим именитым адресатам филологические загадки и лукаво предполагает, как они недоуменно и растерянно полезут в словари, чтобы разгадать их… Недаром же он хлопал себя по лбу и говорил: «Даль-то у меня вот он где!» – и был прав. Ни у Натана Венгрова, ни у Балтрушайтиса в голове Даль конечно же и не ночевал.
«Провоняю я редькой и луком и, тревожа вечернюю гладь, буду громко сморкаться в руку и во всем дурака валять…» – написал как-то поэт. И добавил: «Оттого, что без этих чудачеств я прожить на земле не могу».
С наслаждением «валял дурака» Сергей Есенин осенью 1915-го и в 1916 году. Иногда один, а иногда в паре с Клюевым, когда они выпрашивали деньги на жизнь у различных фондов и организаций, с удовольствием при этом сочиняя новые и дополняя старые легенды о самих себе.
Из прошения в Постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Императорской Академии наук:
«Мы живем крестьянским трудом, который безденежен и, отнимая много времени, не дает нам возможности учиться и складывать стихи».
Далее Клюев и Есенин заявляли, что они – «единственные кормильцы» своих престарелых родителей – просят по триста рублей на каждого. Вероятно, потому, что старцы из комиссии поняли, что никаким «крестьянским трудом» поэты не занимаются, «единственными кормильцами» не являются, они выдали вместо трехсот рублей Есенину – двадцать, а Клюеву, как более известному, – сорок.
В том же духе Есенин незадолго перед этим вышибал слезу из Иванова-Разумника, дабы получить помощь в Литературном фонде.
«С войной мне нынешний год приходилось ехать в Ревель, пробивать паклю, но ввиду нездоровости я вернулся… Ввиду этого я попросил бы… о ссуде руб. в 200…»
Ни в какой Ревель «пробивать паклю» Сережа, конечно, не ездил, но бессрочную ссуду «в размере 50 рублей» получил-таки…
А когда он уже служил санитаром в Царскосельском Федоровском городке и ходил в военной форме – новой, добротной, – в крепких яловых сапогах, шароварах и новой гимнастерке, он тем не менее разыгрывал комитет Литературного фонда: «Прошу покорнейше Литературный фонд оказать мне вспомоществование взаимообразное, в размере ста пятидесяти рублей. …Получив старые казенные сапоги, хожу по мокроте в дырявых, часто принужден из-за немоготной пищи голодать и ходить оборванным…»
Но в комитете Литературного фонда сидели стреляные воробьи. Они выяснили, какой гонорар получил поэт от «Северных записок» за повесть «Яр», и пришли к выводу, что «г-н Есенин теперь не нуждается».
Осенью 1916 года он познакомился с Маяковским.
«В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир» (В. Маяковский. Как делать стихи).
Произошло это, если быть точными, на квартире у Юрия Дегена. Есенин был в сапогах, а не в лаптях. Лапти он никогда не носил. Есенина попросили почитать стихи после Маяковского. Он прочитал. А когда стали просить еще, с улыбчивой неприязнью заявил:
– Где уж нам, деревенским, схватываться с городскими маяковскими. У них и одежда, и щиблеты модные, и голос трубный, а мы ведь тихенькие, смиренные.
Маяковский тут же отреагировал со свойственной ему показной грубостью:
– Да ты не ломайся, парень, не ломайся, миленок, тогда и у тебя будут модные щиблеты, помада в кармане и галстук с аршин.
А главный теоретик футуризма Давид Бурлюк, разглядывая Есенина, спросил:
– А зачем вы ходите в салоны?
Но не на того напал. Есенин не смутился и с лукавой откровенностью ответил:
– Глядишь, понравлюсь – и меня в люди выведут…
Вот как началась распря Есенина с Маяковским, которая длилась не только всю их жизнь, но продолжалась после смерти и того и другого.
Хмурым октябрьским днем Есенин, продолжая осуществлять свой план завоевания Петербурга, побывал на квартире сначала у Алексея Ремизова, потом – у Леонида Андреева. Андреева не было дома, и Есенин оставил ему в дар «Радуницу» с вариантом уже знакомой нам и неотразимо действующей на сердца столичных литераторов дарственной надписью: «Великому писателю земли русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упевов старух и молодок на память сердечную о сохе и понёве»…
В конце года Есенин составлял книжку «Голубень», стихи в ней проникнуты уже совершенно иными мотивами, нежели стихи «Радуницы». Все чаще и чаще приникает в них мелодия «солончаковой тоски» бескрайних просторов России, в которой так легко раствориться, потеряться, исчезнуть «в мордве и чуди», и где чувство воли органически переплетено с предощущением неволи, каторжанского пути к Востоку.
- О сторона ковыльной пущи,
- Ты сердцу ровностью близка,
- Но и в твоей таится гуще
- Солончаковая тоска.
- И ты, как я, в печальной требе,
- Забыв, кто друг тебе и враг,
- О розовом тоскуешь небе
- И голубиных облаках.
- Но и тебе из синей шири
- Пугливо кажет темнота
- И кандалы твоей Сибири,
- И горб Уральского хребта.
Он и сам предчувствует свой возможный путь «до сибирских гор» вместе с такими же, как он – отверженными, изгоями, вдыхающими пыль бесконечной кандальной дороги на своем крестном пути.
- Много зла от радости в убийцах,
- Их сердца просты.
- Но кривятся в почернелых лицах
- Голубые рты.
- Я одну мечту, скрывая, нежу,
- Что я сердцем чист.
- Но и я кого-нибудь зарежу
- Под осенний свист.
- И меня по ветряному свею,
- По тому ль песку,
- Поведут с веревкою на шее
- Полюбить тоску.
Русский простор страшит и манит, наполняет грудь скорбным восторгом, подобным тому, что охватывает в минуты обретения великого чувства любви и понимания неизбежности утраты.
- Многих ты, родина, ликом своим
- Жгла и томила по шахтам сырым.
- Много мечтает их, сильных и злых,
- Выкусить ягоды персей твоих.
- Только я верю: не выжить тому,
- Кто разлюбил свой острог и тюрьму…
- Вечная правда и гомон лесов
- Радуют душу под звон кандалов.
«Затерялась Русь в мордве и чуди…», «Край мой! Любимая Русь и Мордва!..» Не случайно Есенин поминает именно эту народность, с кротким нравом и доброй душой, народность, с которой у русского человека никогда не было никаких трений.
Наряду с составлением книжки «Голубень», Есенин занят и мелкими бытовыми заботами: просит «рублей 35» у издателя М. В. Аверьянова («Впредь буду обязан вам „Голубенью“»), пишет письма И. Ясинскому и Л. Андрееву с просьбой посодействовать публикациям его стихов в различных газетах и еженедельниках. Настроение ухудшается: вроде бы все знают, печатают, хвалят, а все равно жизнь держит его в черном теле. Ну кто он такой – молодой человек, уже двадцати одного года от роду? Ни кола ни двора, служит рядовым санитаром, несмотря на льготы, все равно приходится выносить урыльники за ранеными да слушать назидания и пожелания Ломана… Для питерских интеллектуалов (прав Клюев!) он по-прежнему экзотический персонаж, побалуются, побалуются, да и остынут… Уже остывают.
- Проплясал, проплакал дождь весенний,
- Замерла гроза.
- Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
- Подымать глаза…
- Скучно слушать под небесным древом
- Взмах незримых крыл:
- Не разбудишь ты своим напевом
- Дедовских могил!
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
- Вытянет персты.
- Близок твой кому-то красный вечер,
- Да не нужен ты.
- Всколыхнет он Брюсова и Блока
- Встормошит других…
Заканчивался 1916 год. Слава, словно пена, осела в салонах, со всеми великими поэтами и писателями земли русской – знаком, а радости мало. Да и на лицах у всех – ожидание чего-то высшего и страшного. Все начинают жить иными, пока неясными предчувствиями, и не до Есенина уже им, а ему не до них. Не сказалось еще в стихах то, ради чего он, «божья дудка», пришел в мир; да и скажется ли?.. Разгадает ли он свое предназначение? А если и разгадает – все равно «не изменят лик земли напевы»… Да, скучно мне с тобой, Сергей Есенин, скучно… Полный переворот в жизни нужен. Революция. Народная. Крестьянская. Второе пришествие нужно. И чувствует он в себе силы, чтобы стать его глашатаем и пророком… Наступал одна тысяча девятьсот семнадцатый год… Но пока в жизни поэта возникает еще один сюжет.
Завоевав симпатии в революционно-народнических, а также в либерально-интеллигентских кругах, Есенин и Клюев не отказались от случая наладить связи с представителями русской знати из «Общества возрождения художественной Руси» князьями А. Ширинским, С. Лазаревым, М. Путятиным. Они были верны своему правилу – опираться на всех, кто принимает их поэзию. Тут следует заметить, что в политическом смысле Сергей Есенин гораздо в большей степени, чем Клюев, был всеяден. Поскольку свою судьбу поэта он очень рано, еще в юности, осознал самым главным делом жизни, то ему было совершенно все равно, кто помогает ему, «божьей дудке», петь, жить, очаровывать… Народники? Хорошо. Социал-демократы? Годится. Суриковцы? А почему бы нет?! Питерские эстеты? С паршивой овцы хоть шерсти клок. Монархисты? Ну что же, и Пушкин, и Гоголь были монархисты. Левые эсеры? Ну что ж, у них газеты, крестьянская программа, влияние, организация… Большевики? Да я давно уже «гораздо левее» их…
В начале 1916 года они едут в Москву, где в течение января выступают не только в московском обществе «Свободная эстетика», но дважды (!) в аудиториях отнюдь не народнических и не революционных: в Марфо-Мариинской обители, находящейся под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны, и 12 января – перед самой великой княгиней в ее собственном доме. Тогда же, очевидно, Есенин и получил в подарок от Елизаветы Федоровны Евангелие из ее личной библиотеки.
Об этом выступлении остались интересные воспоминания близкого в те годы к высшему свету Москвы художника Михаила Нестерова.
«В начале месяца мы с женой получили приглашение великой княгини послушать у нее „сказителей“. Приглашались мы с детьми. В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке… Великая княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей». Далее Михаил Нестеров описывает встречу с зоркой точностью художника, запоминающего подробности:
«В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое: один молодой, лет двадцати, кудрявый блондин, с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой – сумрачный, широколицый брюнет лет под сорок. Оба были в поддевках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Сидели они рядом».
В обществе же «Свободной эстетики» они читали стихи уже в новых костюмах, заказанных для них Ломаном и изготовленных в Москве в их присутствии. Как писала газета «Утро России»: «Оба были в черных бархатных кафтанах, цветных рубахах и желтых сапогах». Полковник Ломан, заказавший эти костюмы и устроивший, видимо, вечер «сказителей» у великой княгини, смотрел далеко вперед. Он уже думал о том, чтобы «сказители» стали своими людьми в Царском Селе. Его планы совпадали с планами и самих поэтов.
Дело и для Ломана, и для Есенина упростилось после того, как 25 марта, через месяц после возвращения в Питер, Сергей был призван в армию окончательно. Отсрочка подошла к концу, но поэт, почувствовавший над собой ощутимое покровительство лейб-гвардии полковника, уже не расстраивался. Он понимал, что в действующую армию, на передовую, под пули он уже не попадет.
Так оно и случилось. В течение февраля-марта Ломан, преодолевая бюрократические рогатки, делает все от него зависящее, чтобы Есенин не попал на фронт. Сначала Сергея Есенина, уже зачисленного в запасной батальон, переводят в трофейную комиссию, составлявшуюся из работников искусств, а в начале апреля Есенин получает удостоверение, которое гласило:
«…С Высочайшего соизволения назначен санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны… Апрель 5–1916. Царское Село».
На прощанье Есенин выступает в Концертном зале Тенишевского училища вместе с Клюевым, Блоком и высокопарными и свято блюдущими свое «орденское» замкнутое братство акмеистами – Ахматовой, Адамовичем, Г. Ивановым, О. Мандельштамом…
Перед отъездом в Царское Село Сергей Есенин попал в один аристократический дом, к почтенному академику преклонного возраста с большими заслугами перед отечественной словесностью.
Хозяйке дома он понравился, поскольку вилкой и ножом пользовался за столом правильно, поддерживал беседу, не наглел, но и не конфузился. А разговор с академиком расстроил Сергея… Мэтр слушал его снисходительно:
– Милый друг, а Пушкина вы читали?
– Конечно, читал.
– Ну так подумайте сами, мог ли сказать Пушкин, что рука его крестится «на известку колоколен»? Во-первых, на известку креститься нельзя, во-вторых, неужели вы не понимаете, что крестится не рука ваша, а вы сами?..
Сергей опускал глаза, темнел лицом, сжимал скулы, но терпел…
Двадцатого апреля 1916 года он прибыл в Царское Село, на место своей льготной службы, под покровительство полковника Д. Н. Ломана. Его покровитель был любителем древнерусской старины. В царскосельской квартире «адъютанта императрицы» побывали в те годы художники братья Васнецовы, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Иван Билибин. Захаживали к нему в гости и знаменитый архитектор А. Щусев, и создатель великорусского оркестра В. Андреев. Д. Ломан руководил в Царском Селе строительством Федоровского городка. Это был как бы маленький русский Кремль в миниатюре – пять домов в древнерусском стиле, обнесенных кремлевской стеной, с резными каменными воротами. Городок был задуман как музейный экспонат, призванный воскресить древнее наше зодчество…
Благодаря покровительству полковника Ломана военная служба не была для новобранца тяжким бременем. Ему, правда, пришлось дважды – сначала в апреле и мае – сопровождать раненых из петроградских и царскосельских госпиталей в Крым, а потом, в июне, съездить с эшелоном за новой партией раненых к линии фронта – в Киев, Коно-топ, Шепетовку, но по возвращении он подал прошение об отпуске для поездки домой, и ему выписали увольнительный лист «в Рязань сроком на 15 дней». А всего Есенин служил в Царском Селе 11 месяцев и в течение этого срока отлучался в июне в Петроград, в июне же на две недели в увольнительную в Москву и Константиново после операции аппендицита, в начале июля – опять в Петроград, 17 июля уехал на день в Вологду с Алексеем Ганиным, с которым познакомился в Царском Селе, в октябре опять побывал в Петрограде, 3 ноября на три недели прибыл в Москву, в декабре – снова отлучился в Питер…
Так что в «Автобиографии» 1923 года поэт не очень уж присочинял, когда писал:
«При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч.
Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Отказывался, советуясь и ища поддержки в Иванове-Разумнике…»
В этом маленьком отрывочке смесь правды и поэтической фантазии. Ко льготам Есенин действительно был представлен. И стихи читал. На концерте, который был дан 22 июля 1916 года в царскосельском лазарете по случаю тезоименитства младшей дочери императора великой княжны Марии Николаевны. Одни исследователи считают, что, кроме двух именинниц, на концерте никого больше из царствующей фамилии не было, что Александра Федоровна лишь должна была приехать, но не приехала. Другие все-таки убеждены, что Сергея Есенина слушали все четыре великие княжны вместе с матерью и что разговор о «грустной России» произошел именно с ней, после того как Есенин прочитал стихотворение «Русь»:
- Потонула деревня в ухабинах,
- Заслонили избенки леса.
- Только видно, на кочках и впадинах,
- Как синеют кругом небеса.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Запугала нас сила нечистая,
- Что ни прорубь – везде колдуны.
- В злую заморозь в сумерки мглистые
- На березах висят галуны.
Конечно же невеселое стихотворение написал Есенин, посвященное страшной войне. И лермонтовскую строчку («Но я люблю, за что не знаю сам») по-своему переосмыслил:
- Но люблю тебя, родина кроткая!
- А за что – разгадать не могу.
И все-таки его выбор для чтения был очень удачен. Он прочитал стихотворение императрицам и княжнам лишь потому, что в нем речь идет о войне как о великой страде народной.
«Понакаркали черные вороны» войну, и вот уже собираются ополченцы, провожают их жены с детишками. И поэт шлет им свое благословение:
- По селу до высокой околицы
- Провожал их огулом народ…
- Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
- Вся опора в годину невзгод.
Нет в этом стихотворении прямого «ура-патриотизма», но нет и социал-демократического пацифизма, нет и проклятий «империалистической бойне». Война в нем как тяжкая, но неизбежная работа, как общее переживание народное, особенно трогательное в те минуты, когда вся деревня, получив весточки с фронта, собирается, и кто-то из баб, умеющих читать, разбирает «каракули», выведенные «в родных грамотках»:
- Собралися над четницей Лушею
- Допытаться любимых речей.
- И на корточках плакали, слушая,
- На успехи родных силачей.
А где-то между этими избами, среди баб и детей, бродит поэт и шепчет слова «люблю», «верю» – каждый раз по-разному:
- Но люблю тебя, родина кроткая!..
- Я люблю эти хижины хилые
- С поджиданьем седых матерей.
«Русь» – может быть, самое «соборное» стихотворение Есенина, никогда, пожалуй, больше он не растворял столь полно свое «я» в стихии народной жизни, как в этой маленькой поэме:
- Помирился я с мыслями слабыми,
- Хоть бы стать мне кустом у воды.
- Я хочу верить в лучшее с бабами,
- Тепля свечку вечерней звезды.
Поэт в «Руси» предстает как бы лишь неким отражателем народного чувства, угадчиком не своих, а общих надежд и переживаний:
- Я гадаю по взорам невестиным
- На войне о судьбе жениха…
- Разгадал я их думы несметные…
- А за думой разлуки с родимыми
- В мягких травах, под бусами рос,
- Им мерещился в далях за дымами
- Над лугами веселый покос…
Бабы, невесты, ополченцы, ребята, матери… Мир… Просто «Русь». «Русь советская» и «Русь уходящая» будут потом, через несколько лет. Как и «Русь бесприютная»…
Есенин знал, что надо читать в царскосельском лазарете, голос его звенел, и стоял он, как древнерусский рында, в голубой рубахе, плисовых шароварах, желтых сапогах, и похож был не на какого-то опереточного ряженого, а на «отрока Варфоломея» с картины Нестерова…
Но крайне важно вспомнить, что на этом концерте он читал не только «Русь», но и специально написанное по заказу Дмитрия Николаевича Ломана стихотворное приветствие молодым царевнам. Лишь в 1960 году в газете «Волжская коммуна» был опубликован текст этого приветствия, «не отличающегося большим поэтическим достоинством», как сказано в статье одного из есениноведов.
Текст этот на листе ватманской бумаги был писан акварелью, древнерусской вязью и окружен орнаментом… Конечно, исследователи есенинского творчества, которые делали из него стопроцентного советского поэта, приходили в ужас, вчитываясь в стихотворение, хранимое за семью печатями в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде:
- В багровом зареве закат шипуч и пенен,
- Березки белые горят в своих венцах.
- Приветствует мой стих младых царевен
- И кротость юную в их ласковых сердцах.
- Где тени бледные и горестные муки,
- Они тому, кто шел страдать за нас,
- Протягивают царственные руки,
- Благословляя их к грядущей жизни час.
- На ложе белом, в ярком блеске света,
- Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…
- И вздрагивают стены лазарета
- От жалости, что им сжимает грудь.
- Все ближе тянет их рукой неодолимой
- Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
- О, помолись, святая Магдалина,
- За их судьбу.
Как странно! То, что казалось адептам соцреалистического литературоведения «монархическими настроениями» поэта, сегодня для нас, как бы заново переживших екатеринбургскую трагедию, кажется чуть ли не предчувствием поэта, угадывающего будущий жребий царевен. «И кротость юная в их ласковых сердцах», и «скорбь», которая «кладет печать на лбу», и обращение к святой Магдалине помолиться за них – все это уже не кажется сентиментальной риторикой, но таинственным образом перекликается со стихотворением, которое читали и переписывали несчастные царевны перед мученической смертью:
- Пошли нам, Господи, терпенье
- В годину буйных, мрачных дней
- Сносить народное гоненье
- И пытки наших палачей…
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- И в дни мятежного волненья,
- Когда ограбят нас враги,
- Терпеть позор и униженья,
- Христос, Спаситель, помоги!..
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- И у преддверия могилы
- Вдохни в уста Твоих рабов
- Нечеловеческие силы
- Молиться кротко за врагов!
Это стихотворение С. С. Бехтеева (1879–1954), забытого поэта, члена «Русского собрания», сосредоточившего в себе лучшую и умнейшую часть интеллигенции, сопротивлявшейся революционным «бесам», – русскую элиту, заклейменную этими бесами «черносотенной».
Николай Бухарин не знал есенинского посвящения великим княжнам, когда писал свои «Злые заметки» – посмертный приговор Есенину. Хотя он помнил, что поэт читал стихи государыне и царевнам («припадать к государевой ножке»). Но есть нечто роковое в том, что партийный монстр и профессиональный русофоб не удержался и с удовольствием-таки вспомнил о царевнах, которые, как он бестрепетно написал, «были немножко перестреляны за ненадобностью». Есенин же скорбел о царских дочерях еще при их жизни. Читаешь бухаринскую палаческую фразу, и тут же в один мистический узел стягивается все: и эта фраза, и молитва-стихотворение Бехтеета, и мольба Есенина о царевнах, и его знаменитая строка «не расстреливал несчастных по темницам…».
Императрица распорядилась, чтобы за выступление на концерте молодой поэт был награжден золотыми часами. Все исследователи жизни и творчества Есенина не сомневались, что он эти часы получил, но лишь в 1968 году литературовед В. Вдовин выяснил, что Ломан вручил Есенину обычные часы, а золотые оставил себе. После революции, когда Ломан был арестован как фигура, близкая императорскому двору, у него были конфискованы золотые часы фирмы «Павел Буре» за номером 451560, предназначенные поэту. Уполномоченные Временного правительства даже попытались найти Есенина, чтобы вручить ему подарок императрицы, но якобы не нашли. В докладной было сказано: «Вручить их (часы) не представляется возможным за необнаружением местожительства Есенина».
Так второй раз золотые часы с цепочкой «из кабинета его величества» не дошли до Есенина. Прилипли к рукам какого-нибудь «уполномоченного» и пропали уже навсегда.
На этом фактически и оборвались отношения Есенина с меценатами и хозяевами либеральных литературных салонов. О том, как восприняла «чистая публика» известие о чтении стихов Есениным перед членами императорской фамилии, рассказывал много позже в «Петербургских зимах» Георгий Иванов:
«Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 г. вдруг распространился и подтвердился „чудовищный слух“: „наш“ Есенин, „душка“ Есенин, „прелестный мальчик“ Есенин – представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!
Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет черной сотни», а непреложный факт…
Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С. И. Чайкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» «тараном искусства по царизму», на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровья «из-за какого-то ренегата»…
Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала… До революции, чтобы «выгнать из литературы» любого «отступника», достаточно было двух-трех телефонных звонков «папы» Милюкова кому следует из редакционного кабинета «Речи». Дальше машина «общественного мнения» работала уже сама – автоматически и беспощадно…»
Но объективности ради надо сказать, что Сергей Есенин после революции мог и по-другому, в зависимости от обстоятельств, изобразить и царское семейство, и свое отношение к нему.
Конечно, в некоторых рассказах многие чувства и мысли поэта подверстаны к воспоминаниям о нем задним числом, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. (Хотя определенные поправки в связи с тем, что мемуаристы могли раскрасить воспоминания Есенина своими собственными мазками, все же необходимы.) Всеволод Рождественский, например, вспоминает, как Сергей Есенин, с которым он встретился на Невском в декабре 1916 года, рисовал ему такую картину своего бытья-житья в Царском Селе:
«И пуще всего донимают царские дочери – чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются, образки раздают, как орехи с елки. Играют в солдатики, одним словом. Я и „немку“ два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись – рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть здесь санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались. Велели читать. И читаю, а они вздыхают: „Ах, это все о народе, о великом нашем мученике-страдальце…“ И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю – что вы в этом народе понимаете!»
Даже если допустить, что слова Есенина в целом переданы Рождественским точно, все равно за ними не стоит ничего, кроме некоторой выдумки и напускного раздражения. Все равно Есенин, написавший (да не написавший, а выдохнувший из глубины души) «не расстреливал несчастных по темницам», находится вместе с царевнами на светлом полюсе жизни, а все расстрелыцики – бухарины, юровские, урицкие – на другом – там, где вечная тьма, вечный грех и вечное возмездие…
А теперь перейдем к словам Есенина из «Автобиографии» 1923 года о том, что он угодил в дисциплинарный батальон за отказ «написать стихи в честь царя».
Идеалы монархии и ее основы во время войны подтачивались со всех сторон. Либеральная интеллигенция жаждала демократии.
Самые яркие политические фигуры Государственной думы – Пуришкевич, Гучков, князь Львов, Керенский – изо всех сил раскачивали монархические устои государства. В этих условиях люди, близкие ко двору, пытались опереться хоть на какие-то чувства верности царю и отечеству в народных массах, главным образом – в крестьянстве. Монархическое «Общество возрождения художественной Руси» имело целую программу работы. Программа очень пессимистически оценивала состояние искусства XX века:
«1. Национальная несостоятельность современной русской литературы. Бессилие европейских форм…
2. Славянский классицизм как историческая неизбежность.
3. Преодоление «европеизма», необходимость литературного переворота, коренная ломка двухсотлетних навыков. Возврат к племенным источникам. Назад в дотатарскую Русь!»
Таков один из документов «Общества». А в другом – была дана положительная установка:
«Учредители „Общества возрождения художественной Руси“ с благоговением обращают свой взор к Царскому Престолу, как исконному средоточию русской самобытности»…
И конечно же не случайно, что один из организаторов «Общества», Д. Ломан, нашел Клюева и Есенина. После успешного концерта для особ царствующего Дома им, видимо, было предложено написать какие-то стихи монархического или верноподданнического склада, может быть, непосредственно о самом монархе. Поэты не то чтобы отказались, но ответили Ломану письмом-трактатом, написанным Николаем Клюевым от своего имени и от имени Есенина. У автора этого письма были давние крестьянские счеты с Домом Романовых:
«На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Федоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой – я отвечу словами древней рукописи: „Мужие книжны, писцы, золотари заповедь и честь с духовными приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерях близ святителей с честными людьми“. Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношения к нему. Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления. Говорить же о чем-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, окромя лжи и безобразия, не выйдет».
Вот так, юродствуя и оставаясь себе на уме, Клюев с Есениным отвергли ломановские посулы и соблазны. Но Есенин приукрасил, сказав, что его после этого отправили в дисциплинарный батальон.
Помимо Клюева, устоять против царскосельских соблазнов Есенину помогал, как он сам пишет в «Автобиографии» 1923 года, народнический критик и публицист Иванов-Разумник, живший тогда по соседству.
Пожалуй что, он влиял на Есенина не менее, чем Блок или Клюев. Есенин необычайно высоко ценил его мятежность, ум, его идеи. Через несколько месяцев в письме к Александру Ширяевцу от 24 июля 1917 года Есенин, уничижительно отзываясь о петербургских литераторах, напишет: «Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим (ценное признание! – Ст. и С. К.). Это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя».
Клюев и Разумник Иванов удержали Есенина от «невыгодного», по их мнению, сближения со двором. Полковник Ломан понял это. Еще раз-другой в начале 1917 года Есенина приглашали в высший свет: 5 января – на богослужение в Федоровский собор, а 19 февраля – на завтрак с чтением стихов для членов «Общества возрождения художественной Руси». На этом роман монархии и поэзии был исчерпан, и 22 февраля 1917 года Ломан подписал Есенину удостоверение, обязывающее поэта явиться в Могилев для продолжения службы во 2-м батальоне Собственного Ея Императорского Величества сводного пехотного полка…
Но тут наступили сумбурные дни февральской революции, и дальше с поэтом случилось то, о чем он сам откровенно написал в «Анне Снегиной»:
- Я бросил мою винтовку,
- Купил себе «липу», и вот
- С такою-то подготовкой
- Я встретил 17-й год.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Но все же не взял я шпагу…
- Под грохот и рев мортир
- Другую явил я отвагу —
- Был первый в стране дезертир.
Стать дезертиром в те дни было легче легкого. 2 марта был опубликован знаменитый «Приказ № 1», обращенный к армии, где, в частности, говорилось: «Немедленно выбрать комитеты от нижних чинов… Всякого рода оружие… должно находиться в распоряжении комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам… Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане…»
Речь шла об уничтожении армии. А за ее уничтожением, естественно, должен был последовать крах государства. Есенин почувствовал всю грандиозность то ли преображения жизни, то ли надвигающейся катастрофы.
Глава пятая
«Наше время пришло…»
О Русь, взмахни крылами…
С. Есенин
Воздух надвигающейся весенней революции, как хмель, ударил в головы Есенина и его друзей, крестьянских поэтов.
«Помню Есенина очень хорошо в первые дни Февральской революции: он ходил „сам не свой“, точно опьяненный. Одна встреча особенно запала в память. Иду по Невскому. Голубой снег. Прошло всего несколько дней после февральского переворота. Кое-где еще летят грузовые автомобили, наполненные веселыми, розовыми, распевающими новые революционные песни солдатами с винтовками. Вдруг вижу – прямо по улице идут четверо, взявшись за руки, точно цепью. Смотрю: Клюев, Клычков, Орешин и с ними Есенин. Все какие-то новые – широкогрудые, взлохмаченные, все в расстегнутых пальто. Накидываются на меня. Колют злыми словами: „Наше время пришло!“ – шипит елейный Клюев. Есенин тоже старается от него не отстать: говорит какие-то бессмысленные колкости. Я смотрю на него и глазам не верю. Что это на тебя нашло? – спрашиваю. – Брось! Противно. – Он улыбается незаметно для остальных. В глазах его прыгают веселые бесенята».
Этот фрагмент из воспоминаний Рюрика Ивнева крайне любопытен и достоин развернутого комментария.
Обратим внимание, что революционные страсти поэтов пытается описать дворянин Рюрик Ивнев, которому «противно» видеть их революционный восторг и который вскоре начнет сотрудничать с большевиками, станет помощником Луначарского, государственным чиновником.
Сергей Есенин верен себе. Еще 19 февраля он читал в трапезной Федоровского городка стихи на завтраке, куда Ломан пригласил более 100 высокопоставленных царедворцев, а через две недели уже говорит какие-то революционные «колкости», но при этом подмигивая Рюрику Ивневу, как бы поясняя: «Да не сердись ты, дай потешиться, поиграть в очередную игру, время-то весеннее…» Вспомним, как Есенин, обнажая свою поэтическую сущность, писал А. Ширяевцу: «Выдумывал себя и подкладывал всем другим». Подкладывал царедворцу Ломану, – так почему бы не «подложить» себя февральскому весеннему ветру, сорвавшему с головы Помазанника Божия царскую корону? Все равно ведь суть есенинская не в дружбе с Ломаном и не в революционных веяниях. Она в чем-то ином – в мечте о главном устроении, о таком преображении жизни, о таком ее совпадении с грезами, которое не снилось никаким революционерам. И все-таки воздух свободы опьяняет, недаром Ивнев зорко подметил: «Все они какие-то новые – широкогрудые»…
И стихи Есенина искрятся, звенят, светятся мартовской синевой, дышат свежестью, талой водой, верой в свою уже неизбежно восходящую звезду.
- Разбуди меня завтра рано,
- О моя терпеливая мать!
- Я пойду за дорожным курганом
- Дорогого гостя встречать.
Стихотворение волшебное! Дорогой гость – кто только не расшифровывал этот образ. Вспоминается и «гость чудесный» – Христос-жених из стихов Клычкова, но скорее всего дорогой гость – это предчувствие Есениным полного обновления жизни, исполнения самых тайных и высоких надежд и желаний, пришествия будущего, наполненного смыслом и красотой. Скорее всего это облик судьбы, мчащейся навстречу поэту на сказочной колеснице:
- Я сегодня увидел в пуще
- След широких колес на лугу.
- Треплет ветер под облачной кущей
- Золотую его дугу.
Дорогой гость – судьба – обретает черты языческого, сказочного чуда:
- На рассвете он завтра промчится,
- Шапку-месяц пригнув под кустом,
- И игриво взмахнет кобылица
- Над равниною красным хвостом.
И лошадь под ним сказочная – красная, как на иконе Георгия Победоносца или на картине Петрова-Водкина.
- Разбуди меня завтра рано,
- Засвети в нашей горнице свет.
- Говорят, что я скоро стану
- Знаменитый русский поэт.
И в последней строфе образ гостя сливается со всем, что дорого в жизни поэту. Гость становится в центре его поэтического крестьянского мира, где рядом – мать, кров, печь, корова, петух:
- Воспою я тебя и гостя,
- Нашу печь, петуха и кров…
- И на песни мои прольется
- Молоко твоих рыжих коров.
Млечная река, как образ крещения, как святая вода при таинстве есенинской евхаристии.
На одном дыхании с этим стихотворением написано и другое, тоже программное:
- О Русь, взмахни крылами…
В нем Есенин как бы реализует клюевскую цепкую и волевую мысль о том, что «наше время пришло», он, как юный князь, собирает перед решительным сражением свою дружину, в которой в «златой ряднине» идет Алексей Кольцов, а за ним «с снегов и ветра из монастырских врат, идет, одетый светом, его середний брат» – «смиренный Миколай», мудрый Клюев, который в жизни совсем не «монашьи мудр и ласков» – но не все ли равно Есенину, он творит легенду обо всех, в том числе и о Клюеве, здесь же и «сродник наш, Чапыгин, певуч, как снег и дол», но впереди – впереди сам Есенин:
- А там, за взгорьем смолым,
- Иду, тропу тая,
- Кудрявый и веселый,
- Такой разбойный я.
За Есениным все остальные, всех не перечислить – это целое войско имен, лиц, талантов:
- За мной незримым роем
- Идет кольцо других,
- И далеко по селам
- Звенит их бойкий стих.
Да, они новые люди, их бойкий стих «звенит», но главная цель, главная задача, главное дело, порученное им судьбой, – за ним, за Сергеем Есениным, – потому что
- Долга, крута дорога,
- Несчетны склоны гор;
- Но даже с тайной Бога
- Веду я тайно спор.
Написал Есенин – и сам себе не поверил: неужели он может разгадать эту последнюю тайну, данную человечеству при его рождении, – тайну Бога, и заклубились в душе чувства, а в голове мысли, и забилось учащенно сердце, и из этого тумана вдруг дерзко выплыло, кристаллизуясь, ощущение того, что он воистину может все это сказать, может раскрыть тайну Бога, но для этого нужно, чтобы вдохновение и смелость его были не меньше, чем у знаменитых библейских пророков, разговаривавших с Богом:
- Не устрашуся гибели,
- Ни копий, ни стрел дождей, —
- Так говорит по Библии
- Пророк Есенин Сергей.
Да, надо писать свои пророчества, свой Апокалипсис, свой Третий Завет.
Цикл поэм 1917–1918 годов начал распирать его душу и проситься из ее недр на волю. Но все это совпало с трудными, прекрасными и драматическими обстоятельствами личной жизни поэта.
Весной 1917 года Есенин, в поисках той социальной силы, которая была бы наиболее близка его мечте о крестьянском рае на земле, сближается с эсерами. «…Работал с эсерами не как партийный, а как поэт», – вспоминал Есенин впоследствии. Вот в этом «не как партийный, а как поэт» – загадка многих превращений Есенина. Он легко и естественно (как Пушкин, который одновременно был певцом империи и свободы) мог примыкать к царскосельскому обществу, а через месяц примкнуть к эсерам, которые убедительнее других политических сил выражали волю крестьянства; потом к большевикам: а почему бы и нет, если они перехватили у эсеров лозунг «земля крестьянам» и начали проводить его в жизнь?
«В первый раз, – вспоминает В. Чернявский, – я видел его в таком кругу: его золотая голова поэта и широкая улыбка сияли среди черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков». Вот так всегда и будет, и до сих пор было так: «золотая голова» поэта сияла среди скучных и правильных суриковцев, среди молодых лидеров с.-д. движения в типографии Сытина, с их форменными косоворотками; так же он будет «сиять» среди лощеных, затянутых в модные костюмы имажинистов и среди черных кожаных чекистских курток в толпе Троцких, блюмкиных, раскольниковых, все так же будет светить и поражать это златоглавое чудо своей непохожестью на все другие головы, которые с хищным любопытством собирались вокруг источника света… Пока же Есенин – в окружении «черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков». «Но была в нем большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк революции и поворот в личной жизни освободили в нем новые энергии» (В. Чернявский. Воспоминания).
Это свидетельство очевидца. Есенин, вроде бы поверив, что жизнь меняется коренным образом в его пользу («наше время пришло»), перестает осторожничать и подлаживаться к людям и обстоятельствам, перестает «подкладывать себя», ощущает редкое для человека вообще счастье быть самим собой. Недолго продлится эта иллюзия свободы – скоро придут другие времена. Через два-три года, в эпоху «военного коммунизма», ему опять, как в царскосельские дни, придется надевать на себя маску, идти на свидание к Троцкому, Калинину, Каменеву, деланно окать, снова притворяться крестьянином, уже не патриархальным «пейзаном», а талантом из низовых слоев сельской бедноты, выпрашивая у новых сильных мира сего бумагу для изданий или разрешение на открытие книжной лавки.
Снова начнется для него, который уже «значенье свое разгадал», унизительное «подкладывание». Снова наступит пора взаимного недоверчивого изучения поэта и власти, снова маскарад с обеих сторон: власть будет притворяться народной, а поэт – рупором революции. Но это в ближайшем будущем, а пока Есенин наполнен новыми энергиями, энергиями надежд, творчества, и новым чувством к молодой секретарше из эсеровской газеты «Дело народа» Зинаиде Райх.
О Зинаиде Райх современники оставили взаимоисключающие характеристики. В одних воспоминаниях – она красавица и преданная жена. В других же изображается как неуравновешенная, экзальтированная особа, отнюдь не красавица, дававшая, однако, благодаря своей сексапильности реальные поводы для ревности обоим своим знаменитым мужьям – сперва Есенину, затем Мейерхольду.
Подруга Зинаиды Райх по 1917–1918 годам Мина Львовна Свирская, деятельница эсеровской партии, оставила весьма подробные и, по всей видимости, достоверные воспоминания о первых встречах Есенина и Райх.
Сама Свирская за сопротивление большевизму, за попытки возродить деятельность Учредительного собрания, разогнанного Лениным, не раз подвергалась арестам в начале 1920-х годов, а потом провела в тюрьмах, концлагерях и ссылках с небольшим перерывом около 25 лет. После 1956 года эмигрировала в Израиль, где, завершив свои воспоминания, умерла в 1978 году.
Надо сказать, что эсеры, так страстно протестовавшие в 1918 году в многочисленных воззваниях и решениях против закрытия своих газет, против незаконных арестов и гонений, пожинали плоды собственной же идеологии и практики террора. Совсем недавно они теми же методами закрывали черносотенные, буржуазные и правительственные газеты, провоцировали бессудную расправу над черносотенцами, бывшими чиновниками монархической системы, буржуазными публицистами, жандармами, судьями… А теперь с яростью упрекали большевиков в том, что те, вместо того чтобы добивать черносотенцев, взялись за них, за социалистов-революционеров… Змея теперь стала кусать свой хвост…
Но в счастливом 1917 году шестнадцатилетняя Мина Свирская еще не испила из этой чаши и дружила с Зинаидой Райх и Сергеем Есениным. Свирская встретилась с Есениным у издателей «Северных записок» Сакеров, где поэт по просьбе легендарного народовольца Германа Лопатина пел для него частушки. В это время, летом 1917-го, Есенин вместе с Ганиным частенько заходил в редакцию «Дела народа», где литературным редактором был Иванов-Разумник, который и познакомил их с Зинаидой Райх. Молодая секретарша газеты не раз позволяла Есенину и Ганину ночевать в служебных апартаментах на обитых шелком великокняжеских стульях.
Есенин зачастил в общество распространения эсеровской литературы, где Райх стала председательницей. «Он приходил всегда во второй половине дня. В легком пальтишке, в фетровой, несколько помятой черной шляпе, молча протягивал нам руку, доставал из шкафа толстый том Щапова „История раскольнического движения“ и усаживался читать… Пальто он не снимал, воротник поднимал и глубже нахлобучивал шляпу» (Мина Свирская).
Позже появлялся Алексей Ганин, уже влюбленный в Зинаиду Райх, потом приходила она, и четверо молодых людей отправлялись бродить по Петрограду. Мина с Сергеем шли впереди, а за ними Зинаида с Алексеем. Поэты читали своим спутницам новые стихи, потом читали их друг другу, останавливались, начинали спорить, забывали о девушках, которые, потеряв терпение, уходили вперед.
Мина вспоминает, как между поэтами однажды произошел спор о строчке «небо озвездилось». Спорили долго, и с тех пор Зинаида, когда эти споры затягивались, говорила подруге: «Опять у них „озвездилось“, пойдем, они нас догонят». Замерзнув, они заходили в какую-нибудь чайную погреться горячим чаем из пузатых чайников.
Однажды в Павловске Алексей Ганин прочитал стихотворение «Русалка», посвященное Зинаиде. Есенин не остался в долгу и тут же сочинил экспромт, посвященный Мине, который не сохранился. Он сравнивал короткие, остриженные и всегда растрепанные кудри девушки с веточками берез. Практичная не по годам ее старшая подруга деловито заметила: «Будешь теперь причесываться».
Кто был тогда в кого влюблен – трудно сказать. Все по-своему были влюблены друг в друга.
Во всяком случае, летом 1917 года Есенин вбежал в помещение Общества и предложил Свирской: «Мина, едемте с нами на Соловки. Мы с Алексеем едем». Старые революционеры и революционерки стали высмеивать затею их отъезда в то время, когда надо готовиться к выборам в Учредительное собрание, но все произошло всерьез.
«Придя к Зинаиде, я ей тут же рассказала, что Сергей с Алешей собрались ехать на Соловки и Сергей пришел звать меня. Она вскочила, захлопала в ладоши – „Ох, как интересно! Я поеду. Сейчас пойду отпрашиваться…“» Отпросилась, перехватила инициативу. А Мина, как преданный революционному долгу человек, с сожалением, но отказалась… Райх нашла деньги на поездку. И троица укатила на Север. При каких обстоятельствах произошло неожиданное объяснение в любви Есенина и Райх, можно только гадать. Ведь за Зинаидой ухаживал Ганин, и она благосклонно относилась к нему.
Известно лишь то, что на обратном пути с Соловков в поезде Есенин сделал предложение Райх. Венчались они в Кирико-Улитовской церкви возле Вологды. Шафером со стороны жениха был несчастный Ганин.
Есенин очень скоро начал жалеть, что поторопился снова связать себя семейными узами. В конце сентября молодые вернулись в Петроград. Приближался день рождения Сергея. Зинаида собрала гостей – несколько человек. Скудная закуска, не было электричества. На столе – маленькая керосиновая лампа, свечи и несколько бутылок. Впрочем, по тем временам стол выглядел празднично. Были Ганин, Иванов-Разумник, Петр Орешин. Есенин настоял, чтобы Мина с Алешей выпили на брудершафт. Выпили. Ганин стал придумывать для Мины штраф, если она будет сбиваться с «ты» на «вы». Вдруг Есенин встал, взял со стола одну свечу и потянул девушку за руку: «Идем со мной, мы сейчас вернемся». Есенин сел за стол, показал ей на второй стул. Она села. Он стал писать.
– Сережа, я пойду.
– Нет, нет, посиди: я сейчас, сейчас.
Дописав, он прочел Мине следующее стихотворение. В нем было пять четверостиший, но пятое по истечении времени она так и не вспомнила. Стихи эти были опубликованы нами лишь в 1980 году, когда мы услышали их от ее подруги, дожившей до преклонных лет.
- МИНЕ
- От берегов, где просинь
- Душистей, чем вода,
- Я двадцать третью осень
- Пришел встречать сюда.
- Я вижу сонмы ликов
- И смех их за вином,
- Но журавлиных криков
- Не слышу за окном.
- О, радостная Мина,
- Я так же, как и ты,
- Влюблен в мои долины (?)
- Как в детские мечты.
- Но тяжелее чарку
- Я подношу к губам,
- Как нищий злато в сумку,
- С слезою пополам.
– Сережа, почему ты написал, что влюблен так же, как я? Ведь ты меня научил любить. – Он ничего не ответил. Держа свечу в одной руке и листок со стихотворением в другой, вышел из комнаты, прочел стихотворение присутствующим и отдал его Свирской. Вечером, когда все уже собирались уходить, Ганин сказал, что пойдет провожать Мину. Он уже снял пальто с вешалки. Сергей подошел к нему, взял у него из рук пальто и быстро надел его на себя. Погода была прескверная. Моросил мелкий дождь. По мере того как они приближались к Неве, туман усиливался. На мосту Мина остановилась и сказала: «Давай смотреть на воду, интересно, что мы увидим в день твоего рождения». – «Ничего не получится», – ответил он и потянул ее за руку. И молча они дошли до ее дома. Через день или два пришел в Общество Ганин: «Если бы ты знала, как Сергуньке попало». – «Алеша, за что?» – «Нет, не за то, что он пошел тебя провожать. Зина упрекала его, что он не подарил ей ни одного стихотворения. Он слушал ее, надувшись, ничего ей не ответил, потом быстро оделся и ушел».
Поездка Есенина с Зинаидой Райх и Алексеем Ганиным на Север – одна из самых малоизученных страниц жизни поэта. В сущности, о его пребывании в Европе и в Америке мы знаем гораздо больше, нежели о том, как он побывал на Соловках и на Белом море. Известно только, что все трое в конце июля уехали из Питера в Вологду… Алексей Ганин был расстрелян 30 марта 1925 года, не успев ни написать, ни рассказать о поездке Есенина на Север. Зинаида Райх, пережив смерть Есенина и Ганина, также всю жизнь хранила молчание, которое во второй половине 1930-х годов усугублялось смертельной опасностью, нависшей над Всеволодом Мейерхольдом и над ней, его женой.
Но она оставила план воспоминаний о жизни с Есениным, из нескольких пунктов которого их дочь Татьяна (она родилась через девять месяцев после упомянутого путешествия, в мае 1918 года) попыталась воссоздать мемуары матери.
Вот несколько отрывков из этих своеобразных «общих» мемуаров дочери и матери, которые дают более или менее точное представление о Зинаиде Райх и ее жизни с Есениным.
«В одном из первых пунктов она могла бы упомянуть, что еще до знакомства с Есениным у нее появился жених… она дала согласие, но сроки свадьбы не оговаривались».
Появление Ганина, а потом Есенина, видимо, заставило Райх забыть о женихе.
Неясно, в каком составе они путешествовали по Северу: «Слишком уж отчетливо я помню такие слова матери: „Все трое были ко мне немного неравнодушны“, или такие: „Мы все четверо вышли к Вологде“. Кто был четвертым – об этом пока ничего не известно».
Алексей Ганин, видимо, ревновавший Райх к Есенину, понимал, что его возлюбленная все больше и больше отдает предпочтение его знаменитому сопернику. В его стихах, посвященных Райх, недаром есть такие строки:
- Она далеко, – не услышит,
- Услышит, – забудет скорей;
- Ей сказками на сердце дышит
- Разбойник с кудрявых полей.
По словам Зинаиды Райх, записанным ее дочерью спустя полвека, конфликт между супругами начался уже в первые месяцы их совместной жизни, в Петрограде.
«Об этой первой настоящей ссоре мне было рассказано подробно. До этого дня она ни малейших изменений в отношении к себе своего мужа не замечала.
Она пришла с работы. В комнате, где он обычно работал за обеденным столом, был полный разгром: на полу валялись раскрытые чемоданы, вещи смяты, раскиданы, повсюду листы исписанной бумаги. Топилась печь, он сидел перед нею на корточках и не сразу обернулся – продолжал засовывать в топку скомканные листы. Она успела разглядеть, что он сжигает рукопись своей пьесы. Но вот он поднялся ей навстречу. Чужое лицо – такого она еще не видела. На нее посыпались ужасные, оскорбительные слова – она не знала, что он способен их произносить. Она упала на пол – не в обморок, просто упала и разрыдалась. Он не подошел. Когда поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: «Подарки от любовников принимаешь?!» Швырнул коробочку на стол. Она доплелась до стола, опустилась на стул и впала в оцепенение – не могла ни говорить, ни двигаться…
Они помирились в тот же вечер. Но они перешагнули какую-то грань, и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно. В их бытность в Петрограде крупных ссор больше не было, но он, осерчав на что-то, уже мог ее оскорбить».
Может быть, все происходило и так, но надо сказать, что Зинаида Райх принадлежала к такому типу женщин, которые способны вызывать и неизбежно вызывают у мужей чувство ревности.
Музыкант Юрий Елагин, работавший в 1930-е годы в Вахтанговском театре и хорошо знавший театральную жизнь Москвы, после войны с поколением второй эмиграции попал в Америку, где в 1955 году издал книгу «Темный гений» о Всеволоде Мейерхольде. В книге есть страницы, характеризующие Зинаиду Райх. Они, эти страницы, настолько откровенны, что ссылаться на них можно, лишь цитируя буквально:
«Райх была чрезвычайно интересной и обаятельной женщиной, обладавшей в очень большой степени тем необъяснимым драгоценным качеством, которое по-русски называется „поди сюда“, а на Западе известно как sex appeal. Всегда была она окружена большим кругом поклонников, многие из которых демонстрировали ей свои пылкие чувства в весьма откровенной форме.
Райх любила веселую и блестящую жизнь: любила вечеринки с танцами и рестораны с цыганами, ночные балы в московских театрах и банкеты в наркоматах. Любила туалеты из Парижа, Вены и Варшавы, котиковые и каракулевые шубы, французские духи (стоившие тогда в Москве по 200 рублей за маленький флакон), пудру Коти и шелковые чулки… и любила поклонников. Нет никаких оснований утверждать, что она была верной женой В. Э. – скорее есть данные думать совершенно противоположное…»
Если это так, если действительно Зинаида Райх была из особой породы женщин, созданных для роскоши и адюльтера, женщин типа Ольги Книгшер, Лили Брик, Ларисы Рейснер, то конечно же ее жизнь с Сергеем Есениным (требовавшим, несмотря на свою в достаточной степени богемную жизнь, от жены верности, послушания, семейного очага, то есть всего того, что соответствовало его крестьянско-патриархальным взглядам на место жены в семье) была обречена на неудачу. Ведь недаром и Всеволоду Мейерхольду, который дал Райх все, что не мог дать ей Есенин, – материальное благосостояние, положение в обществе, возможность царить в собственном салоне посреди нэпмановской Москвы, недаром Мейерхольд испытал куда большие муки, живя с этой женщиной, нежели его предшественник. «…Его страстная любовь приняла болезненный оттенок под влиянием характера и поведения Райх, – пишет Юрий Елагин. – Мало-помалу его ревность развилась и приняла фантастические размеры… Он ревновал Райх ко всем, к кому только можно было ревновать… Часто он устраивал бурные сцены, не стесняясь присутствием друзей и знакомых».
Татьяна Сергеевна Есенина подчеркивала впоследствии: «Отец, как известно, не скрывал, что его семью помог разрушить Мариенгоф… Мариенгоф с помощью какой-то выдумки спровоцировал ужасающую сцену ревности. До родов оставался месяц с днями, мать прожила их у кого-то из знакомых. Вернуться к своим родителям она не могла, военные действия в районе Орла продолжались. Костя родился 3 февраля» (1920 г. – Ст. и С. К.).
В метрической записи о рождении Константина, заполненной со слов Зинаиды, в графе «Родители» стоит следующее: «Сергей Александрович Есенин, 24. Зинаида Николаевна Есенина, 25». Все честь по чести: фамилия, имя, отчество и возраст родителей. Но в графе «Род занятий», там, где речь идет об отце, стоит нечто странное: «Красноармеец».
Если к тому же принять на веру утверждение Татьяны Есениной, что «насовсем родители разъехались где-то на рубеже 1919–1920 годов, после чего уже никогда вместе не жили», то, может быть, ревность Есенина к Зинаиде Райх имела какие-то основания, и тогда становится понятным его поведение на ростовском перроне, где во время стоянки поезда встретились Мариенгоф и Зинаида Райх. Райх ехала с маленьким Константином в Кисловодск. Заметив бывшую супругу, разговаривавшую с Мариенгофом, Есенин вскочил на рельсу и пошел в обратную сторону, поддерживая равновесие руками. Райх попросила Мариенгофа:
– Пусть отец глянет на сына, он ведь его не видел, если не хочет встречаться со мной, я могу выйти из купе.
Есенин заупрямился, но после второго звонка все же пошел в купе поезда, где ехала Райх.
Мать распеленала младенца.
Есенин отшатнулся.
– Черноголовый!.. Есенины черными не бывают…
Так что, может быть, Есенин не так уж был и не прав, когда писал в «Письме к женщине», обращаясь, по-видимому, к своей бывшей жене:
- Любимая!
- Меня вы не любили.
- Не знали вы, что в сонмище людском
- Я был, как лошадь, загнанная в ыле,
- Пришпоренная смелым ездоком.
Может быть, поэтому он и признавался откровенно: «Свою жену легко отдал другому». Легко, значит, не мучась, не дорожа ею.
И вообще, расставание Есенина с женщинами всегда имело какой-то блоковский литературный подтекст, который прихотливо смешивался с житейскими драматическими извивами…
- Взволнованно ходили вы по комнате
- И что-то резкое
- В лицо бросали мне.
Все это живет в русле блоковской легенды: «Проклиная, спиной повернулась и, должно быть, навеки ушла».
А ссора с Зинаидой Райх, когда они прочитали стихи Александра Блока – «Я бросил в ночь заветное кольцо…» – и буквально повторили это действо, выбросив в окно свои обручальные кольца, а потом искали их на темной улице…