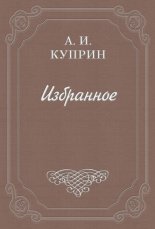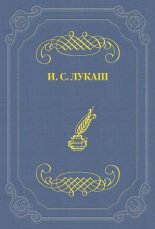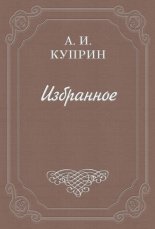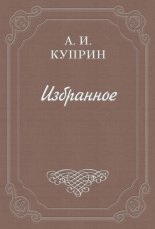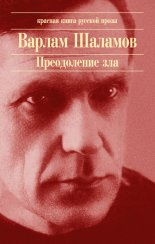Философ Куприн Александр
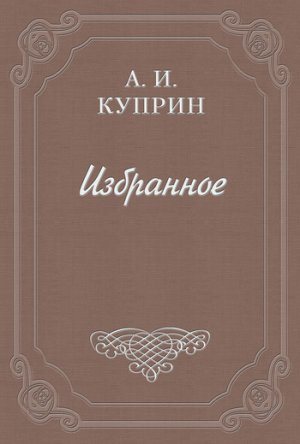
– Я говорил ей, что это неправильно, что какая-то церемония необходима. Говорил несколько раз. Впрочем, она ни в чем меня не слушалась.
Я молчал.
– Она бывала иногда очень упрямой. – Он поднял на меня взгляд. – Хотя это вы, наверное, и без меня знаете.
Я молчал.
– За тридцать лет я научился не спорить с ней. Победить в таком споре невозможно. Вот, например, когда она поведала мне о вас, я, честно говоря, счел ее идею ужасной. – Он улыбнулся. – У вас ведь даже кредитного рейтинга нет.
Я открыл рот, но снова ничего не сказал.
Он откинулся на спинку кресла.
– Скажите, о чем вы с ней разговаривали во время ваших философских дискуссий?
Я помолчал, потом ответил:
– Главным образом, о свободе воли.
– А точнее?
– О том, существует ли она.
– И к какому пришли выводу?
– Мы вели разговоры иного рода, – сказал я. – И к выводам прийти не пытались.
– Какого же именно?
– Разговоры, в которых выводы рождаются сами собой.
Палатин хмыкнул.
– Ладно, – сказал он, – теперь все это в прошлом.
Я снова промолчал.
Он вздохнул, потер ладонями лицо и сказал:
– Вы извините меня. Вся эта история просто ужасна.
Я кивнул.
– Обычно я обхожусь почтой, однако, с учетом характера ее распоряжений, счел за лучшее лично встретиться с вами.
И он пододвинул ко мне по столу папку:
– Взгляните.
Я открыл ее. Папка содержала завещание Альмы. Я посмотрел на поверенного.
– Читайте, читайте.
Первые части завещания были чисто техническими, отменяющими предыдущее волеизъявление и различные дополнения к нему, определяющими порядок уплаты налогов и так далее. Собственно раздел состояния начался с разного рода пожертвований благотворительным образовательным организациям и среди них Австрийскому культурному центру. Доктору Карджилл предоставлялась возможность выбрать для себя ювелирное украшение из тех, что хранились в туалетном столике спальни. Затем шли пункты, посвященные созданным ранее доверительным фондам, единственным бенефициаром которых был Эрик Алан Бэнкс. В каждом из этих пунктов указывалось одно или несколько условий, выполнив которые он мог получить размещенные в фонде деньги, и каждое из них выглядело более или менее неисполнимым. Возможность вступить во владение одним из таких фондов он обретал, к примеру, лишь получив университетскую степень, – условие, показавшееся мне абсурдным. Другой фонд содержал деньги, предназначенные для оплаты его учебы в университете. Единственным, на мой взгляд, фондом, к деньгам коего он мог, пожалуй, получить доступ, был тот, что содержал средства, которые потребуются для найма защитника – в случае, если Эрика обвинят в преступлении, караемом тюремным заключением на срок от пяти лет. Я почти пожалел его – при чтении завещания возникало чувство, что Альма посмеялась над своим племянником. Однако ко мне все это никакого отношения не имело, как вдруг…
РАЗДЕЛ IX
A. Джозефу Гейсту, который был моим лучшим и приятнейшим собеседником, я оставляю мой дом со всем, что в нем находится, и все иное, не упомянутое отдельно в предыдущих пунктах завещания имущество, но лишь в случае, если он исполнит следующие условия:
(1) он завершит свою докторскую диссертацию;
(2) диссертация эта будет представлена на философское отделение Гарвардского университета и будет принята таковым к защите;
(3) он получит от Гарвардского университета степень доктора философии;
(4) все три названных условия будут выполнены в течение двадцати четырех месяцев, считая от дня моей смерти, на каковой период времени ему разрешается жить в доме и пользоваться средствами, указанными в параграфе D раздела IX.
B. По выполнении этих условий все имущество, упомянутое в параграфе А раздела IX, переходит в его руки незамедлительно.
C. В случае, если он не исполнит какое-либо из условий, указанных в параграфе А раздела IX, или не исполнит их в период времени, указанный в пункте (4) параграфа А раздела IX, все имущество, названное в параграфе А раздела IX, должно будет равными долями перейти в распоряжение сторон, указанных в разделе VI, параграфы В-К.
Бюджет, который она мне выделила, составлял двадцать тысяч долларов.
Долгое, ошарашенное молчание.
Наконец я спросил:
– Эрик об этом знает?
– Пока еще нет.
– А когда узнает?
– Я хотел пригласить сегодня и его, – сказал Палатин, – однако он оказался недостижимым.
– Где он сейчас?
– Этого я вам сказать не могу.
– В тюрьме?
Палатин не ответил.
Где-то далеко загудел буксир.
– Не скрою, я старался, как мог, переубедить ее, – сказал Палатин. – Причудливые завещания такого рода ни к чему, кроме раздоров, не приводят.
Я молчал.
– Нэнси снимет со всех документов копии и пошлет их вашему поверенному.
– У меня нет поверенного, – сказал я.
– Придется завести. – Он встал. – Желаю приятного дня.
Наверное, я походил на спешащего по делам чиновника из романа Кафки, старающегося удержать в руках, сидя в раскачивающемся вагоне поезда, огромную кипу бумаг. Помимо завещания я получил уйму других документов: фидуциарный договор и предварительное поручительство поверенного, армейский аффидевит и, самое главное, перечни размещенных в двух десятках различных банков Соединенных Штатов, Австрии и Швейцарии счетов, на внимательное изучение которых ушел бы не один год. Я быстро пролистывал их, складывая цифры, и дыхание мое становилось все более неровным: помимо недвижимости и вещей, способных украсить любую коллекцию, Альма оставила мне два миллиона долларов – в акциях, облигациях и наличных.
Я ошалел до того, что едва не проехал мою станцию, успев выскочить из вагона, только когда зазвучал сигнал отправления. Закрывавшиеся двери защемили мне ногу, я вырвал ее, споткнулся, и документы разлетелись по платформе. Я рухнул на бетон, собирая бумаги, хватая их, совершая броски, чтобы успеть подцепить страницы, которые норовили слететь на рельсы, и сознавая, что люди, идущие по платформе, огибают меня по широкой дуге.
Поднявшись наверх, я зашел в аптеку и купил пластиковые пакеты. Документы весили столько, что ручки пакетов резали ладони, и ко времени, когда я добрался до дома Дрю, кончики моих пальцев онемели и стали лиловыми.
Я позвонил.
– Да?
– Это я.
– Что случилось?
– Мне нужно пожить у тебя.
– С тобой все в порядке?
– Впусти меня, пожалуйста.
Наделенный счастливым даром всеприятия, Дрю не стал задавать мне никаких вопросов, когда я вошел, опустился на его кушетку, поставил пакеты на пол да так и просидел до позднего вечера.
– Я заскочу ненадолго в душ, – в какой-то момент сказал он.
– Альма умерла.
Дрю заморгал.
– О черт.
– Она все оставила мне. – Я поднял на него взгляд. – Оставила мне дом.
– Ты шутишь.
Я покачал головой.
– Ничего себе!..
Я молчал.
– Что случилось? – спросил он.
Я молчал.
– Сам-то ты как?
– Я не могу вернуться туда.
– Почему?
– Потому что не могу.
– Джозеф…
– Не могу.
– Ладно. Ладно. Извини.
Молчание.
Он встал:
– Мне на работу пора.
Я молчал.
– В морозилке полуфабрикаты, захочешь есть – разогрей на сковородке.
Я кивнул.
– Не пропадешь тут без меня?
Я ответил:
– Не знаю.
Он с секунду помедлил, потом тоже кивнул и вышел из комнаты. Я услышал, как зашумел душ, откинул голову на спинку кушетки и закрыл глаза.
Следующие несколько дней я уныло бродил по квартире, прибирался в ней – если существует на свете пустое занятие, так это именно оно и было. Стоило мне протереть все столы и расставить DVD в алфавитном порядке, как Дрю возвращался домой, на все лады расхваливал мои достижения, а затем ликвидировал их, уничтожая за пять минут результаты пятичасовой работы. Интересно, что все вещи возвращались именно туда, где я их обнаруживал, определенная, покрытая чайными пятнами салфетка выкладывалась на совершенно определенный стул, наполовину израсходованный рулон клейкой ленты забивался пинком под стол. По-видимому, даже у Дрю имелась своя система.
Не могу сказать, что он обладал такими уж изощренными навыками утешителя, однако усилия как-то поднять мое настроение предпринимал.
– Тебе когда-нибудь приходило в голову, – спросил он как-то вечером, сидя за компьютером и бегая пальцами по клавиатуре, – что одно из немногих мест на свете, из которых невозможно послать заказ в «Амазон», это нутро самого «Амазона»?
Я промолчал.
– Знаешь, рано или поздно тебе придется признать: это именно то, чего она хотела, тюк в тюк.
Я, лежавший на софе, перевернулся на другой бок.
– Ладно, – сказал он. – Ты просто… перестань наводить здесь порядок, идет?
Я надеялся лишь, что Альму все происходившее здорово веселило. Надеялся, что она находит его безумно смешным. Если она хотела вознаградить меня за мое к ней дружеское отношение, если думала, что сможет подвигнуть меня на возвращение к работе, так ведь для этого наверняка существовали способы и получше. Ныне меня ожидало то, к чему стремится каждый, а нищие интеллектуалы в особенности, – финансовая независимость, – я же испытывал не облегчение и не благодарность, но чувство вины и страх. Двадцать тысяч долларов могут казаться кучей денег, однако до сей поры мне не приходилось платить за еду, за электричество и прочее. Если же мне придется подыскать какую-то работу, она, по сути дела, лишит меня двадцати четырех месяцев предположительной свободы… Кстати, почему двадцать четыре? С точки зрения Альмы, мне требовался всего лишь стартовый рывок. Одного года могло не хватить, получив три, я принялся бы неторопливо и вяло разводить пары… Двадцать четыре месяца означали вот что: к следующему июню мне надлежало закончить черновой вариант, потратить лето на его проработку, а следующий год – на окончательную отделку всего, что потребно для подачи диссертации, защиты, получения степени… От такого количества неустойчивых переменных величин у меня щемило сердце. Адвокат был прав. Никакого добра из этого не проистечет – особенно после того, как Эрик все узнает. Сколько из тех двадцати тысяч мне придется потратить, чтобы почувствовать себя в безопасности? Нужно будет оборудовать дом системой тревожной сигнализации, сменить замки, укрепить окна… А все это стоит денег.
Впрочем, выпутаться из этой истории не так уж и сложно. Мне стоит лишь пренебречь условиями Альмы, и все ее наследство уплывет из моих рук, и я останусь тем, кем я был прежде. Однако и это не представлялось мне выходом из положения. Потому что Дрю был прав. Конечно, со своими деньгами люди вправе делать все, что им заблагорассудится. И могу ли я с чистой совестью отказать Альме в осуществлении ее последней воли?
Единственная моя предсмертная просьба.
Я оставил Дрю благодарственную записку, собрал документы и пошел к дому.
К дому?
К моему дому.
Имея в виду, разумеется, что я выполню порученную мне работу.
Сама концепция обладания собственностью странна до невероятия. Я понимаю, что она образует основу общества и так далее, но при внимательном рассмотрении в ней проступает некое шаманство. Политические философы пролили реки чернил, пытаясь определить, что делает имущество человека его собственностью. Вот один знаменитый пример: Локк полагал, что мы приобретаем собственность, когда вкладываем в нее наш труд – обрабатываем, к примеру, участок земли. (Что три столетия спустя привело Роберта Нозика к вопросу: «Если я обладаю банкой томатного сока и выливаю его в море, так что молекулы сока равномерно распределяются в воде, вступаю ли я тем самым во владение морем или просто глупо расходую томатный сок?») Из всех объяснений происхождения собственности – общее согласие, политическая либо физическая власть, передача во владение et cetera[23] – ни одно, похоже, на нынешнюю мою ситуацию не распространялось. Дом со всем, что в нем находится, и все иное не упомянутое отдельно имущество были вручены мне без моего согласия, без каких-либо просьб или затрат с моей стороны.
Я не смог заставить себя войти в дом и потому опустил пакеты на тротуар и стоял, пытаясь как-то расположить в голове мысль о том, что вот это, такое непритязательное, такое викторианское, такое причудливое, было – будет – может стать – моим.
Мой дом.
Неудобная фраза, точно костюм на три размера больший, чем требуется. Я попробовал произнести ее вслух.
– Мой дом.
Ну да, конечно, Эрик разозлится, еще бы. Однако…
Это был ее выбор. То, что она сделала, она сделала по собственной воле. И ради нее я просто обязан преодолеть себя. Если я откажусь от такой попытки, то проявлю крайнее к ней неуважение.
– Мой дом.
И вообще, почему я должен чувствовать себя виноватым? Я знал почему: потому что именно на такой исход и рассчитывал. Едва с ума не сошел, предвкушая его. В оригинальном их воплощении мои фантазии подразумевали, что я причиню ей какой-то вред, а это, естественно, порождало чувство вины. Но я же никакого вреда ей не причинил. Различие между бездействием и действием – колоссально. Я обвинял себя, а это было нелогично. Альма выступала прежде всего за неустанные поиски истины, истина же в том, что нельзя вменять человеку в вину то дурное, что он увидел во сне. А то, что она сделала, она сделала по собственной воле.
– Мой дом.
Уже лучше. Легче. Хотя до совершенства пока далеко, и потому я повторял эти слова снова и снова, то сминая их, то разглаживая, приукрашивая разными интонациями, разговаривая с самим собой, стоящим на тротуаре.
– У моего дома гонтовая крыша.
– У моего дома щипцы.
– Мой дом, он весь белый.
– Моему дому уже сто лет.
Повторение двух этих слов вскоре сделало их привычными, затем лишенными смысла, а затем и просто смешными. «Мой дом», – говорил я. «Мой». Правда ли это? Покамест нет. Не полная. Даже отдаленно. Однако я чувствовал, как уверенность моя нарастает, а сомнения усыхают и съеживаются. Посмотрите вон туда: это он – мой дом. У моего дома имеется передний двор, веранда, зацементированные дорожки, трельяж – правда, голый, – почтовый ящик и вон та штуковина, которая удерживает флагшток, – как она называется? – тоже выкрашенная в белый цвет. Это мой дом, и таковы его составные части. Сколько раз Альма корила меня за патологическую антипатию к хорошим, красивым вещам? Когда я одевался, как побродяжка, когда наибольшей моей поблажкой себе оказывался обед, состоявший из омлета и тостов, она поддразнивала меня, и последним, что она сделала в жизни, была попытка изменить весь строй моих мыслей. Разве мой долг перед нею не в том, чтобы постараться приложить к этому все силы? И закатывать по таковому поводу истерику – ребячество. Страна вокруг меня разваливается на куски; куда ни взгляни – достойные, трудолюбивые люди теряют свои жилища, а я имею наглость канючить, когда мне следует благодарить; я, видите ли, не могу принять подаренный мне дом. Свихнулся я, что ли? Это же дом, господи прости. Дом. Мой. Мой дом. И не просто мой дом, все, что внутри него, и оно тоже мое. Впервые в жизни я стал обладателем вещей, кучи вещей. «Мой дом со всем, что в нем находится, и все иное, не упомянутое отдельно имущество». Деньги. Коллекционные вещи. Мебель. Я стану богачом. «Лучшим и приятнейшим собеседником», вот кем я был для нее. И она хотела, чтобы я получил все. Могу я не подчиниться ей? Нет, конечно. Я могу чувствовать себя виноватым, это да, но ведь, подведя ее, я ощутил бы вину еще большую. И когда мои мысли приняли такой оборот, мне пришло в голову, что Эрик не только не имеет ни малейшего права получить все это, – нет, я нравственно обязан не позволить ему наложить руки на наследие Альмы. Она была еще и мудрее, чем я полагал. Она избрала вот такой вот способ совершения правосудия. Она знала, что представляет собой Эрик, знала, что он – вымогатель, и дала ему это понять. Всю жизнь он пил ее кровь, но так и не сообразил, что тем самым лишает себя намного более щедрых, пусть и будущих, даров Альмы. И следовательно, мой долг состоит в том, чтобы вступить во владение домом, сделать его моим, а Эрика и на порог не пускать. А для этого необходимо заткнуть рот какому бы то ни было чувству вины, засунуть его куда подальше и более в то место не заглядывать, повести себя по-мужски, сказать себе: что мое, то мое, и стыдиться тут нечего. И потому я, с гордо заколотившимся сердцем и жаром в закружившейся вдруг голове, взошел по моим ступенькам на мою веранду, отпер мою дверь и опустил мои пакеты с моими документами на пол моего холла и постоял, любуясь, как никогда не любовался прежде, моей гостиной, моими каминными часами и моей бледно-розовой софой. Никаких привидений здесь не было. Просто хрипло вскрикивали мои попугаи и катили мои морские валы. Не так уж и долго я к ним привыкал, верно? Верно, не так уж. Желание, зачатое в муках несколько месяцев назад, ожило, подтянулось и во всей его полноте явилось миру, криком кричавшему, прося о безраздельном моем внимании. Моем. «Мое», – нараспев повторял я, следуя по моему коридору к моей комнате, впрочем, они теперь все мои – не так ли? – а войдя в нее, взял с моего письменного стола ручку и лист бумаги, мои, оба, и приступил к составлению списка всего, что видел вокруг. Мое окно со средниками и моей крошечной охотничьей сценой. Моя задняя веранда. Мои плетеные кресла. Мой двор с моей травой. Мои подушки, мое одеяло и моя кровать – не просто принадлежащая кому-то кровать, на которой я сплю, – на самом деле моя. Записав все, я отправился в мою музыкальную гостиную и внес в список мои вазы, мой проигрыватель грампластинок и мой деревянный пюпитр с моим экземпляром «Юморески № 6, соль минор» Сибелиуса на нем. Через ручку моего двухместного диванчика был переброшен мой большой шерстяной плед, на полу стояли моя скрипка, моя стойка с проигрывателем и мой шкафчик с сетчатой дверцей, в котором хранилась моя обширная коллекция долгоиграющих пластинок с записями классической музыки. Скатерти, кедровые вешалки, нафталиновые шарики, душевые занавески, тарелки, стаканы, холодильник, плита – а ведь я еще не добрался до библиотеки. Мое. Я обошел мои владения вдоль и поперек, раздвигая шторы, впуская в окна забытое солнце, размышляя о себе прежнем и себе нынешнем, о переменах. Ибо чувствовал: я уже не тот, не прежний. Происходят ли перемены все сразу, в некоторой точке перегиба кривой, или они есть итог бесконечной вереницы движений, каждое из которых в отдельности микроскопично, однако, взятые вместе, они уже необратимы? Кто или что приводит в движение бильярдные шары? И я вспомнил об оттиске ее тела на простынях, оттиске, повторявшем формой вмятину на моем сердце. Вспомнил, как плакал над ней, – так, как ни о ком не плакал со времени смерти брата, – как по-доброму с ней обходился; она сама сказала, что я добрый мальчик, и назвала меня по имени. И если это должно стать моим, по-настоящему моим, – дом со всем, что в нем находится, и все иное, не упомянутое отдельно в предыдущих пунктах завещания имущество, – то нечего мне бояться какой-то комнаты, какого-то негативного пространства. Никаких привидений здесь не было. Я спросил себя, как поступила бы сейчас она, и уже знал ответ, и потому вытащил из-под раковины упаковку пакетов для мусора – мои, и та, и другая, – и поднялся в ее спальню, в мою спальню. Она здесь больше не живет, здесь живу я. Таковы факты. Прими их. У тебя есть пример, которому ты можешь следовать. Итак: никаких сантиментов, никакого самоублажительного биения себя в грудь – только истина, то, что мы всегда и искали, мы двое, совершавшие наше частное странствие. А в чем состоит истина? В том, что я могу, если захочу, спать на этой большой кровати. Могу и буду. Я переберусь наверх, и ее спальня станет моей. Хватит ютиться на задах дома, точно я постоялец какой. Я щелкнул выключателем, поднял жалюзи. В комнате чем-то воняло. Но привидений здесь не было. Я сорвал с кровати покрывало, простыни, бросил их кучей у ее изножья. Пятна обнаружились и на чехле матраса – рвота? кровь? моча? Это все тоже мое. Мое право – испытывать отвращение ко всему, что я вижу, и желать избавиться от него; мое – выбросить все, если я сочту это нужным, на помойку. Повсюду пыль. Я содрал и чехол тоже. Я опустошал шкафы и ящики комодов, вываливая из них кофты, юбки, чулки, слаксы, блузки, унизительное обилие нижнего белья… Я сваливал их в груды, запихивал в мусорные мешки и сносил вниз, к двери для слуг. Я не мог так сразу решить, постирать ли все это или сразу выставить на тротуар. Пусть пока оно тут постоит. Я в своем праве. Потому что привидений здесь нет. А если и есть, то принадлежат они мне.
Я взял мой ключ от моего дома, запер мою парадную дверь и пошел по дорожке моего двора, не понимая, куда несут меня ноги, однако решив дать им волю.
– В самое время пришли, – сказал продавец. – Их только что выставили на продажу.
Я опустился на низкую бархатную скамейку. Он еще раз промерил мои ступни и принес две коробки.
– Классические черные – дело самое верное, – сказал он, – но и эти, цвета бычьей крови, тоже чудо как хороши. Ничего лучшего для повседневной носки не найти. Разумеется, вы вовсе не обязаны брать только одну пару.
Я взглянул на ценник: 390 долларов плюс налог. Цена для обуви непомерная.
Однако она оставила мне указания. А я теперь – миллионер.
– Автограф, пожалуйста… Большое спасибо. – Он протянул мне пакеты. – Отныне вы – человек «Мефисто».
Глава девятнадцатая
Адвоката этого я выбрал потому, что офис его находился в нескольких минутах ходьбы от моего дома. Кроме того, Дэвис Соломон был человеком с двумя именами (или двумя фамилиями, это как взглянуть), а меня такие странности всегда привлекали – так же, как логические парадоксы и оптические иллюзии. За первую консультацию он запросил 425 долларов и в ходе беседы посоветовал мне, без тени иронии, не сорить пока накопленными мной деньгами. Даже при самых лучших обстоятельствах Южный суд по делам о наследстве округа Мидлсекс будет продвигаться черепашьим шагом.
Я спросил, что произойдет, если Эрик опротестует завещание.
– Ему придется доказать, что вы оказывали на мисс Шпильман неподобающее влияние, а именно представить свидетелей, которые покажут, что ею можно было манипулировать и что вы ею действительно манипулировали. Сделать это сложно. В прошлом предпринимались попытки представить само самоубийство как свидетельство того, что покойный или покойная не могли ясно мыслить просто-напросто по определению. Однако в подобных случаях бремя доказательства возлагается на истца. Не забывайте, впрочем, что это не помешает ему портить вам жизнь. Кроме того, наверняка найдутся и другие желающие вытянуть из вас деньги – главным образом, женщины. Я бы сказал так: пока вы не выполните все условия, главное для вас – осторожность.
До этого разговора я надеялся, что все сложится проще: в один прекрасный день Чарльз Палатин позвонит у моей двери и вручит мне чек, наклеенный на картонку размером четыре на четыре фута.
– Мы можем хоть как-то ускорить этот процесс? – спросил я.
Соломон пожал плечами. Плечи у него были огромные, плечи полузащитника, и, когда он пожимал ими, создавалось впечатление, что некая гора трогается с места.
– Ну, если вам необходимо чувство, что вы что-то делаете, попробуйте собрать свидетельства подлинных ваших с ней отношений. Если Эрик обратится в суд, они могут оказаться полезными. Фотографии, на которых вы сняты с ней рядом, письма. Что-нибудь в этом роде. Показывающее, что ваше отношение к ней было искренним, а не корыстным.
Похоже, он полагал, что мы с Альмой вместе ходили в пешие походы.
– Фотографий у меня нет.
– А существует кто-либо, знавший вас обоих и способный засвидетельствовать вашу душевную близость?
Единственным человеком, пришедшим мне в голову, была доктор Карджилл.
– Ну вот и обратитесь к ней. В противном случае мы просто подождем развития событий. Пока же вам, я думаю, стоит заняться вашей статьей.
На следующее утро меня разбудило гудение пылесоса.
– Проклятье, – сказал я, выйдя на лестничную площадку. – Я же говорил, не…
Дакиана уронила пылесос, с визгом залетела в гостевую уборную и заперлась там. Я сообразил, что о моем переезде в хозяйскую спальню ей ничего не известно. Да, но что она вообще здесь делает?
– Откройте! – Я стукнул в дверь уборной. – Дакиана.
Стоны и причитания.
– Откройте.
– Ой нет, ой нет!
Прежде чем мне удалось убедить ее, что я не привидение, прошло добрых десять минут. Когда она наконец вылезла наружу, я сказал:
– Послушайте, вы не можете…
– Ладно, сиир, – согласилась она, метнулась мимо меня и вцепилась в пылесос.
С минуту я наблюдал за ней, потом сдался и спустился вниз.
Я решил просмотреть уже написанное мной для диссертации и постараться сохранить из него как можно больше. Какой смысл начинать с чистого листа, если у меня уже есть большой текст, из которого можно выбрать необходимое? Наполнив желудок чаем, я достал из шкафа все восемьсот страниц рукописи и расположился в библиотеке, где и просидел, читая, весь день (за вычетом часа, на который Дакиана выставила меня оттуда, чтобы «чистить книги»). В рукопись я не заглядывал почти уж год и теперь мог оценить ее с новообретенной объективностью. И то, что я читал, смущало меня. Меня словно забросили в прошлое и заставили встретиться со мной прежним – человеком, чье тщеславие, незрелость и нетерпеливость просто-напросто били в глаза с каждой страницы. Я использовал четыре слова там, где хватило бы одного. Большие куски текста не сцеплялись друг с другом, состояли из косвенных рассуждений, произраставших из косвенностей более высокого уровня… которые сами порождались третьим скоплением косвенностей, – получалось подобие снабженных библиографией «Поминок по Финнегану».
– Кончаю, сиир.
Я поднял пересохшие глаза и увидел, что она стоит в мокрой от пота блузке на пороге библиотеки.
Я отложил рукопись, вытащил из кармана бумажник, отсчитал шестьдесят долларов.
– Это в последний раз, – сказал я. – Понимаете?
– Ладно, сиир. – Она засунула деньги в лифчик, наклонилась, чтобы поднять с пола корзинку с чистящими средствами. – До скорого.
Никто не знает лучше меня, как быстро могут пролететь два года. Начав заново бороться с так называемым творческим кризисом – уничтожать вечером то, что было написано за утро, – я ощутил первые щекочущие нервы прикосновения того, что вскоре обратилось в постоянно владевшую мной низкопробную панику. Перечитав рукопись, я пал духом, само это занятие понемногу перекрывало кран, из которого изливались мои мысли, и в конечном счете он перестал пропускать что бы то ни было. И я занялся якобы подготовкой к работе. Составил новый список обязательного чтения. Сходил в город, купил большую маркерную доску и попытался нанести на нее сложную «карту идей» – сеть концепций, которая если что-нибудь и отражала, так только паутину, затянувшую мой мозг. Уверив себя в том, что мне необходим доступ к новым ресурсам, я позвонил в телефонную компанию и подключился к Интернету, что, разумеется, ничего не дало, за вычетом новой возможности отвлекаться на совершенно не нужные мне вещи. Пуще всего пугало меня то, что я, похоже, утратил способность концентрироваться на срок, превышавший несколько минут. Я набирал кусочек текста, вставал, потягивался, прогуливался, наливал себе стакан воды, прочитывал пару абзацев из не имевшей отношения к работе книги, садился, набирал еще кусочек, затем, поерзав, стирал все написанное, просматривал заголовки новостей, прогноз погоды… И в конце концов обнаруживал, что забрел в Википедию, в статью о «Сестрах Пойнтер», куда неведомым мне путем попал из статьи о моделях Крипке[24]. Отчаянно нуждаясь во вдохновении, я снова и снова перебирал наши с Альмой разговоры. Все те длинные, длинные, чудесные часы – они порхали, дразня меня, на периферии памяти, исчезая при первой же попытке поймать их… А когда мне везло и пальцы мои смыкались на существенной, так сказать, идее, она оказывалась бесполезной, едва-едва трепыхавшейся – без малого мертвым нежным существом, которое я раздавил в спешке. Сама столь приятная дискурсивность, непоследовательность наших бесед не позволяла вылепить из них действенные аргументы. Мы вели разговоры иного рода. И к выводам прийти не пытались. В этом весь их смысл и состоял: думать, исследовать, не оглядываться на предельные сроки или на консультантов. А теперь Альма потребовала от меня подчинения им. Безумие! Мерзость! Я вознегодовал на нее, но тут же почувствовал себя неблагодарным скотом, а затем – человеком, пораженным параличом, подавленным… и разумеется, ни то, ни другое, ни третье писать мне не помогало.
Впрочем, одно оправдание у меня имелось – не правда ли? – и неплохое. Диссертация была лишь первым из двух стоявших на моем пути препятствий. Вторым был Эрик. Возможно, именно это и не позволяло мне как следует сосредоточиться: меня не отпускали мысли о судебном процессе. Принятое судом решение будет опубликовано в газете, разослано всем заинтересованным сторонам, а затем возвратится в суд – после чего Эрик утратит право опротестовать его. И до того времени, решил я, мне нечего и мечтать о том, что у меня вдруг появится необходимое для творческой работы присутствие духа.
В итоге к ноябрю я пришел с пустыми руками.
– Знаешь, что тебе нужно сделать? – сказал Дрю. Он встал посреди библиотеки и поднял вверх руки – точно матрос-сигнальщик. – Вечеринку устроить.
Я покривился.
– Нет, правда. Большую вечеринку, прямо здесь, в доме. Я серьезно, у него классная аура. – Он плюхнулся в одно из кресел и застонал от удовольствия. – Уххх. Вот об этом я и толкую… Как получилось, что ты меня раньше сюда не приглашал?
– Она любила покой, – ответил я, соврав лишь отчасти.
Принимать гостей Альма мне никогда не запрещала, я сам не звал их, не желая примешивать кого-либо к нашей с ней жизни. Теперь Альмы не стало и я мог показать людям, где укрывался все последнее время. Ну и похвастаться этим укрытием, чего уж там…
– Вино и сыр, а? – сказал Дрю. – Хотя нет. Ночь покера. Виски, сигары… а играть можно будет за большим столом, который в одной из первых комнат стоит.
– Это столовая, и стол в ней обеденный.
– Ну и отлично.
– Старинный.
– Тем лучше.
– Не карточный.
– Зато у него размеры идеальные. Все, что требуется, – сукном его застелить.
– Нет.
– Ладно, – сказал он и крутанул глобус. – Если передумаешь, дай мне знать.
Через холл прошла, напевая, Дакиана. Дрю вопросительно взглянул на меня.
– Домработница, – сказал я.
– Растешь, друг мой.
– Перестань.
– Совершенно как Джефферсоны.
– Ты не понял, – сказал я. – Я велел ей больше не приходить, но она все равно сюда лезет.
– Ну это уж… – он запнулся, – даже не знаю, что это такое. Кошмар какой-то.
– Да уж.
– Почему ты ее не уволишь?
– А то я не пробовал.
Он рассмеялся.
– Ничего смешного. Она меня с ума сводит.
– Неужели так трудно уволить кого-то?
– Ты и представить себе не можешь, какая она настырная.
– Так не плати ей.
– И это пробовал.
– И?
– Она начинает рыдать.
Мы помолчали, прислушиваясь к пению Дакианы.
– Ну, по крайней мере, голос у нее хороший, – сказал Дрю.
– Шестидесяти долларов в неделю он не стоит.
Послушали еще.
– Тридцать, – сказал Дрю. – Самое большее.
– Как ты думаешь, если я устрою вечеринку, Ясмина придет? Не покерную вечеринку, обычную.