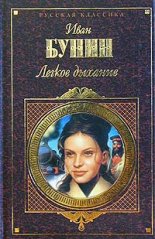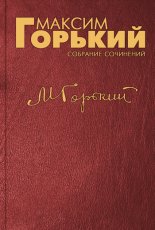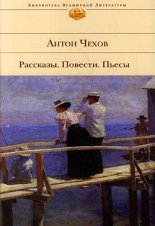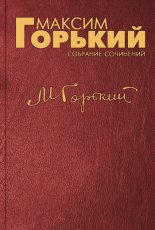Victory Park Никитин Алексей

Дуля шел молча, искоса смотрел на невысокого лысеющего блондина с острым носом и слегка выдающимся подбородком. Он видел множество кэгэбэшников, молчаливых, разговорчивых, грубых, деликатных, и точно знал, что ни их поведение, ни манеры не имеют никакого значения. В кэгэбэшнике важны только две вещи: умный он или дурак, это во-первых, а во-вторых – есть ли у него воля заставить всех играть по-своему, независимо от того, прав он или нет. По большому счету, и для обычного человека важны только эти качества, но для лица, обладающего властью, они важны критически. Если серьезный разговор начинают с какой-то дряблой маниловщины, то либо собеседник считает Дулю дураком, либо он сам дурак. Ни то, ни другое Дуле не нравилось.
– Никакие холмы здесь невозможны, – безразлично пожал плечами Дуля. – И оврагов тут быть не может, потому что половина парка раньше была болотом. Да и сейчас это болото.
В широком смысле, конечно.
При устройстве парков многое зависит от характера почвы. Всего пару часов назад Галицкий прочитал об этом у Курбатова и, конечно, немедленно забыл.
– Вот потому что невозможны, все так и получается, – Галицкого научили не признавать ошибок, если только такое признание не составляло часть продуманного плана. – Расскажите мне, что вам известно о вчерашнем убийстве.
– Давайте будем последовательны, – предложил Дуля. Шеф Невидомого ему не понравился, но кураторов не выбирают и работать приходится с такими, какие есть. – Не хотите продолжить разговор о парке?
– Хорошо, – удивился Галицкий. – Давайте будем последовательны. Скажите, что вы слышали об Алабаме?
– Ничего. Кто это?
– О Торпеде?
– Впервые слышу.
– О начальнике Днепровского РОВД, полковнике Бубне?
– Да, его я немного знаю. Бубен служит в Киеве служит, но у него хорошая репутация. Волевой, грамотный офицер.
– Понятно. Тогда я коротко. В парке…
– Предлагаю для правдоподобия называть его лесом.
– Для правдоподобия?
– Именно. Пять лет назад в нашем лесу завелись волки.
Волки, как известно, социальные животные, они охотятся стаей и подчиняются вожаку. На кого охотятся волки? – Дуля привычно дробил лекцию на мелкие вопросы и тут же на них отвечал. – Добыча волков – это кабаны, лоси, косули, зайцы. Их гастрономические интересы могут распространяться на мышей и даже на лягушек. Волки не брезгливы и осторожны, но предприимчивы и готовы рисковать. Я бы сказал, это чертовски рисковые ребята и потому они так дорожат чувством стаи. Если стая отторгает, изгоняет какого-нибудь зверя, то для него это может обернуться гибелью. Слабый волк не выживет один, но сильный зверь, наоборот, нередко стремится к одиночной охоте. Для него это как стажировка, испытание на профпригодность. Лучшими вожаками становятся бывшие одиночки, потому что они обладают уникальным опытом.
Взаимоотношения стаи и изгоя всегда определят вожак. Он может дать команду загрызть одиночку, порвать его, если вдруг охотничьи тропы такого волка и стаи пересекутся. В этой ситуации почти все зависит от вожака.
– А у нашего вожака есть имя? Или кличка.
– Я ведь ему не представлен, в стаю не вхожу. Я ведь даже не волк, поэтому могу только гадать. Есть три варианта, их я уже назвал. Но как именно среди этих троих распределены роли, я вам сказать не могу. Просто не знаю. Уж очень в нашем лесу все запутано.
– Вам бы, Владимир Матвеевич, взять псевдоним «Виталий Бианки» и писать репортажи в «Лесную газету». Ни за что не поверю, что вы не знакомы с вожаком.
– Напрасно. Чему не стоит слишком верить, так это моему рассказу. Ведь а beau mentir qui vient de loin.
– Я не понимаю по-французски. Говорите нормально! – Галицкий остановился и сердито уставился на Дулю.
– Не могу, дорогой мой, – скорчил смешную и дурацкую рожу Дуля. – Мне срочно нужно выпить. Требую пива! Или водочки – на ваш вкус. Иначе я окончательно перейду на французский.
– Не валяйте дурака, Дулецкий! – рявкнул Галицкий. – Отвечайте на вопрос. Кто тут всем руководит?
– Чем «всем»? Волками? – совсем по-детски удивился Дуля. – Да откуда у нас в городе хищники? Их тут нет и быть не может, а мои сказки, вы правы, годятся только для «Лесной газеты». Вряд ли я могу помочь вам чем-то еще. Разве что небольшим советом: если отправитесь в лес, будьте осторожнее с волками. Даже очень хорошо вооруженный охотник, опытный, подготовленный, уверенный в себе и окружающем мире, может оказаться неожиданно легкой добычей. Это я не к тому, чтобы волков бояться, просто в лес нужно ходить известными тропами, понимаете? А то ведь здесь chacun pour soi…
Дуля едва заметно поклонился и напрямик, минуя аллеи, быстро ушел в сторону Дарницкого бульвара, оставив Галицкого одного в глухом, почти диком углу незнакомого парка.
Глава четвертая
Красный флаг кирпичного цвета
1
В июне сессия разогналась, набрала скорость и понеслась с горы, подпрыгивая на кочках экзаменов и гулко ухая: история партии, радиоэлектроника, оптика, электродинамика, теория вероятностей… Полусонная жизнь учебного семестра прошла, Пеликан летел вместе с сессией, от сдачи к сдаче, едва замечая, что происходит вокруг. Да и что интересного могло происходить? На следующий день после их встречи Каринэ улетела в Ереван. Ночь с Пеликаном была ее прощальным подарком Алабаме, но Пеликан не знал этого и вспоминал яростную армянку со щемящей нежностью и смешным ему самому полудетским восторгом. А еще день спустя Елена отправила Ирку на все лето к сестре в город Жданов. Женщины разлетелись, словно не желая Пеликану мешать.
Еще не было покончено с зачетами, а история КПСС уже сунула свиное рыло в калашный ряд естественных наук. Она всегда стремилась быть первой, и на факультете с ее полномочными представителями, доцентами Рудым и Ласкавым, старались не конфликтовать. Даже первого сентября первой лекцией для первокурсников, ломая расписание, любовно и старательно составленное деканатом, всегда становилась история партии. Ее читали только по-украински. Для остальных дисциплин системы не было, преподаватели выбирали язык сами: математический анализ и квантовую теорию поля Пеликан слушал по-украински, математическую физику и теорию функции комплексного переменного – на русском языке. Но история партии в лекционных аудиториях и на семинарах всегда звучала только по-украински. Наверное, проявлялась в этом какая-то извращенная логика партийных идеологов, кто знает, кто готов с уверенностью сказать, что за идеи вьют гнезда у них в головах? Можно, конечно, предположить, что хлопцам с кафедры истории КПСС удобнее было читать лекции и вести семинары на родном языке, но не та это была кафедра, чтобы думать о чьем-то удобстве, да и дисциплина не та.
На экзамене доцент Ласкавый задал Пеликану дополнительный вопрос: попросил одной фразой охарактеризовать различие в позициях большевиков и меньшевиков на Пятом съезде РСДРП в Лондоне.
Прежде чем ответить, Пеликан молчал с полминуты, и Ласкавый уже решил, что подловил его. На самом деле фразу из учебника, которую рассчитывал услышать экзаменатор, Пеликан помнил, но помнил он и другую фразу из неоконченной статьи, предварявшей публикацию протоколов Пятого съезда. Синий том со статьей, выпущенный Партиздатом в тридцать пятом году, отмеченный автографом деда, чудом переживший конец тридцатых и войну, Пеликан прочитал года три назад, еще когда учился в школе.
– Обе фракции, и большевики, и меньшевики, утверждали, что стоят на точке зрения марксизма. Но беспомощность меньшевиков, неспособность руководить классовой борьбой пролетариата, умение только заучивать слова Маркса и неготовность применять их на практике уже тогда показывали, что меньшевики не стоят, а лежат на позициях марксизма. Большевики стояли, а меньшевики лежали, в этом и было их различие.
Таких ответов доцент Ласкавый не слышал, наверное, никогда.
– Не юродствуйте, Пеликан. И не шутите такими вещами. По сути, ответ вы дали правильный и по билету отвечали верно, но я поставлю вам четверку. Серьезнее надо быть.
– Я понял, – ответил Пеликан и решил не говорить доценту, что почти дословно вспомнил реплику Яна Тышки, давно уже забытого польского социал-демократа, одного из основателей немецкой компартии, арестованного и застреленного в Берлине, через месяц после убийства Либкнехта и Люксембург.
Возможно, Тышку и не забыли бы так крепко, если бы Ленин через шесть лет после Лондонского съезда не разнес его в дым в небольшой статье «Раскол в польской социал-демократии». Позицию поляка он назвал «тышкинской мерзостью». Но тогда, в 1907 году, на Лондонском съезде, никакой мерзостью еще не пахло, Тышка был своим, а его слова о меньшевиках, лежащих на позициях марксизма, позабавили многих, и среди прочих Иосифа Джугашвили. Это он пересказал шутку Тышки в неоконченной статье о съезде социал-демократов для газеты «Бакинский пролетарий», подписанной псевдонимом Коба Иванович.
Пеликан живо представил себе ужас Ласкавого, случись тому оказаться в церкви Братства на лондонской Саусгейт роад в 1907 году среди террористов, налетчиков и профессиональных революционеров, которых доценту, пожалуй, и видеть никогда не случалось. Отправить бы его сейчас на стажировку в «Красные бригады», может, после этого стал бы веселее глядеть на мир и лучше понимать, чему учит студентов.
После экзамена, спускаясь по лестнице, он случайно попался на глаза даме из деканата.
– Пеликан, – дама подняла недовольный взгляд, – тебя забирают в армию?
– Да, – признался Пеликан.
– Что же ты молчишь? Это безобразие, – возмутилась она. – Решил уйти посреди сессии? Немедленно подойди к замдекана, сейчас же, слышишь? И запишись в группу студентов-призывников. Сдашь экзамены по ускоренному графику. Не хватало еще отвечать за вас, бездельников.
Дама решила, что Пеликан попал в весенний призыв и уходит служить вот-вот, уже на днях. Из таких студентов собрали группу; экзамены в эту сессию у них принимали быстро и троек не ставили. Понятно ведь, что за два года служивые все забудут, поэтому учиться, так или иначе, им придется заново. Пеликана призывали только осенью, и он собирался сдавать экзамены вместе со всеми, но если деканат настаивает, то зачем лишний раз с ним спорить?
Десять дней спустя с сессией было покончено, оставалось только сдать пропущенный в мае зачет по матфизике. Встреченный у входа на факультет профессор Липатов виновато посмотрел на него поверх очков и сказал, что раз Пеликан уже успел подготовиться, то может приехать завтра в девять утра к нему домой. В десять профессора ждали в институте на семинаре.
Липатов заведовал отделом в Институте теорфизики и жил неподалеку, в Феофании, в доме, построенном специально для сотрудников института. Без малого двадцать лет назад он приехал в Киев из Москвы, а следом за Липатовым приполз сперва неуверенный, но быстро подтвердившийся слух, что перебрался он на Украину не просто так, а крепко обидевшись на москвичей. Еще молодым ученым Липатов предложил изящную теорию, описывавшую взаимодействие частиц и волн в плазме. Свою работу он отправил в журнал, но влиятельный московский академик попросил главного редактора придержать публикацию, чтобы дать возможность первыми прокукарекать двум его протеже, которые работали над той же темой. В результате официальная наука записала авторами теории академика с двумя учениками, но симпатии московских, а следом и киевских физиков были отданы Липатову.
Если смотреть по карте, то можно решить, что самый удаленный от Комсомольского массива район Киева – это Святошино. На самом деле от Комсомольского до Святошино всего сорок минут на метро. Феофания – дело другое. Чтобы попасть туда, нужно сперва дотрястись на трамвае до Ленинградской площади, пересесть на четырнадцатый автобус и на нем доползти до Выставки, а уже там дождаться двести шестьдесят третьего, который идет в Феофанию. У двести шестьдесят третьего автобуса свободное расписание загородного маршрута, и никогда не знаешь, сколько придется высматривать эту желтую гусеницу производства венгерского завода «Икарус», пять минут или полчаса. Опаздывать на зачет Пеликан не хотел, поэтому вышел за два часа до назначенного времени, приехал рано и еще тридцать минут гулял между институтом и домом Липатова по дорожкам, выложенным выщербленными бетонными плитами.
Дом стоял на краю большого лесопарка, скрывавшего за дубовыми рощами несколько заросших прудов и заброшенную церковь между ними. А там, где парк заканчивался, открывались засеянные ячменем и овсом поля, улицы села Хотов и дорога, по которой можно было попасть на Одесское шоссе.
Пеликан подумал, что пора бы ему тоже поехать куда-нибудь на юг, в Одессу или в Крым, потому что после зачета у Липатова делать в Киеве ему будет нечего. Прежде Пеликан собирался отправиться к родителям под Чернигов, они раскапывали там любимое городище. Но неожиданно освободившиеся две июньские недели открывали перед ним простор для маневра. Может быть, он успеет попасть в какую-нибудь из причерноморских экспедиций Института археологии. Там всегда нужны недорогие рабочие руки, способные дробить киркой камни и сухую землю, расчищая раскоп для ученых.
Ровно в девять Пеликан позвонил в дверь Липатова.
– Очень хорошо, что вы вовремя, – профессор провел Пеликана к себе в кабинет и предложил место за небольшим столиком возле окна. – А то, знаете, у студентов почему-то автобусы всегда опаздывают, часто даже ломаются в самый неподходящий момент. Да и у аспирантов тоже. Только с возрастом транспорт начинает ходить точнее. Вот такое наблюдение. Ну что же, пришли сдавать экзамен по матфизике?
– Зачет, – уточнил Пеликан.
– Только зачет? – удивился Липатов. – Я почему-то думал… Ладно, ладно. Тогда расскажите мне о потенциале объемных масс. Если вы помните, там есть ряд утверждений, которые нужно доказывать…
– Об условиях, при которых объемный потенциал непрерывен и имеет непрерывные производные первого порядка?
– Да, хотя бы это. Думаю, будет достаточно… А что же, вы тоже собираетесь в армию?
– Две недели назад получил повестку.
– Вот как… Хорошо, готовьтесь, не буду мешать, – Липатов вышел в коридор, оставив дверь кабинета открытой.
Пеликан начал заполнять формулами лист бумаги. Вопрос был несложным, и, привычно записывая интегралы, он временами отрывался и смотрел в окно. С высокого девятого этажа были видны заросшие камышами озера, зеленые поля, уходящие к горизонту, два дальних села – Чабаны на Одесском шоссе и еще одно, названия которого Пеликан не знал. Мирная колхозная пастораль.
– Слава, кто там у тебя? – через открытую дверь донесся женский голос из глубины квартиры. – Очередной двоечник?
Пеликан бросил разглядывать загородные пейзажи и прислушался к разговору. Если судить по сильному и звонкому голосу, то с Липатовым говорила дочка или даже внучка. Но она называла профессора по имени… Впрочем, и так часто бывает.
– Нет, Сашенька. На этот раз – будущий призывник.
– Постой, я что-то пропустила? Ты ведь прежде ничего не читал на первом курсе.
– Я и сейчас ничего не читаю. Это – второй курс.
– Слава, они совсем с ума сошли. Забирать в армию после второго курса… До каких же пор этой страной будут править идиоты!
– Сашенька, говори, пожалуйста, чуть тише.
– А что это изменит? Они поумнеют? Нет, но послушай, ты помнишь, как Андрей Дмитриевич нам рассказывал, что в сорок первом весь его курс эвакуировали в Ашхабад. Это в сорок первом, когда немцы были на окраине Москвы! А сегодня что происходит? Страна в кольце фронтов? Враг у Кремля? Нет, всего лишь генералам не хватает мяса.
– Саша…
Липатов старался говорить тише, но его собеседница, похоже, не желала этого замечать. И вряд ли она была дочкой профессора, наверное, все-таки женой. Что, конечно же, ничего не меняло.
– Так вот, эвакуированный в сорок первом Сахаров двенадцать лет спустя разработал для них водородную бомбу. Не погиб под Можайском, геройски отстреливаясь от немецких танков из трехлинейки, а создал оружие, защитившее страну на десятилетия. И теперь они думают, что им уже ничего не нужно, наука им больше ни к чему. Они чувствуют себя в безопасности. Они – может быть! Но не мы. Мы все в опасности, пока страной правят полуживые, дремучие, но от того не менее злобные носороги.
– Что-то ты увлеклась… Пора проверить, что там сочинил твой подзащитный.
Липатов вернулся в кабинет, прикрыл дверь, быстро просмотрел записи Пеликана и задал несколько вопросов. Потом попросил напомнить, как выглядит функция Грина для лапласиана, и пока Пеликан писал формулу, Липатов уже тянулся за зачеткой.
– Что же, желаю вам успешно сдать сессию, – профессор проводил его до входной двери. Пеликан ждал, что в коридоре появится женщина, яростный монолог которой он слышал через открытую дверь кабинета. Но было тихо и казалось, что кроме них в квартире нет никого.
– Спасибо, – улыбнулся Пеликан. – Только что мы с вами это уже сделали. Матфизика была последней в списке.
– Вот как. Тогда я надеюсь снова увидеть вас через два года на своих лекциях.
Как не всегда можно разглядеть границу между синим цветом и зеленым, путаясь в оттенках, так Пеликан в эту минуту с трудом различал границу между сочувствием и виной во взгляде Липатова.
2
Старый корпус Института археологии стоял на задворках Выдубецкого монастыря. Над ним, на пологом склоне холма, был разбит ботанический сад. Когда поднимался южный ветер или западный, приторные запахи цветущих кустарников и невозможно душистых экзотических цветов из ботсада заполняли небольшой монастрыский двор, а потом стекали дальше, к Днепру. Где-то здесь, если верить любимой киевской сказке, днепровской волной прибило к берегу идол Перуна, верховного божества славянского пантеона, «глава его сребрена, а ус злат». Он был сброшен в реку волей князя Владимира, и новообращенные христиане не позволили вытащить идолище на сушу. Языческому громовержцу привязали на шею камень и утопили его в Днепре. А чтобы поганое место не оставалось без присмотра, сто лет спустя внуки Владимира основали здесь монастырь во славу воинственного Архангела Михаила. Перуна с тех пор в этих местах не видели.
Пеликан поднялся на второй этаж института и нашел нужную дверь.
– Привет, студент, – встретила его начальник отдела кадров Зоя Павловна. – Опять собрался в землекопы? Куда тебя записывать? К отцу, в Чернигов?
Зоя Павловна сидела в этом кабинете лет двадцать, знала в лицо каждого, и попасть на работу в институт, минуя ее, было невозможно. Год назад она выписала Пеликану трудовую книжку. Тогда он первый раз поехал в экспедицию к родителям рабочим с окладом девяносто рублей в месяц.
– Я бы, Зоя Павловна, в этом году в Крыму поработал. В Херсонесской экспедиции еще есть места?
– Ты что, хочешь к Таранцу? – не каждое летнее утро приносило кадровичке новость, из которой удавалось скроить стоящую сплетню. Но это утро, похоже, не пропало даром. – А родители знают?
Отец Пеликана учился с Семеном Таранцом на одном курсе. Когда-то они дружили, но четверть века достаточный срок, чтобы дружба людей очень разных взглядов успела мутировать во что-то смутное и вязкое. До открытой вражды дело не дошло, и оба надеялись, что не дойдет. При встрече они радостно жали друг другу руки, но весь институт знал, что область соперничества старшего Пеликана и Таранца давно не ограничивается одной только наукой.
– Знают, конечно, – спокойно соврал Пеликан.
– Хо-ро-шоо! – ласково пропела Зоя Павловна и зашуршала страницами книги учета сотрудников. Она мгновенно просчитала вранье Пеликана и запросто могла сказать, что вакансий лаборантов – так в штатном расписании института назывались рабочие – в Херсонесской экспедиции уже нет, а потом отправить Пеликана в Чернигов. Но жизнь проявляется в столкновениях противоположностей, и Зоя Павловна всегда старалась в этом ей не мешать. – Трудовая с собой?
– Завтра занесу.
– Та-ак, смотрим… Одно место осталось, последнее. Наверное, тебя ждало. До завтра могу его подержать, но и ты меня не подводи. Смотри, чтобы утром, в десять, трудовая лежала у меня на столе. Договорились?
– Конечно! – обрадовался Пеликан.
– Отлично. Ты должен быть у Таранца через неделю, двадцатого июня. Билеты до Севастополя достанешь?
– Постараюсь.
– Если не сможешь – звони, попробуем помочь, хотя летом с билетами сам знаешь как… И пропуск в милиции обязательно получи. Севастополь – закрытый город. Все, дружочек, до завтра.
Еще накануне Пеликану казалось, что, сдав сессию, он освободится на все лето, еще утром у него не было приблизительного плана хотя бы на завтра, а теперь он точно знал, что будет делать до конца августа. Оформится в экспедицию к Таранцу, пройдет медосмотр в военкомате – все это время повестка лежала у него на столе, наконец, получит разрешение на въезд в Севастополь. Его ожидала беготня по чиновничьим логовам, пропахшим потом бесконечных очередей, – время, потраченное без пользы, убитое без следа. Но Пеликан уже видел, как за чередой этих безрадостных дней над густо-синей полосой моря поднималось раскаленное солнце Херсонеса. И с каждой минутой оно становилась все ближе.
3
У гастронома на Бойченко курили разочарованные домохозяйки, зло рявкали на детей, раздраженно косились на алкоголиков, выжидая повода выплеснуть в их пьяные рыла скопившийся яд. Здесь полдня ждали машину с сырокопченой колбасой и мясом и полтора часа назад дождались. Но мяса привезли мало, а вместо сырокопченой на прилавках появилась «Любительская» по два двадцать с пятнами какого-то жуткого жира внутри. Собаки, спавшие в тени автоматов с газировкой, отказывались признавать ее едой. Дамы, которым не хватило мяса, собрались боевой группой и пытались путем логических умозаключений определить, где зажали ценный продукт: еще на базе или Сеня, гад, уже здесь припрятал? Если это Сенины фокусы, то можно, в конце концов, к нему вломиться, все перевернуть и проверить. Полдня они стояли в этой духоте, и что, впустую? Чем теперь кормить своих мужиков?!
А алкоголики мирно дремали на теплой трубе, не желая ни с кем конфликтовать. И этим только сильнее злили домохозяек.
Здесь ничего не менялось десятилетиями: так же бессильно гневалась очередь, оставшись без мяса, так же безмятежно отдыхали районные алкаши. Только труба у входа в гастроном год за годом ржавела все заметнее и среди автоматов с газировкой все меньше оставалось способных справляться со своей копеечной работой.
– Пеликан, – обрадовалась Катя, заметив его в дверях магазина. – Давно не заходил.
– Сессия, Катя, – Пеликан подошел к стойке с кофейным автоматом. – Сегодня закончил сдавать.
– Да ладно, – широко улыбнулась Катя. – Какая там сессия? Тебя не было с тех пор, как матушка сослала Ирку в деревню или куда там. Не нужны тебе мы с Гантелей, не любишь ты нас. Ни Гантелю, ни даже меня. Но хоть кофе пить будешь?
– Буду, Катя. Двойную половинку, как обычно.
– А у меня мужик появился, – сообщила довольная Катя. – Загадочный весь такой. Но богатый. По ресторанам водит, денег не считает. В «Салюте» с ним ужинали, в «Москве» и в «Куренях» – два раза. Сейчас лето, тепло, наверное, потому мне в «Куренях» больше всего понравилось – там парк, воздух и звезды над головой.
– Вид у тебя довольный, – Пеликан внимательнее посмотрел на Катю. – А что за мужик? Где работает?
– Не знаю. Но элегантный. И говорит вроде бы с акцентом чуть-чуть. Может быть, дипломат… Тоже сперва кофе зашел выпить. На следующий день после того как Вилю в парке убили.
– Кого убили? – громоздкая коробка кофейного аппарата резко качнулась, и стойка кафетерия заскользила под вспотевшими ладонями Пеликана.
– Да Вилю убили, ты что, не помнишь его? Он в парке раньше фарцевал. На мне вот сейчас его джинсы. Зимой покупала, как раз перед тем, как своего выставила…
– Послушай, я ничего не знаю. У меня правда сессия была. Я после Иркиного дня рождения даже в парк не заходил… Когда убили?.. Кто?..
– Откуда я знаю, кто? Менты сейчас каждый день в парке трутся, всех трясут, тоже, наверное, хотят знать, кто. Это же случилось в ту ночь, когда все Иркин день рождения справляли.
– На Иркин день рождения… Он мне для нее кроссовки должен был принести. И не пришел…
– Да ты что?.. В тот самый день?
– В тот самый вечер. Но я тогда в «Олимпиаде» был. Меня Федорсаныч запряг и вырваться никак не получалось.
– Ничего себе поворот… Может, тебе еще кофе сделать?
– Налей мне лучше коньяка, Катя, и пойду я домой. Есть у тебя коньяк?
– Что-то еще осталось, – ответила Катя, нашаривая под прилавком полупустую бутылку.
– А где твоя подруга Гантеля? – Пеликан глянул на полуоткрытую дверь в подсобку.
– Ушла недавно. У нее сегодня короткий день…
Гантеля ждала его на улице возле служебного выхода.
– Пеликан, – тихо позвала она. – Ты в парке сегодня будешь?
– Не знаю, – удивился Пеликан. – Не собирался. А что?
– Тебя Калаш хотел видеть. Он каждый день в семь часов вечера качается с ребятами в березовой роще. Приходи сегодня.
– Я же не спортсмен, – удивился Пеликан. – Зачем я ему нужен?
– Там все узнаешь. Он тебя не качаться зовет.
– Что, из-за Вили?
– Какого Вили? А, фарцовщика, которого зарезали… Нет, с чего вдруг? Фарца – кровопийцы, враги народа. Калаш за них мазу не тянет.
4
Березовая роща – самый дальний и безлюдный угол парка «Победа». К ней ведет одинокая унылая аллея, декорированная битыми фонарями и скелетами разнесенных в щепки лавочек. Когда-то это был чахлый и едва проходимый березнячок, окруженный глухим болотом, а сразу за ним начинался сосновый лес, тянувшийся до Воскресенки. Потом часть болота осушили, убрали гнилые пни, растащили осиновые завалы и проредили березы. Оставшиеся деревья тут же почувствовали свободу, и всего через несколько лет за кустарниками кое-как осушенной пустоши вдруг поднялась молодая роща, светлая, насквозь зеленая и рвущаяся к солнцу. Первые годы земля здесь была наискосок расцарапана дренажными канавами, напоминавшими аккуратные окопы, но со временем они заросли травой, их засыпало листвой, так что постороннему человеку даже разглядеть эти борозды между деревьями было непросто.
От леса рощу отделяла широкая и почти незастроенная улица Алишера Навои, а от села, после того как не стало болота, не отделяло уже ничего, кроме давних предубеждений осторожных очеретянцев.
Пеликан подошел к роще не через парк, а старой извилистой тропой, которой из Очеретов ходили на полигон еще в те времена, когда Комсомольского массива не было даже не планах архитекторов Киевгорстроя.
Калаш с его афганцами как раз заканчивали тренировку. Всего их было восемь. В конце, как обычно, они разбились на две группы и сошлись в схватке – четыре на четыре, так что каждый был за себя, сражался со «своим» противником, но одновременно и страховал партнеров. Пары боролись прямо на земле, среди травы и старых пней, валили друг друга в прошлогодние листья, скатывались в старые канавы, возились там, вскрикивая и тяжело матерясь, потом снова подхватывались на ноги, продолжали кружить, выбирая момент для атаки, и одновременно следили, как идут дела у остальных, чтобы помочь отбиться, если кому-то придется совсем туго.
Пеликан не стал подходить близко, но его все равно заметили, кто-то коротко свистнул, и бои тут же прекратились. Все восемь, красные и взмокшие, двинулись к Пеликану, понемногу обходя его так, чтобы затем сомкнуть кольцо у него за его спиной. Они шли на него, не остыв от напряжения внезапно прерванных боев, шли, как на чужака, прокравшегося на территорию стаи, не узнавая его и совсем не похожие на себя.
– Стоп! Это Пеликан! – негромко сказал Калаш. И напряжение, сгустившееся над небольшой поляной, мгновенно растворилось в вечернем воздухе.
– Пеликан, – засмеялись афганцы, хлопая его по спине. – Ну ты, черт шифрованный. С болота подошел, лисой прокрался!
– А вы испугались? – Пеликан хлопал их по спинам в ответ и смеялся, узнавая наконец в этих хищниках, сильных и опасных, друзей с Комсомольского.
– Все! Все! Тренировка окончена, – ударил в ладоши Калаш. – Кто сегодня в карауле?
– Горец.
– Значит, Горец – со мной, остальные свободны! Завтра с пяти до семи здесь!
Невысокий темноволосый Горец с жестким взглядом и сбитыми костяшками пальцев подошел к Калашу.
– Я готов.
– Давай, за нами, – кивнул Пеликану Калаш. – Есть разговор.
Калаш с Горцем вышли на аллею и побежали по ней в сторону леса. Пеликан не понимал, куда они бегут и зачем, но послушно рванул следом. Перед ним в тренировочных штанах и мокрой от пота майке бежал Калаш. Он был старше Пеликана лет на шесть. Как-то раз еще в школе, на уроке физкультуры, Калаш заменял у них учителя. Он тогда заканчивал десятый, Пеликан с Багилой – пятый, была весна, апрель, а может быть, май. Они вот так же бежали за Калашом по школьному стадиону, только майка, обтягивавшая мощные мускулистые плечи Калаша, была сухой и чистой, не было на ней ни следов травы, как теперь, ни темных пятен пота. Пятиклассники сделали с ним круг, а когда он пошел на второй, Пеликан с Багилой, не сговариваясь, рванули в сторону школы – пусть дураки наматывают круги на стадионе следом за этим лосем-десятиклассником, а им и без того было чем заняться.
Изжелта-розовый свет вечернего солнца широкими косыми лучами пробивал рощу насквозь. Калаш, Пеликан и Горец бежали, пересекая эти полосы предзакатного света, ныряли в тень деревьев, как в густую воду теплого озера, выныривали и бежали дальше. Когда роща закончилась, они, не останавливаясь, пересекли пустую Алишера Навои и по присыпанной сухой сосновой иглой тропе быстро пошли вглубь леса. Здесь было серо и сумерки слоились между стволами сосен, скрывая тропу от Пеликана. Но Калаш с Горцем отлично знали дорогу. У старой сосны с раздвоенным стволом Калаш резко свернул, махнув Пеликану рукой, а Горец двинулся дальше, но тоже не по тропе, а по какой-то своей траектории.
Наконец Калаш остановился. Остановился и Пеликан. Они стояли молча, ожидая, пока подойдет Горец.
– Никого, – уверенно доложил тот, сделав широкую петлю по лесу и вернувшись к ним.
– Отлично! – Калаш быстро разбросал сухие ветки у себя под ногами, и оказалось, что все это время он стоял на круглой металлической крышке.
«Опасно! Газ!» – было написано на ней белой краской.
– Пеликан, ты, когда в школе учился, про партизанскую землянку ничего не слышал?
– Слышал. Даже искал ее. Только не здесь.
– А надо было здесь, – засмеялся Калаш. – Подняли! – скомандовал он Горцу.
Под крышкой оказался люк, запертый изнутри. Калаш постучал и что-то тихо сказал. Снизу донесся скрежет металла. Люк открылся, резко запахло влажной землей, в круглом проеме появилась металлическая лестница. Калаш спустился первым, Пеликан за ним. Горец остался наверху. Уже стоя на нижних ступенях, Пеликан увидел, как тот тащит крышку, чтобы завалить ею вход.
Внизу их встретила Гантеля.
– Товарищ, командир отряда, – доложила она Калашу. – Во время моего дежурства происшествий не случилось. Дежурная по штабу боец Гантеля.
– Вольно, боец, – скомандовал Калаш. – Приготовь нам чай. Чай – настоящий пролетарский напиток, верно, Пеликан?
– А я думал, водка, – ответил Пеликан, понемногу осматриваясь. Землянка оказалась довольно большим прямоугольным помещением, метра три на четыре, с листами фанеры над головой и стенами, обшитыми дощатым горбылем. Сюда было проведено электричество – на стенах ярко горели два небольших плоских светильника, закипал включенный Гантелей электрочайник, а на полу, в углу, Пеликан заметил обогреватель.
Посредине стоял стол с развернутой картой мира и рядом с ним – две длинных скамейки. Точно такие же Пеликан когда-то видел в школьном спортзале – оттуда их, наверное, и притащили.
На стене, напротив входа, чуть наискосок, висел большой флаг Советского Союза, и как-то сразу, с первого взгляда, было ясно, что его не покупали в магазине «Пропагандист», а сняли где-то и специально привезли сюда. Грубое полотнище выгорело и обтрепалось по углам, оно было не красного, а, скорее, кирпичного цвета, но вышитые золотом серп и молот с пятиконечной звездой над ними по-прежнему сверкали вызывающе и ярко. Обычно взгляд Пеликана скользил мимо красных флагов, развевающихся на бесчисленных флагштоках страны, не замечая их, как не замечают утомительно-однообразную наглядную агитацию, заполняющую городские пространства. Но здесь, в лесной землянке, растянутый на грубом горбыле, советский флаг был удивительно к месту.
На двух других стенах крепились вешалки с одеждой – несколько ватных бушлатов, плащ-палатки, поношенные солдатские шинели с погонами сержантов и старшин. Рядом с вешалками висели книжные полки. Пеликан подошел ближе, разглядывая корешки книг: Ленин, Маркс, Николай Островский, снова Ленин, Барбюс, Горький, атлас Советского Союза, Арагон, еще один Ленин, Борис Полевой… Все это были недорогие издания последних лет в бумажных или картонных переплетах, много раз читанные и оттого сильно истрепанные.
Водкой в этой землянке и не пахло – похоже, здесь действительно пили только чай. И, конечно, она не могла быть партизанской – на сосновом горбыле еще не застыла смола.
– Когда вы все это… построили? – покружив по землянке, спросил Пеликан.
– В прошлом году. Но ведь похожа на настоящую, скажи?
– Наверное, похожа, – не стал спорить Пеликан. – А раньше что тут было?
– Ничего не было, – Калаш пожал плечами. – Яма какая-то.
– Очень все классно сделано, – согласился Пеликан. – Специалист работал.
– У нас есть свой сапер. Садись за стол. Чай уже готов.
– Здесь не хватает рации, – вдруг понял Пеликан. – В кино у партизан в землянке всегда стояла рация.
– Партизаны связывались с Центром, с Большой Землей. Им оттуда боеприпасы присылали, газеты, продукты. Постановления ЦК. А у нас никакого Центра нет, его давно захватили предатели. Мы сами себе ЦК и сами Совнраком, Большой и Малый. Поэтому рация нам, Пеликан, не нужна. Говорить нам не с кем. Разве что с ментами.
– Что значит «Центр захватили предатели»?
– Это значит, что настоящей советской власти давно нет. Ленина продали, не вынося из мавзолея. Маркса переврали и забыли! Мы должны были строить коммунизм, в этом смысл существования Советского Союза. А что построили вместо коммунизма?
– Пока ничего, – пожал плечами Пеликан.
– Не надо, – остановил его Калаш. – Не надо самообмана. Уже построили. Государство воров разного калибра и тухлых лжецов. Они говорят «коммунизм», а сами строят дачи. У Ленина не было дачи, у Сталина ничего не было! Зачем коммунисту дача? Ему нужна только кровать и шинель. На даче можно играть в лото, варить компот из вишен и крыжовника, страдать от безответной любви. А коммунизм на дачах не строят, понимаешь? За коммунизм нужно бороться, идти в бой, не жалея жизни и не боясь крови! Кто сейчас на это способен? Настоящих коммунистов в Советском Союзе не осталось, власть в стране захватили обыватели. А обывателям все безразлично, кроме их теплых и глубоких нор. Они роют норы и больше ничего не желают видеть. Мы – страна победивших кротов-ревизионистов! Вот потому и расплодились повсюду воры. Даже в армии. Даже в нашем парке – воры, цеховики и фарца. Посмотри, сколько их там! Им уже тесно, им мало места, они глотки рвут друг другу за рваный, засаленный рубль. Но сражаться мы будем не с ними, потому что не они причины болезни. Они – сыпь, которая пройдет, когда мы вылечим страну. Стране нужна новая революция. И она начнется очень скоро. Ты готов к революции?
Тут Пеликан вспомнил постную рожу доцента Ласкавого и подумал, что хотя Калаш несет сейчас чушь, дремучую и беспросветную чушь, он прав. Их страну, словно тяжелый танк, загнал в болото безграмотный механик-водитель. И как теперь им выбираться? Почему-то все вокруг уверены, что выберутся запросто – раньше ведь еще хуже было, а ничего, справились, вот даже в космос полетели! Один Калаш грезит не космосом, а коммунизмом. Конечно, на карты советских вождей, прокладывавших пути к коммунизму, не нанесли болото, в которое занесло страну. Тут он прав, но правота Калаша была безразлична Пеликану, потому что коммунизм его не интересовал. Пеликан не верил ни в какой другой коммунизм, как не верит старая учительница бездельнику и двоечнику. Сейчас он жалобно ноет и обещает исправиться, но она знает, что не исправится, и больше не собирается себя обманывать. Если бы хотел и мог, то давно бы это сделал.
Нет никакого другого коммунизма, есть только такой, который нам достался, а все остальное – лишь тоскливое нытье двоечника. И ненавистное Калашу воровство, замешанное на тотальном лицемерии, – это лишь реверс железного советского рубля. А на аверсе – тот самый яростный коммунист, которого сегодня так ему не хватает. И если вдруг каким-то невозможным чудом кому-нибудь, допустим, Калашу удастся еще раз подбросить монету, то, крутанувшись в воздухе десяток раз, она упадет точно так же, реверсом вверх. Так падали монеты всех революций, давя всех, кто, к своему несчастью, оказался рядом. Впрочем, такие, как Калаш, умеют гибнуть достойно, в этом им не откажешь.
Ничего такого говорить Пеликан не собирался и спорить не хотел, понимая, что Калаша ему не переубедить. Говорить было не о чем.
– Хорошо, давай к делу, – допил чай Калаш. – Ты в университете учишься? На химическом факультете?
– На физическом.
– Да? А почему мне говорили, что на химическом? – он посмотрел на Гантелю.
Гантеля затрясла головой: я про него вообще ничего не говорила.
Все это время она не отрывала потрясенного взгляда от Калаша, слушала его восторженно, как, может быть, слушали апостола Павла новообращенные христианки в катакомбах Каппадокии.
– Она тебя не любит, – ухмыльнулся Калаш. – Ты ей в первом классе в портфель нассал.
– Что за бред? – возмутился Пеликан.
– Шучу, шучу… Зато это ты назвал ее «гантелей». Помнишь?
– Нет, не помню.
Тут Гантеля не то засмеялась, не то закашлялась. А может быть, зашипела.
– Ладно, со школьными воспоминаниями сами потом разберетесь, – сменил тему Калаш. – Плохо, что ты не на химическом факультете учишься. Мне реактивы нужны. Сможешь достать?
– Да где же? Это не ко мне.
– А что можешь? Жидкий азот можешь?
– Азот у нас есть. Но зачем тебе?
– В азоте можно так охладить металл, что он раскрошится даже от слабого удара.
– Ты, Калаш, фантастики начитался. Это там достаточно плеснуть азотом на дверь сейфа, чтобы она в порошок рассыпалась. Металл, конечно, можно охладить, но сделать это совсем не просто.
– Как охладить – это мое дело. Так что, достанешь азот? Пары литров для начала хватит.
– Хорошо, узнаю… Только смотри, через неделю я уезжаю в экспедицию. Потом возвращаюсь и примерено через месяц ухожу в армию. Могу не успеть…
– А ты успей. И с чистой совестью иди служить. Могу провести курс молодого бойца, хе-хе… Портянки наматывать умеешь?
– Ладно тебе…
– Я серьезно. Если что, приходи. А про азот я тебе в сентябре я тебе напомню, потому что он мне нужен. Еще чаю?
– Нет, спасибо. – Пеликан поднялся. – Флаг у тебя на стене интересный.
– Флаг исторический. Как-нибудь расскажу о нем. Вот ты не веришь, а мы его еще увидим над Кремлем.
Калаш ударил два раза по крышке, закрывавшей вход в землянку, и несколько секунд спустя Горец ее оттащил. Калаш выбрался наверх.
– Правда, что «гантелю» придумал я? – спросил Пеликан дежурную по штабу продавщицу гастронома.
– Давай, вали отсюда к своему Багиле, – не глядя на него, ответила Гантеля.
Глава пятая
Луна над Алабамой