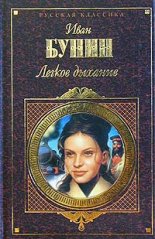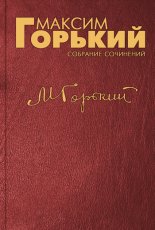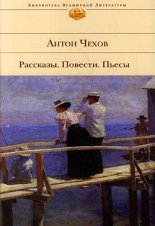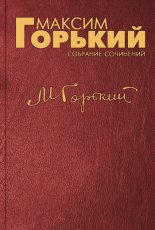Victory Park Никитин Алексей

Директора шахт – особая каста, у них свой круг общения и свои правила. Они не стали отвечать Бойко немедленно, у молодого инженера были крепкие тылы в горкоме партии, но где-то, в какой-то записной книжке напротив его фамилии появилась точка. Небольшая черная точка – и все.
Ничего этого Бойко, конечно, не знал и ответного удара не ждал. Он впервые добился справедливости в важном деле, а таких дел еще предстояли десятки. Социалистическое государство должно заботиться о рабочем классе, для того оно и создано. А если где-то засели бюрократы, для которых мертвые цифры важнее жизней рабочих, то у государства найдутся воля и силы их убрать, заменив настоящими коммунистами. Примерно так думал в то время Бойко, и у него действительно многое получалось. Он генерировал мощное поле силы и успеха, а такое излучение всегда чувствуется. Волю Бойко ощутили сотни людей, и когда он объявил о создании «Инициативной группы за соблюдение трудовых прав шахтеров», в нее вступили рабочие пятнадцати шахт. Это был настоящий независимый профсоюз, ничего похожего в области не видели с середины двадцатых годов, поэтому в Донецком обкоме на какое-то время растерялись. Разогнать незаконную организацию рабочих или объявить ее еще одним направлением социалистического профсоюзного движения, влить в официальные организации и растворить в них? Склонялись к более мягкому решению, ведь никаких политический требований Бойко не выдвигал, не требовал даже повышения зарплаты, а только выполнения и без того утвержденных трудовых договоров. На первый взгляд, ничего в этом крамольного не было.
Пока обком колебался, на «Бутовке-Донецкой» – шахте, где работал Бойко, – случилась авария, и «Инициативная группа» потребовала уголовной ответственности для директора. Директор – фронтовик, орденоносец – вывел предприятие в лидеры отрасли, а тут какой-то мальчишка копает под него и подводит под статью. Это было слишком, это был крутой перебор. Бойко так и объяснили в обкоме, а заодно предложили сворачивать правозащитную активность, которая многим уже надоела. На секретарей донецкого обкома удивленно смотрели в Киеве и спрашивали, что за махновщина началась у них в Углепроме.
Вместо того чтобы послушать умеренных доброжелателей из аппарата, Бойко направил в ЦК КПСС свои «апрельские тезисы» – письмо с требованием обеспечить соблюдение трудовых прав шахтеров Донбасса. Письмо подписали полторы сотни рабочих. Обком увидел в нем объявление войны – из благополучной донецкой избы вынесли сор и вытряхнули прямо посреди Москвы. Донецкий обком собрал отраслевое совещание, и директора шахт, как один человек, заявили, что не позволят популистам-проходимцам марать авторитет трудового края. Умеренные пожалели о проявленной мягкотелости, Бойко немедленно выгнали с работы, исключили из комсомола и из кандидатов в члены партии, а его «Инициативная группа» разбежалась сама.
Если бы на этом все закончилось, то через какое-то время жизнь инженера наладилась бы: его восстановили бы на работе или нашли другую, пусть не по специальности, но на еду и жилье хватило бы. Однако Бойко посчитал молчание ЦК поражением всех шахтеров Донбасса и решил бороться до конца. Он написал письмо XXIV съезду партии и поехал в Москву, чтобы лично передать его в оргкомитет съезда. Заодно в Москве он встретился с норвежскими дипломатами и оставил в посольстве копии всех своих документов. С этого момента дело Бойко стало политическим. У выхода из посольства его задержало КГБ. Инженера вывезли в Донецк и поместили в изолятор, пока его судьба решалась где-то наверху.
В те дни на «Бутовке-Донецкой» опять взорвался метан, опять погибли люди, и рабочие вышли на митинг с требованием освободить Бойко и вернуть его на шахту. Митинг разогнали жестко, а бывшего профсоюзного вожака обвинили в антисоветской клевете и отправили в Днепропетровскую психиатрическую больницу. Свидания с ним были запрещены. На свободу Бойко выпустили только четыре года спустя.
Эти несколько лет Елена была с ним. Они не оформляли брак, потому что первое время ей еще не было восемнадцати, а когда исполнилось, стало очевидно, до чего опасно быть женой Бойко. Тогда Елене это было безразлично. Она точно знала, что печать в паспорте будет для него полезна, но Бойко упрямо откладывал свадьбу, говоря, что скоро все устроится, он добьется правды, его восстановят, а директора снимут и справедливость восторжествует, вот тогда они поженятся и позовут на свадьбу всех, кто помогал ему, кто боролся с ним вместе, кто был рядом. Он не сомневался, что когда-нибудь будет именно так, но дела его слишком заметно двигались в противоположную сторону.
Все время, которое инженер провел в изоляторе КГБ, за Еленой ходила наружка, и это выглядело смешно, особенно когда зимой она везла на санках из яслей двухлетнюю Ирку, а за ними, спотыкаясь и поскальзываясь на неровных тропах, проложенных сквозь сугробы, брел в ботинках на тонкой подошве мерзнущий на крепком донецком морозе мальчишка-топтун. Однажды санки застряли между гигантскими кучами старого смерзшегося снега. Вечер переходил в ночь, на улице не было никого. Быстро оглянувшись, наружник поднял тяжелые санки с Иркой и перенес их на расчищенную проезжую часть дороги.
Следить за ней перестали только после того, как Бойко отправили в больницу.
Примерно год спустя, когда удалось наладить отношения с врачами и санитарами, от него, в нарушение всех правил и официальных запретов, стали приходить первые письма. Он писал, что уже не остановится и продолжит свое дело, когда выйдет из больницы. Значит, дальше находиться рядом с ним будет только опаснее и сложнее. Бойко разорвал отношения с Еленой окончательно.
Время, как сложная оптика, преломляет потоки памяти и меняет масштабы событий. Память уничтожает тяжелые воспоминания, их контуры стираются, а светлые и легкие, даже если их было немного, кажутся ярче. Они делают осмысленными целые годы безрадостного существования. Мы все бескорыстные адвокаты своего прошлого. Но то время, когда Бойко в первый раз выпустили из психушки, Елена вспоминала с ужасом и трепетом даже десять лет спустя.
По событиям неполного года, который ее муж провел на свободе, прежде чем его повторно упекли в больницу, можно было снимать триллер. Бойко начал с того, что привез в Донецк журналистов десятка европейских газет и показал, как на самом деле живут рабочие в самом крупном индустриальном центре Европы. А затем собрал свою старую гвардию и объявил о создании Независимого украинского профсоюза. На следующий день после того, как журналисты разъехались, КГБ арестовало Бойко, но во время допроса он сумел бежать и уехал в Москву. Он решил просить политического убежища в посольстве Норвегии. До Москвы Бойко добрался, однако в посольство попасть не сумел: его задержали на Киевском вокзале и вернули в Донецк для обследования. По дороге из Москвы он бежал еще раз, скрывался несколько месяцев – сперва в Киеве, потом в Днепропетровске. Все это время за семьей Елены опять, как и четыре года назад, вели наблюдение, и когда Бойко все же появился у них дома, его взяли, чтобы закрыть уже надолго. В тот раз она видела его впервые за последние пять лет. Он стал невозможно худым, зарос, давно не брился, и темная щетина торчала кустами на его лице. И все же ее муж оставался сильным и выглядел несломленным. Прямо в их тесной гостинке, пока милиционеры составляли протокол, какие-то люди, не снимая с Бойко костюма, сделали ему укол в ногу, он потерял сознание, и вместе с недописанным протоколом его вынесли на носилках и погрузили в машину скорой помощи.
Елена не встречалась с ним больше никогда.
В том же году вся их семья разъехалась, чтобы уже не возвращаться в Донецк. Младшая сестра Елены вышла замуж и уехала с мужем в Жданов, а сама она во время гастролей Русской драмы познакомилась с Сотником и несколько месяцев спустя с мамой и Иркой переехала к нему в Киев.
Удивительно, но именно мать Елены, суровая и жесткая, изводившая Сотника все десять лет жизни под одной крышей, к Бойко относилась заботливо и нежно. Может быть, потому что и ее муж в первый послевоенный год погиб в забое под обвалом. Был человек – и не стало, и жизнь покатилась дальше, так, словно никто кроме нее этого не заметил.
Мать оставалась последним каналом связи с Донецком, и редкие новости о Бойко доходили до Елены теперь только через нее.
Его выпустили из больницы спустя три года. Он опять поехал в Москву и прошел обследование у доктора Корягина, консультанта неофициальной комиссии, занимавшейся изучением использования психиатрии в политических целях. Инженера признали психически здоровым.
Он успел еще раз встретиться с западными журналистами и обратиться с письмом к британским профсоюзам шахтеров. Это решило его судьбу окончательно. Бойко изолировали на несколько месяцев в Днепропетровской спецбольнице, а затем отправили лечиться в Казахстан.
С тех пор прошло пять лет. В Донецке о нем не слышали больше ничего, но Елена точно знала, что если Бойко жив и если его выпустят еще раз, он не остановится. Такой у него характер. А у Ирки – в точности как у отца.
Всю ночь, пока шел дождь, Елена не спала, слушала бодрое сопение Сотника, думала о первом муже и о дочке. Мысли то путались, то срывались и неслись, выхватывая из дремучих глубин памяти давно и, казалось, навсегда забытые эпизоды ее прошлой жизни.
Ирка выросла такой же, какой была она сама. Елена понимала, что мало знает о дочери и плохо представляет ее жизнь, но сейчас она чувствовала, что Ирку нужно куда-нибудь увезти из города. Почему бы не к тетке, в Жданов? Заодно и мама поживет у младшей дочери. Скоро лето – пусть едут на море. И поскорей.
2
– Белфаст, – сказал Сотник голосом Вени Сокола, набрав домашний номер фарцовщика и ловеласа, – у меня появился оптовый покупатель на твой товар. Ты не поверишь, но люди в городе Коростополе мечтают ходить в вельветовых джинсах, пошитых в Западном Берлине. Торговые связи укрепляют дружбу между народами. Сегодня вечером я встречаюсь с коростопольским гонцом – ему нужно пятьдесят пар. Прикинь, старик, пятьдесят, а я даже не знаю, что это за город и где он раскинул свои широкие многолюдные проспекты…
– Веня, – попытался вставить слово Белфаст.
– Подожди, – Сотник вытолкнул его из монолога Вени Сокола. – Хрен с ним, с Коростополем. Сегодня вечером мне будут нужны пятьдесят пар твоих джинсов. А у меня осталось только пять. Ты сможешь подогнать к Мичигану еще сорок пять? Сегодня, к пяти вечера, например?
– Веня… – вздохнул Белфаст, когда Сотник замолчал. – Что мешало тебе позвонить вчера? Где я тебе за шесть часов добуду пятьдесят пар немецких штанов? Я даже не знаю, есть ли они на базе. Я ведь фарца голимая, маленький зависимый человек.
– Белфаст, мы работаем с тобой пять лет. Или шесть? Пусть шесть. Так давно со мной работает только лейтенант Житний, дай ему Бог всего и побольше. Ты же умеешь находить решения, от которых в сказочном экстазе встает дыбом шерсть на позвоночнике у обезьян из Киевгорторга. Придумай что-нибудь. Пятьдесят пар джинсов, и на каждой – чистый полтинник навара. Надо просто наклониться и поднять с земли два с половиной косаря. Они валяются в пыли и пропадают без дела. Реши это простое уравнение с одним неизвестным – найди джинсы. Никто, кроме тебя, с ним все равно не справится.
– Веня, это грубая лесть.
– Лесть, соразмерная твоим заслугам, Белфаст. Так что? Договариваться с гонцом на вечер или лучше перенести встречу на другой раз?
– Еще чего! – рявкнул Белфаст. – Главный закон торговли: других разов не бывает. В провинции живут люди, не испорченные диалектическим материализмом, и город Коростополь мне уже нравится заочно. Его нельзя терять. Жди меня в пять у Мичигана.
Федорсаныч положил трубку и вытер мокрый лоб. Елена потрепала его по затылку.
– Ты опасный человек, Сотник. Ты Сирена. Крысолов с дудочкой. Мне самой хотелось отдать тебе все джинсы, которые есть в доме. Все-таки ты настоящий артист, не то что все эти…
На самом деле опасной была Елена, а не Сотник. О чем думал Белфаст, когда вместо Боярского подсовывал им с Дитой какого-то усатого прохвоста, который даже петь не умел, как следует? Кто они ему, две лопоухие дурочки с Комсомольского массива? Кто сказал, что с ними так можно? Ладно если бы усатый оказался приличным человеком, но этот козел взял телефон Диты и не позвонил ей ни разу. Даже Белфаст названивал Елене несколько вечеров и бросал трубку, когда к телефону подходил Сотник. А мнимый Боярский пропал бесследно, словно ничего и не было.
Елена точно знала, что такие шутки без ответа не оставляют, иначе вся жизнь может превратиться в один паршивый розыгрыш. Она несколько дней терзала Диту, убеждая ее, что отомстить Белфасту с его коварным усатым приятелем для них дело чести. Но Дита тихо плавала по раскаленной от летнего солнца квартире, выплывала на балкон, пила кофе, курила и ни о какой мести думать не хотела. Может быть, она надеялась, что однажды снимет трубку телефона и знакомый всей стране голос скажет: «Привет! Я стою внизу, у подъезда, с букетом городских цветов. Ты мне откроешь?» А может быть, Дита просто решила забыть эту историю – кто знает, как в Литве ведут себя девушки в таких случаях? Только здесь не Литва, и Елена не простит двум проходимцам их наглый обман.
Не сумев растормошить подругу, Елена взялась за Сотника. Они остались вдвоем в опустевшем доме, их не отвлекала Ирка, им не мешала ее мама, и за несколько дней Елена с мужем придумали план мести. Сотнику пришлось встретиться с Веней и, не посвящая в подробности, расспросить о его коллеге по подпольной коммерции, а Елена позвонила Белфасту и минут двадцать болтала вроде бы ни о чем, но на самом деле выуживала в разговоре нужные ей детали. Наконец план был продуман, операция подготовлена. Сотник позвонил Белфасту от имени Вени Сокола и вызвал его на Крест с пятью десятками вельветовых джинсов. Пятьдесят пар штанов – это два увесистых чемодана. Пусть побегает с ними по городу в летнюю жару и подтает килограмма на полтора. Для начала неплохо, но главное начнется потом.
Без четверти пять Белфаст привычно припарковался во дворе у Бессарабки, взвалил на спину два гигантские спортивные сумки и, согнувшись под их нелегким весом, попер к Мичигану. Весь день он провел на ногах: выбивал, выпрашивал, вырывал зубами эти чертовы джинсы. Он все сделал вовремя, все успел. Чем зыбче, чем ненадежнее дело, которым ты зарабатываешь на жизнь, тем выше ценится репутация партнера. Иногда только на нее и можно положиться. Репутация Белфаста была безупречной.
Возле подворотни, сразу за «Болгарской розой», к нему подошли менты. Их было трое – два капитана и полковник. Вид у ментов был такой, словно они его ждали, словно знали, что он пройдет по Кресту в это время, и именно его они высматривали в плотной толпе прохожих.
– Вот, товарищи офицеры, знакомьтесь, – сказал полковник, довольно улыбаясь, – некто Белфаст, спекулянт и валютчик. Давно у нас в разработке. Опять, наверное, тащит материальные ценности, нажитые нетрудовым путем, чтобы втридорога продать их советским трудящимся. Но на этот раз ничего у него не выйдет. А потому не выйдет, Белфаст, что поедешь ты с нами в отделение, где будет составлен протокол об изъятии.
– Какой протокол? – ощетинился Белфаст. – Я же ничего не делал, я просто шел по Кресту.
– Вот в отделении все и узнаешь. Идем-идем! А по дороге придумай убедительное объяснение – откуда взялся товар, которым забиты обе твои сумки.
– Это не товар, – брезгливо улыбнулся Белфаст. – Это мои личные вещи.
Полковник пошел к милицейскому бобику, не дожидаясь ни капитанов, ни фарцовщика. Белфаст его где-то уже видел, и видел совсем недавно, но не в обезьяннике и ни в одном из РОВД. В каком-то необычном месте мелькал перед ним этот полковник.
– Давай, чего стоишь, – грубо подтолкнули его капитаны, и втроем они подошли к бобику.
В отделении полковнику все улыбались и жали руку, словно он только что вернулся из долгой командировки или вышел из больницы после опасного ранения. Его здесь знали и любили, это было очевидно, да и на Белфаста смотрели чуть ли не дружески. Все, кроме полковника.
Он отпустил капитанов, завел Белфаста в пустой кабинет и велел расстегнуть сумки.
– Показывай, что там у тебя на этот раз. Не терпится посмотреть.
– Одежда. Для себя взял. Мужские штаны.
– Конечно. Импорт. Пар пятьдесят, наверное, а?
«Как он угадал? – удивился Белфаст. – Бах, и сразу пятьдесят! Вот глазомер! А может, знал? Точно, знал! Они меня пасли, знали, что я буду с товаром. Но почему не взяли с поличным у Вени? Это странно…
– Что там у тебя в сумках? Доставай все! – велел полковник. – Пиши объяснение, а я сейчас приглашу понятых, будем оформлять изъятие.
Полковник положил на стол небольшой листок бумаги и вышел из комнаты.
«Хоть бы ручку дал, жлобина, – разозлился Белфаст. – Даже бумажку оставил какую-то маленькую. Что я на ней напишу?»
То, что он принял за лист бумаги небольшого формата, оказалось фотографией.
Жизнерадостно расправив усы, весело и хитро улыбался Белфасту со снимка артист Боярский, неотличимо похожий на Вильку Коломийца, которого в конце мая зарезал какой-то маньяк.
Привет Мише – идеально разборчивым женским почерком было написано на обороте карточки. И тут Белфаст ясно вспомнил, где видел невысокого полковника. В кино! Этот актер играл полковника в фильме про погранцов. Небольшая роль, второй план. Даже мундир, наверное, был на нем этот же! Даже интерьеры отделения милиции вдруг показались Белфасту знакомыми, хотя этого-то уж точно быть не могло.
Киностудия имени Александра Довженко, черт бы ее драл…
– Вы еще репетируете? – в дверь кабинета заглянул какой-то майор.
– Уже закончили. Сейчас ухожу.
Белфаст попытался застегнуть сумку, но, как назло, заело молнию, а у него совсем неприлично тряслись руки. Майор понимающе улыбнулся и предложил помочь, но Белфаст отказался, медленно выдохнул и поскорее вышел на улицу.
Он даже не пытался понять, кто мог так жестоко его разыграть. Да кто угодно мог, что тут гадать? В Киеве достаточно влиятельных женщин с хорошей памятью.
3
В августе на восточной окраине города Жданова стоял запах разрушенной канализации и мазута. В воздухе пахло серой и еще какой-то дрянью, в которой специалисты находили ядовитые и канцерогенные фториды, бензапирен, соединения хлора и марганца. Лишь изредка с юго-восточным ветром в узкие улицы городских кварталов прорывался запах моря.
Светлана, сестра Елены, жила в небольшом доме с мансардой, в ряду таких же небольших домов с мансардами и без них, в самом центре паутины пыльных, кое-как заасфальтированных улочек и переулков, названия которых ни о чем не говорили и ничего не значили. На улице Светлой света было не больше, чем на Февральской; в Жемчужном переулке жемчуга не видали никогда, зато песка по обочинам было навалено не меньше, чем на Песчаной.
Здесь жили обособленно – семьями, кланами. Чужих в свою жизнь не пускали, к соседям без дела не заходили. Дома с огороженными участками превращали в крепость, землей не разбрасывались, засаживали и застраивали все. Каждый квадратный сантиметр стоял на учете и приносил хозяевам пользу.
Семья Светланы собиралась во дворе по вечерам. Под огромным старым орехом накрывали большой стол, не спеша ужинали, говорили обо всем, что случилось за день. Когда темнело, укладывали детей, зажигали небольшой фонарь у входа в дом и продолжали говорить допоздна.
Приторный аромат петуний скапливался во дворах, наполнял их и перетекал на улицы городских окраин. Он заглушал на время запахи канализации и выбросов металлургических гигантов. Ночью переулки Жданова пахли цветами, молодой луной и свежестью приморской ночи.
Сотник не хотел ехать в Жданов даже ненадолго. Он устал от украинской провинции, от поездов, от автобусов, от вечной пыли разбитых дорог, соединявших заштатные городки. Он не хотел к Светлане, не хотел спать на узком продавленном диванчике в тесной комнате для гостей. Мысль о походах на море нагоняла на Сотника тоску. От дома Светланы до ближайшего приличного пляжа нужно было сперва идти по жаре и пыли, а потом ехать минут сорок на ужасном, перекошенном, всегда заполненном людьми автобусе. Зачем ему эти галеры? В Киеве дорога от дома до пляжа на Днепре, если идти напрямик, через Очереты, отнимала минут двадцать, не больше, или столько же на метро – до Гидропарка. Но когда Елена сказала, что в гости к сестре им нужно отправиться вдвоем, Сотник согласился беспрекословно, словно мечтал провести десять дней рядом с домнами Азовстали, на берегу мелкого и грязного моря.
За два летних месяца их отношения с Еленой как-то наладились. Может быть, не зря он устроил день рождения Ирки в «Олимпиаде», и его план сработал. А может, Елена оценила его в роли полковника милиции, наказавшего матерого фарцовщика. Ни одна кинороль Сотника не произвела на нее такого впечатления. Ему пришлось здорово побегать, договариваясь с киностудией, с ментами, встречаясь с Веней Соколом, зато и результат получился первоклассный.
В историю с обманутой подругой Елены Сотник не поверил, но и правды решил не добиваться. Стало бы ему легче или приятнее, если б оказалось, что он выступил орудием мести бывшему любовнику жены? Пусть уж считается, что он вступился за безответную влюбленную женщину, с которой даже не знаком…
4
Ждановский быт оказался не так ужасен, как представлялось Сотнику. Светлана была мила, ее муж дружелюбен, племянники не сидели у него на голове, а вели какую-то свою тихую и незаметную жизнь, и даже теща на время спрятала отравленное жало. Обыкновенно женщины полдня возились на кухне, готовили, а после неторопливого обеда оставались под тенистым орехом, играли в подкидного, по очереди обмениваясь давно уже обсужденными новостями. История о том, как Федорсаныч в облике полковника милиции вершил возмездие над теневым дельцом, пересказывалась за столом раз пять. Елена прошлась по ней жесткой редакторской рукой, но временами то ее мать, то сестра задавали неудобные вопросы и получали на них ответы тем более откровенные, чем больше было выпито домашней наливки и чем меньше детей оставалось за столом.
Сотник сидел с ними, как правило, молча, иногда только вставлял в рассказ Елены смешные детали, пил чай, поливал цветы из шланга – пионы, петунии, бархатцы. Оказалось, что и в Жданове можно отдыхать.
Каждые полчаса во двор осторожно входили какие-то мальчишки. Не показывая чрезмерной смелости, они останавливались у калитки и спрашивали, скоро ли выйдет Ирка. Сотник пытался запомнить хотя бы одного, но мальчишки всякий раз приходили новые. Ирка царила в окрестных переулках. Ее абсолютное превосходство признали все существа мужского и женского пола в возрасте до восемнадцати, и она пользовалась обретенной властью с небрежностью единственной и безусловной наследницы престола.
Однажды племянники принесли весть, что в кинотеатре «Труд» через три дня покажут шпионский детектив «Государственную границу не пересекал», в котором Сотник сыграл того самого полковника милиции, который позже, уже за кадром, так безжалостно обошелся с доверчивым Белфастом. Женщины немедленно захотели увидеть нашего Федю в деле. Билеты в кино были куплены на обе семьи, и даже теща сказала, что раз все идут, то и она дома не останется.
Конечно, фильм Баняка – не шедевр, да и роль Федорсаныч сыграл в нем пустяковую. Он сказал всем об этом несколько раз, впрочем, родственники правильно оценили скромность артиста и пропустили его саморазоблачения мимо ушей. Федорсанычу было приятно.
Но утром того дня, на который был назначен поход в кино, что-то вдруг случилось. Сотник со Светланой поехал на рынок за молоком и мясом, а когда они вернулись, оказалось, что Елена уехала.
Куда она уехала? Почему ничего не сказала ему? Наверняка все знала теща, но старуха привычно молчала и смотрела на него как на пустое место. На бесполезное, вонючее и грязное пустое место. На Сотника медленной ватной глыбой, как в худшие времена, накатила тоска. Чуть позже Ирка сказала, что мать уехала в Донецк на два дня, но зачем и отчего так срочно, она и сама не понимала. Сотнику от этого стало только хуже. Дома он заперся бы в ванной и декламировал. Что он читал бы? Монолог Отелло?
Будь воля Неба меня измучить бедами, обрушить на голову мою позор и боль, зарыть меня по губы в нищету, лишить свободы и отнять надежду – я отыскал бы где-нибудь в душе зерно терпенья. Но, увы, мне стать мишенью для глумящегося века, уставившего палец на меня!..
Нет, монолог Отелло не годился. Сотник не хотел говорить о себе. Ему неинтересно говорить о себе, когда вокруг развиваются тайные отношения и в них участвуют близкие люди. Они разговаривают с тобой, улыбаются, жмут руку, называют себя твоими друзьями, одной семьей, но предают немедленно, лишь только угадывают возможность. Ладно теща, о ней разговор особый. Но вот Светлана, с которой утром они ездили на рынок за мясом, потом стояли в очереди за живой рыбой и болтали, как свои, – она ведь все уже узнала и тоже молчит. Сейчас все соберутся, пойдут в кино, и он пойдет с ними. Они будут смотреть, как он валяет ваньку на экране, натурально изображая ненатурального полковника, и будут смеяться, хвалить его, говорить о таланте, но в мыслях держать при этом необъясненный и необъяснимый отъезд Елены! К кому она поехала на этот раз? Кто этот Глостер? Может быть, здесь уместен монолог из Ричарда Третьего? Кто обольщал когда-нибудь так женщин? Кто женщину так обольстить сумел? Она – моя! Но не нужна надолго. Как! Я, убивший мужа и отца, я ею овладел в час горшей злобы, когда здесь, задыхаясь от проклятий, она рыдала над истцом кровавым!.. Ладно, про час проклятий, может быть, и слишком сильно, но ведь уехала она к кому-то.
Сотник был прав в одном: Елена действительно уехала к мужчине. В конце июля Бойко выпустили из кустанайской больницы, и он вернулся в Донецк. Те, кто видели первого мужа Елены, говорили, что выглядел он ужасно, и по всему выходило, что Бойко приехал домой умирать. Ни Елена, ни ее мать ничего об этом не знали, но утром, без предупреждения, на удачу, к ним заехала давняя подруга тещи. Она возвращалась с внуками из отпуска на такси, торопилась, и потому донецкие новости были вывалены кучей и наспех.
От Жданова до Донецка сто десять километров – полтора часа на машине. Времени на раздумья у Елены не было, и она сорвалась, не дожидаясь Сотника, никому ничего не сказав. Ее мать тоже решила промолчать. Почему она так поступила, осталось еще одной загадкой в долгом ряду нерешенных загадок, наполнявших сложные отношения зятя и тещи. Зачем Елена ездила в родной город, Сотник узнал только два дня спустя, когда она вернулась в Жданов. Все эти два дня он страдал, как постоянно страдал в Киеве, и тщательно выбирал монолог, который мог бы описать ситуацию и примирить его с ней.
5
В кинотеатре перед началом сеанса к публике неожиданно вышла администратор.
– Товарищи, – сказала она вполне безразличным тоном. – Сейчас вы посмотрите фильм «Государственную границу не пересекал» о службе наших пограничников.
– Афишу читали, грамотные, – ответили ей из зала.
– Так сложилось, что с нами посмотрит этот фильм артист киевского Театра Русской драмы Федор Сотник, сыгравший в картине полковника милиции Кузнецова. Давайте попросим товарища Сотника выйти к нам и сказать буквально два слова об этой интересной роли.
Зал вяло похлопал.
Сотник удивился, отчего вдруг администратору пришло в голову пригласить его на сцену. Но тут его озарило, он понял, какой монолог следует читать на отъезд Елены, и, не думая больше ни о чем, быстро зашагал по проходу.
– Если вы не против, – сказал Сотник, встав перед залом, – я не стану рассказывать о небольшой роли, которую сыграл в этом фильме. В ней нет ничего нового и интересного.
– Верно, артист, – согласился зал. – Что интересного в роли мента?
– Вместо этого я прочту вам монолог королевы Елизаветы из пьесы Шиллера «Мария Стюарт». Это новая роль, новый спектакль. Наша труппа сейчас над ним работает.
Зал озадаченно замолчал, пытаясь представить Сотника в роли королевы. Ирка в ужасе взялась за голову: она одна знала, чем все может закончиться. Светлана растерянно и виновато отводила глаза, стараясь не встретить изумленного взгляда администратора кинотеатра. Это была ее идея пригласить Сотника сказать несколько слов перед сеансом. Кто же предполагал, что все может так повернуться? И только Федорсаныч был рад неожиданной возможности выплеснуть отчаянье привычным ему способом. В эти минуты он видел Елену королевой Елизаветой: надменной, себялюбивой, презирающей всех подданных, всех, кто случайно оказался рядом.
– О, рабское служение народу! – осторожно сказал Сотник, осматривая зал.
- – Позорное холопство! Как устала
- Я идолу презренному служить!
- Когда ж свободна буду на престоле?
- Я почитать должна людское мненье,
- Искать признанья неразумной черни,
- Которой лишь фиглярство по нутру…
Да, все именно так. Он для Елены чернь, прислуга, исполнитель пустых и глупых ее капризов.
- …Кругом враги! Непрочный мой престол
- Народной лишь приверженностью крепок!
- Меня сгубить стремятся все державы
- Материка! Анафемой грозит
- В последней булле непреклонный папа,
- Кинжал вонзает Франция с лобзаньем
- Предательским мне в сердце…
Она не верит никому, она всех боится, всех подозревает в предательстве, и потому предает первой. Ах, как это точно!..
- Так я живу, воюя с целым миром.
- Мгновенья счастья быстротечны,
- И невольно я жить берусь по чертежам чужим.
- А в них измены черные ветвятся густою сетью
- Длинных коридоров. Предательство рисует ложный вход,
- Там, где стена, плющом увитая, поднялась. И я стучу.
- Я жду, когда дворецкий передо мною эту дверь откроет,
- И вновь стучу, и вновь. Но тишина вокруг, лишь ветер смрадный,
- Несет отраву с домен Азовстали и распыляет над моей страной.
- Я одинока! Страсти не стихают в моей душе, но сердце не болит.
- Оно меня моложе, объяснить ему не в силах я, что допустимо,
- А что так больно ранит любимых и друзей, и всех, кто рядом…
Нет, стой! Это притворство. Тут все одно притворство! Что значит сердце ее моложе? И почему это чертежи вдруг оказываются чужими? Чьими же тогда?
- Судьба недобрая и с ней неверный случай решают все за нас.
- Одно лишь право – тихо подчиняться – они за ними признают,
- Тогда, быть может, удастся ускользнуть из-под надзора
- Бессонных сторожей и кое-как, не выделяясь, серо, как в тумане,
- Прожить и не накликать на себя небесной кары. Если же ты вдруг
- Набрался смелости и заявил открыто, что сам себе хозяин,
- То жизнь твоя недолгая пройдет в печалях. И окончится в психушке!
Разрыдавшись, Сотник выбежал из кинотеатра «Труд». Свет в зале тут же выключили и на экране пошли титры фильма «Государственную границу не пересекал». Растерянная публика молчала.
Часть третья. Осенний счет
Глава первая
Утки и лебеди
1
Иван Багила объяснил старому, что фиксированного и окончательно определенного будущего нет, оно возникает и меняется каждую секунду настоящего. Предсказать будущее во всей полноте невозможно, потому что неисчислимое количество событий, происходящих одновременно, создает тонкий и сложный рисунок каждого следующего мгновения и влияет на все более отдаленные, без исключения. Нам неизвестно о природе времени ничего, а в будущем мы видим лишь преломленное отражение прошлого. Если летом мы говорим, что осенью этот замечательный кальвиль упадет, то имеем в виду только то, что до сих пор большинство известных нам яблок сорта кальвиль, да и всех прочих сортов, созревало осенью и падало под действием сил всемирного тяготения и других законов природы. Поэтому нет причин полагать, что судьба именно нашего яблока сложится иначе. Хотя все может быть. Все возможно, повторяем мы, даже зная что-то наверняка.
Старый не спорил. У него был свой опыт. Его гостей никогда не интересовало будущее как категория, никто не задавал ему отвлеченных вопросов, о судьбе вселенной, например. Людей смущают космические масштабы, они живут в разностороннем треугольнике, ограниченном тремя линиями судьбы: семьей, службой, здоровьем.
Максим Багила хотел спросить у Ивана, знает ли наука о той странной среде, в которую ему приходилось погружаться всякий раз, чтобы разглядеть судьбы гостей, но понял, что не сможет ее описать, и не стал даже пробовать. Как мог он рассказать о вязкой глухой тишине, в которой пузырями разных форм и размеров застыли звуки? Или о темноте, в которой свет превратился в вибрирующие кристаллы с обжигающе-острыми гранями? Там время обращено в пространство и истории жизней тянутся жесткими тугими нитями. Они то сплетаются с другими в сложные узлы, которые невозможно ни разорвать, ни распутать, то вдруг расходятся, чтобы не пересечься уже никогда. Этот мир, не похожий ни на что, открыл старому его талант, но, научившись безошибочно и точно ориентироваться в скрытых пространствах, старый вряд ли сумел бы рассказать о них так, чтобы его понял хотя бы еще один человек.
Собственное будущее перестало интересовать Максима Багилу, когда он стал старым. Принимая гостей, первое время он удивлялся тоскливому однообразию их вопросов и пожеланий, позже привык и к этому. Мечты людей были скроены по одним лекалам, их жизни словно сошли с конвейеров трех-четырех фабрик. И даже те, а может быть, особенно те, кто, как сам он, выбивался из общего ряда, настойчивее других стремились вернуться в теплое стойло, к кормушке, которую аккуратно наполняет внимательный хозяин.
Старый никогда не стыдился прошлого; ему было стыдно за свое будущее. К концу жизни у него не осталось ни вопросов, ни интересов, ни желаний. Нет, одно все-таки сохранилось – ему не хватало собеседника, равного по опыту, способного понимать и говорить с ним на одном языке. Одиночество одолевало Максима Багилу ощутимее всех болезней, старательно накопленных им за восемьдесят пять лет, даже сильнее раненной ноги, которая давно устала ему подчиняться, но так и не устала болеть.
Календарное лето закончилось, стояла теплая ранняя осень с долгими, неторопливыми вечерами, густыми красно-кисельными закатами над Куреневкой и Оболонью. В эти дни старый допоздна сидел на узкой скамейке за поветкой рядом с двумя последними яблонями, оставшимися от большого когда-то сада, – снежным кальвилем и симиренкой. Он глядел, как темное небо над Правым берегом вспыхивает и переливается огнями огромного города. Может быть, тот яркий, но непостоянный свет, колебавшийся за Днепром в его давнем и многолетнем сне, на самом деле не был заревом пожара? Может быть, уже тогда, в девятнадцатом году, за его спиной поднимался современный город, а родители молча смотрели на него, стоя у старых деревянных ворот, которые сгорели на третий год войны. Этого не проверить, но даже если так, главное остается неизменным: все, что он заслужил у жизни, – лишь свежий запах созревших яблок и одиночество тихой предосенней ночи. Только запах яблок и одиночество остались с ним до конца, до последней минуты. Максиму Багиле этого было достаточно.
Старый обычно ложился поздно, поэтому тело на скамье за поветкой его дочь Татьяна увидела только утром. Это было первое по-настоящему осеннее утро с легкими заморозками и инеем на траве.
В ту ночь осыпался весь кальвиль, все яблоки до единого. А симиренка стояла еще долго, до середины ноября.
2
Семен Багила прилетел в Киев на третий день после смерти старого. Такси из Борисполя битый час петляло по Очеретам между новыми двухэтажными домами и возвращалось к Покровской церкви – Семен не узнавал родного села. Полжизни вспоминал он широкие немощеные улицы, ветхие деревянные заборы, пахнувшие гнилью, туман, накатывавший с Днепра. Он точно знал, как огородами пройти от церкви к дому старого, он помнил, в чьем саду черешня поспевает первой и у кого самые злые собаки. Семен Багила не забыл ничего – не осталось только тех Очеретов, которые, как старые тускнеющие фотоснимки, аккуратно хранила его память.
За высокими кирпичными заборами с воротами достаточной ширины, чтобы во двор свободно вошла «Нива» с прицепом, под надежными крышами, крытыми оцинковкой, отстроились новые Очереты. По ним уже тайком не пробежишь огородами, легко перемахивая через плетни. Эти Очереты не спешили признавать в нем своего.
Семен долго не сдавался, он был уверен, что найдет дорогу без чужой помощи, но когда водитель сказал, что еще немного – и в баке закончится бензин, пришлось капитулировать. Не догадываясь, насколько окончательно и всесторонне его поражение, Семен спросил дорогу к дому старого у высокого парня, выходившего из церкви. Минуту спустя оказалось, что этот парень – его сын Иван, а родную улицу он никогда бы не смог найти, потому что соседи превратили ее почти в тупик. Они застроили выезд к церкви так, что протиснуться между соседским забором и стеной магазина теперь можно было только боком. «Волга» трижды проехала мимо узкого прохода, заваленного картонными коробками и деревянными ящиками, и трижды Семен Багила не узнал улицу своего детства.
В прежние времена во двор к старому было не войти из-за гостей, ожидавших очереди у ворот. Теперь на скамейках возле забора сидели пять старух в черном и три старика в серых картузах и коричневых костюмах в темную полоску по моде ранних шестидесятых. Больше не было никого. Очереты не заметили смерти Максима Багилы, а обзванивать и собирать его киевских знакомых Татьяна не захотела.
Брата она узнала не сразу. Увидев в дверях темный с синим отливом югославский плащ, черные немецкие лакированные ботинки и фетровую шляпу, Татьяна решила, что приехал один из милицейских генералов. Впрочем, она тут же разглядела хоть и заплывший уже нежным жиром, но все еще вытянутый, утяжеленный к подбородку овал лица и хищный фамильный нос. Семен обнял сестру и еще раз прижал к себе Ивана. Потом неловко положил на стол запечатанную банковскую упаковку двадцатипятирублевых купюр. После обескураживающих блужданий по Очеретам дома он тоже чувствовал себя неуверенно. Татьяна поблагодарила и равнодушно убрала пачку в стол – деньги у семьи были.
Ждали отца Мыколу. Батюшка оставался последним живым ровесником Максима Багилы в Очеретах. Другой священник, может, и засомневался бы, не нарушит ли он какую-нибудь важную ведомственную инструкцию, отпевая старого, но отец Мыкола об этих глупостях не думал. Он знал Максима всю жизнь, не раз сидел с ним за чаркой, помнил его родителей и бабку Катерину, от которой Максиму перешел талант. Может, в других селах своих старых не отпевают, но в Очеретах всегда жили без этих дурных предрассудков.
Семен Багила десять минут помолчал у гроба отца, попытался собраться с мыслями, но в голове лишь гулко звенела пустота. Ничего кроме усталости после трех перелетов и непредвиденной схватки за билет во Внуково он не испытывал. Билет в счет квоты «Тюменгазпрома» заказали вовремя, но в аэропорту кто-то, видно, решил на нем заработать, да, наверное, и не только на нем. Пришлось доходчиво объяснять, что директор газоперерабатывающего завода им не мальчик и из-за чьей-то жадности в очереди толкаться не станет.
Семен вышел во двор, нашел за поветкой лавочку и устроился на ней в тишине и одиночестве. Он провел в дороге две ночи, все это время не спал и теперь, расслабившись лишь на минуту, накрепко вмерз в сон, как в ледяную глыбу. В общей суете его отсутствия не заметили, и он спокойно проспал все, ради чего приехал: и отпевание Максима Багилы, и похороны.
Во сне, который увидел сын старого на любимой скамейке его отца, не было ничего загадочного и ничего пророческого. Семену Багиле приснился пожар в компрессорном цехе, который случился неделю назад, за несколько дней до того, как пришла телеграмма о смерти отца. Пожар потушили быстро и, к счастью, никто не погиб, но производство пришлось остановить на три дня. Три дня не умолкали телефоны в его кабинете, и начальство самых разных уровней, от краевого до московского, орало на него из всех телефонных трубок. Завод срывал план объединения и отрасли, портил показатели города, края и республики. Семен представить не мог, что бы он делал, если бы телеграмма пришла дня на два раньше, потому что уехать, оставив неработающий завод, никто бы ему не позволил.
Когда он улетал в Ханты-Мансийск, производство уже было запущено, телефоны на его столе звонили не чаще обычного, но он знал, что на совещание в министерстве вынесен его вопрос, и ему здорово повезет, если обойдется одним лишь выговором. Совещание назначили на конец сентября. Пришло время запасаться валидолом.
Отпустило Семена Багилу только после второй рюмки. Мысли о пожаре и о том, как будут драть его в министерстве, тихо ушли, зато он вдруг почувствовал вкус вареной картошки, жареной курицы, приготовленной Татьяной для поминального стола, и знакомый с каких-то еще полудетских лет аромат нечеловечески крепкого пшеничного самогона.
«Мне раньше надо было накатить, – подумал Семен, – сразу же, как только приземлились». Эта мысль приходила ему и прежде, но появляться выпившим перед похоронами он не захотел. Нет уж, лучше все делать вовремя.
Собравшихся за столом Семен Багила не помнил. За сорок пять лет ему случалось сидеть за разными столами с очень непохожими людьми. Он пил с бывшими зеками и вохрой – отставной и действующей, с геологами, геодезистами, учеными и артистами, с бичами, солдатами-срочниками, уголовниками во всесоюзном розыске, министрами и членами ЦК, моряками и работягами, но никогда он не чувствовал себя так неловко и глупо, как этим вечером. Его здесь помнили, с ним здоровались, на него смотрели, узнавая. Он отвечал, он тоже что-то говорил, хотя никого из этих людей Семен не помнил и вспомнить не мог. Между тем, всем наливали и снова пили. Самогон мягко растворял реальность и постепенно за морщинами, за шрамами и отечными мешками под глазами его соседей понемногу проступали черты людей, знакомых ему с детства. Но для Багилы это не значило уже ничего.
3
Семен Багила всегда поднимался рано, сколько бы ни было выпито накануне. От давешнего вечера в памяти остался обрывок непонятного разговора с очеретянским батюшкой. Отец Мыкола спросил Семена, где он работает.
– На газоперерабатывающем заводе, батюшка. Производственное объединение «Газтрубал».
– Это как-то связано с Карфагеном? – удивился отец Мыкола.
Да, когда-то он знал их, жил с ними рядом, но что это меняет? С тех пор прошла целая жизнь, мир стал другим, и другим стал Семен Багила. Он никогда уже не будет здесь своим и не почувствует Очереты своими. Это только кажется, что всегда можно вернуться, – на самом деле дорог, идущих назад, не существует. Все они ведут не туда.
– Идем, – сказал Семен сыну. – Покажешь мне Очереты. А то я будто впервые сюда приехал, ничего не узнаю.
По правде, Очереты его не интересовали – он хотел поговорить с Иваном. Семен здесь был в гостях, Иван – дома, но, глядя со стороны, можно было решить, что все обстоит ровно наоборот.
– Куркули, – по-хозяйски оглядел село Семен. – Отстроились, отгородились от всего мира. Тебе здесь не тесно?
– В Очеретах? – не понял Иван.
– В Очеретах. В Киеве. На Украине.
– Нет как будто…
– Это пока. Но очень скоро ты начнешь задыхаться. Здесь уже все разгородили и застолбили до нас, понимаешь? Все командные высоты заняты и должности поделены. Сейчас ты этого не чувствуешь, но когда окончишь институт и начнешь работать, то сразу поймешь, о чем я. Страной правит поколение победителей. Они до сих пор мыслят сводками Совинформбюро. Им пора на пенсию, на покой, их время кончилось десять лет назад. Их взгляды устарели, но они не сдаются и не сдадутся никогда. Не те это люди, чтобы уйти добровольно. А нам что же делать? Поднимать мятеж? Бунт на корабле? Или терпеливо ждать, когда они уйдут? Только ведь за ними не твоя очередь придет – за ними уже двадцать лет топчутся те, кому сейчас полтинник, да и за этими тоже занято. Куда бы ты ни пошел, тебя там не ждут, парень. Если ты останешься здесь, то будешь бегать молодым человеком до седых волос, это я тебе твердо могу обещать. Устраивает тебя такой вариант? Если да, то наш разговор закончен, и дальше мы мирно гуляем, разглядывая местные достопримечательности.
– А если нет?
– То тебе нужно отсюда мотать, и поскорее. Есть места, где не ждут полжизни, когда появится шанс что-то сделать и реализовать себя, а просто делают. Север – это наша Америка, страна сказочных возможностей. Пятнадцать лет назад я был бульдозеристом, теперь – директор завода. Если бы начал раньше, то за это время поднялся бы еще выше. Но и сейчас у меня перспективы неплохие: из Уренгоя Москва видна отлично, такие кабинеты просматриваются, что дух захватывает. Вот только сидит в них поколение победителей и перекрывает нам кислород. Ладно, это частности. Я тебе коротко скажу: сворачивай все свои дела и переезжай ко мне. Закончишь институт по профилю и впишешься в систему как свой. Это настоящая мужская работа, ты видишь результаты своего труда и получаешь за него настоящие деньги. Север за месяц осваивает больше средств, чем вся Украина за год. Отсюда и масштабы, и возможности. Понятно я объяснил?
– Понятно, – ответил Иван. – Но старый был бы против, ты же знаешь.
– Старый был умный. Он иногда между делом говорил вещи, до которых я годами потом доходил. Сначала я ругался с ним страшно, спорил, а потом понимал, что все именно так, как он сказал. Да и не дожил бы он до наших дней, просто не выжил бы, если бы был дураком. Но насчет Севера дед ошибался. У него был свой опыт, и по нему он судил мою жизнь, а этого делать нельзя. Поэтому отвечу я тебе так: да, он был бы против. И опять ошибся бы. Это все, что тебя останавливает?
– Меня могут забрать в армию.
– Это здесь тебя могут забрать. А там я решаю все вопросы – с армией, с милицией, с Господом Богом. Сейчас пойти в армию – значит просто вычеркнуть два года. Нет в этом ни смысла никакого, ни пользы. Ладно, – закончил разговор Семен, – дальше думай сам. Жизнь большая, и успеть можно многое, если заниматься делом, а не ждать, когда тебе разрешат к нему подступиться.
Они вышли к воде, и Семен Багила замолчал, разглядывая с детства знакомые очертания правого берега. За пятнадцать лет Очереты изменились, их уже не узнать, но холмы за Днепром остались такими же, какими он их помнил. Золотым и красным сияли клены над рекой, отражавшей ярко-синее осеннее небо.
– А это что за железяка? – спросил сына Семен, указав на высокую арку, холодно отсвечивавшую нержавеющей сталью. – При мне ее не было.
– Памятник дружбе народов. Построили в позапрошлом году.
– Загадочная штука. Я думал, памятники ставят тем, кто уже умер, чтобы о них не забывали. Если дружба есть, то зачем ставить ей памятник? А если ее нет, то тем более, прости мне эту банальность, – дружбе памятники не нужны.
На следующий день Семен Багила улетел в Москву. Когда в иллюминаторе ТУ-134, стремительно уходившего за облака, промелькнули северные окраины Киева, он уже знал, что никогда не вернется в Очереты. Ему здесь больше нечего делать.
4
На девятый день после смерти старого Иван Багила получил повестку – Падовец вызвал его на допрос. Тот самый смешной Падовец, которого как-то, еще в начале лета, выставил из своей поветки старый, а потом во дворе Рябко чуть не хватанул за дряблую ляжку. Иван отлично помнил капитана, не мог только понять, зачем теперь, четыре месяца спустя, вдруг ему понадобился. Не понял этого и Бубен, когда Падовец доложил, что отправил повестку младшему Багиле.
– Так ведь ситуация изменилась, – объяснил капитан. – Старый Багила сыграл в ящик, и теперь никто не помешает поработать с его внуком.
– Ты главное в деле об убийстве Коломийца больше ничего не меняй, – велел Бубен. – Убийца найден, признан невменяемым и помещен в спецбольницу. Мы свою работу выполнили. Все!
– Я о другом думаю, товарищ полковник: исчез Алабама, он почуял что-то и сбежал. Кто знает, как повернется ситуация в парке через полгода, через год? Нам может понадобиться пешка на роль поставщика фарцы. А этот Багила уже немного замазан: есть показания против него по делу об убийстве Коломийца – раз, есть связь с цеховиком Бородавкой – два. По отдельности это вроде бы мелочи, но какая-то картина все же вырисовывается.
– Хорошо, поработай с ним, поиграй, – разрешил Бубен и подумал, что Падовец, пожалуй, крутит и настоящую причину, по которой хочет прижать Багилу, но не называет. Может, студент когда-то наступил капитану на мозоль, и теперь тот решил насыпать пацану соли на хвост?
Бубен был прав примерно на треть. Падовец действительно не забыл, как старый сперва сорвал ему допрос Ивана, а потом выставил со двора. Но дело было не только в этом. Капитан любил порядок и жил по системе. Он потратил на Багилу время и силы, он опрашивал свидетелей, бегал по парку, собирал показания, и ему жаль было работы, проделанной впустую. Если показания есть, то человек, уважающий порядок и систему, всегда найдет им применение и, начав с кем-то работать, не бросит дело, а доведет до конца.
Прежде чем разрешить Ивану войти, Падовец продержал его в коридоре сорок минут. В это время он говорил по телефону, пил чай с конфетами и размышлял, не мелко ли он мстит Багилевнуку за дурной характер Багилы-деда, маринуя его в коридоре. Допив чай, решил, что не мелко – в самый раз.
– Входите, – протрубил он, убрав конфеты и чашку в ящик стола. – Багила! Где вас носит?!
Иван не узнал следователя. В небольшом захламленном кабинете капитан сидел у окна недобрым буддой, спокойным и сосредоточенным, таким же деревянным, как его стол. Он листал документы, не смотрел на Ивана, аккуратно скрывал все колющие и режущие мысли.
Неужели это он семенил по их двору в Очеретах, прижимая к животу портфель, а когда Рябко отчаянно рвал цепь в надежде впиться в его роскошные окорока, нежно трепетал всеми полутора центнерами живого, но такого ли полезного веса? То был какой-то другой Падовец, и этот ничем не похож на того – он отобрал у Ивана пропуск, кивнул на расшатанный стул напротив, а потом, не объясняя ничего, начал быстро задавать вопросы, требуя таких же быстрых и коротких ответов.
Как вы осуществляли доставку в парк неучтенной продукции ПО «Химволокно»?
Кому вы передавали товар? Кто, кроме вас и Пеликана, входил в преступную группу?
Кто занимался сбытом? Имена. Фамилии. Клички.
Иван растерялся. В вопросах Падовца сквозило безумие. Отвечать на них всерьез было невозможно. Не отвечать он не мог, потому что молчание предательски означало согласие. Его испуганные никто, никак, не знаю выглядели неубедительно и даже не пытались противостоять напору Падовца.
Как вы осуществляли оплату? Кто передавал деньги? Кому передавали? Бородавке лично?
Градус абсурда зашкаливал. Капитан словно раскручивал Ивана, вращая его на месте, потом валил с ног, сталкивал в болото. Иван пытался зацепиться за что-то, но ничего не получалось, он не знал, как себя вести и что говорить.
Какая часть расчетов шла в иностранной валюте?
Для чего вы брали чеки Внешпосылторга?
Вы говорили Бородавке о пятнах коммунизма. Что вы имели в виду и как вы их использовали?
Беглое, ничего не говорящее упоминание об этих пятнах Падовец нашел в протоколах допроса Бородавки и не понял, о чем речь. В протоколах вообще было мало интересного для Падовца, и его скучающий взгляд зацепился только за пятна. Багилу он спросил о них из простого любопытства. Должны же эти вымороченные допросы принести хоть что-то новое. Но когда прозвучал вопрос, Иван почувствовал, что у него вдруг появилась возможность разорвать дурной круг безумия, в который загнал его следователь.
– Пятна коммунизма – это явление, отмеченное исследователями бриофитов. Его изучают уже несколько лет, но объяснения пока не нашли.
– Бриофиты? – не понял Падовец.
– Это мховые. Мхи. Мелкие растения, длина которых…
– Я знаю, что такое мох, – хмуро перебил Ивана капитан. – Коммунизм тут при чем?
– Ну как же? Мхи – настоящие пионеры в рискованном деле заселения необжитых пространств. У мхов нет корней, но они накапливают воду, как губки… Нет, как верблюды. Мхи обитают на всех континентах, включая Антарктиду, и романтические полярники называют их верблюдами Антарктиды.
Изучая свойства бриофитов, важно не спутать мхи с лишайниками. Основное отличие одних от других состоит именно в способности создавать пятна коммунизма. Лишайники, даже так называемый олений мох – ягель, ни к чему подобному не склонны. Истинный мох ветвист и пушист, а ягель – кожист. Поэтому – только мхи! Моховые пятна коммунизма могут появляться где угодно: на валунах и скалах, на болотах, пустошах и пустырях, на стенах зданий. Представьте, стоял себе веками какой-нибудь буржуазный парламент – каменюка-каменюкой, и вдруг на северной или на западной – обязательно на теневой – его стене появилось живописное зеленое пятно, напоминающее… Нет, сперва оно ничего не напоминает, но со временем одни замечают, что очертания пятна похожи на профиль Мао, а другие видят сходство с бородой Маркса. Борода Маркса на буржуазном парламенте – это еще не пятно коммунизма, это только его зеленый призрак. Тут дело не в форме. Пятно коммунизма может быть похоже на кролика, да хотя бы на того же верблюда. Главное, что оно существует по законам коммунизма: колонии мха не признают социальных классов и государства, но всегда готовы оказать содействие пролетариату. Кабы не клин да не мох, кто бы плотнику помог? Мох, образующий пятна коммунизма, не съедобен ни при каких обстоятельствах.
– Это все?
– К сожалению, да. Рано или поздно приходит какой-нибудь дядя Вася из ЖЭКа, садовник, маляр или группа муниципальных служащих и сдирает пятно коммунизма со стены парламента. Ржавым скребком или щеткой. Потом они долго моют серую стену раствором щелочи, чтобы больше никаких пятен. Ни здесь, нигде и никогда. Но со временем пятно коммунизма непременно появляется где-нибудь еще.
– Вот что, Багила, – Падовец протянул Ивану два заполненных бланка. – На сегодня хватит. Придете через три дня; время и дата следующего допроса указаны в повестке. Хочу предупредить сразу, что ваши попытки закосить под больного у меня не пройдут. Если будете и дальше тут сказки выдумывать, то мы вам быстро психиатрическую экспертизу организуем. Второй старый здесь никому не нужен, надеюсь, это понятно?
5
Боря Торпеда не любил киевскую осень, она развивала в нем меланхолию. Даже зимой, когда в его квартире насквозь промерзала торцовая стена – дом построили по какой-то чертовой экспериментальной технологии, – ему не было так тоскливо. Холод заставлял двигаться, больше работать, не давал отвлекаться. А осенью Торпеду тянуло домой, в Киргизию, и готовность заниматься делами словно растворялась в прозрачном стынущем воздухе.
После исчезновения Алабамы вся работа легла на него. Надо было налаживать новые схемы поставок и расчетов, но вместо этого Торпеда сидел за столиком «Конвалии», пил водку, запивал ее чаем, ел в одиночестве манты, приготовленные поваром Мишей по рецепту Алабамы, и думал, что донашивает за беглым казахстанским немцем парк как демисезонный плащ.
Так почему-то вышло, что все важное в жизни Торпеда подобрал за другими. Даже Беловодское, где он родился тридцать восемь лет назад, пыльное и неустроенное, с кучами мусора на обочинах дорог, досталось его родителям от киргизов и русских.
Из родного Инкермана их семью вместе с болгарами, армянами и понтийскими греками выселили летом сорок четвертого. В детстве Боря говорил приятелям, что во время войны его отец служил командиром торпедного катера. Отстаивать эту версию было непросто, все знали, что его старик работал на железной дороге, обходчиком Сукулукской дистанции пути, но Борино упрямство оценили, и он на всю жизнь стал Торпедой.
А может, дело было совсем не в осени. Если в тихом одиночестве жевать манты, пить большими пиалами чай и маленькими рюмками водку, смотреть, как ветер гонит листья каштанов по центральной аллее, то постепенно приходит понимание, что в парке что-то не так. Что-то пошло не туда после исчезновения Алабамы, изменилось угрожающе и необъяснимо.
Торпеде не с кем было посоветоваться, а разобраться в происходящем или в своих подозрениях в одиночку ему никак не удавалось. Конечно, он мог наплевать на все, надеть гусеницы и пройтись по парку бульдозером, вогнав в землю сомнения и предчувствия, но кто знает, чем они потом прорастут? Вот с тем же Вилькой – зачем он подрезал усатого? Тогда ведь это вышло по запарке. Если бы он хоть пару секунд успел подумать, то все повернул бы иначе. На этот раз он не станет спешить, но ему нужен намек, легкая наводка, чтобы он смог надавить на правильную педаль.
В ответ на меланхоличные сомнения чуткий космос прислал Торпеде Дулю. Тихий пьяница вывалился из-за угла «Конвалии» и очень удивился, обнаружив за единственным столиком Торпеду, поедающего манты. В обычной жизни Дуля опасался грека, а Торпеда едва замечал его среди обитателей парка. Но в этот день совпало так, что одному был нужен свежий собеседник, а другому какой угодно собутыльник, поэтому всего несколько минут спустя за единственным столиком паркового кафе они уже сидели вдвоем.
– Всегда догадывался, что мир с вершины власти не выглядит особенным, – сообщил Дуля Торпеде, когда Миша принес ему манты и налил водки. – Те же мамаши с колясками, тот же листопад.
– Мой столик – это вершина власти? – догадался Торпеда.
– Одна из них. Не Кремль, конечно, но тоже в своем роде. Пока, во всяком случае…
– Пока что?
– Пока его на зимнее хранение не убрали. Внутри ведь никакого вида нет – ни мамаш, ни листопада. Тараканы одни, и еще Миша – автомат, клепающий манты.
– Миша – свой парень.
– Алабама тоже был своим парнем. И где он теперь?
– А где он теперь? – заинтересовался Торпеда и налил Дуле водки.
– Свалил, – загадочно улыбнулся Дуля. – Главное, что сам свалил, а то мы сперва решили, что Алабама свое отработал, и его свалили.
– Значит, у Алабамы все хорошо?
– У тех, кто умеет вовремя соскочить, всегда все хорошо. Только это очень редкое свойство, оно требует силы воли и умения считать. Вот представь, как ему было взять и все бросить? Ему ведь не тридцать, уже и не пятьдесят. Но он почуял опасность – и р-раз… А ты сидишь за столиком Алабамы и задаешь мне неправильные вопросы. Ты спрашиваешь, куда он свалил. Да какая разница, куда? Главное – почему? Почему Алабама бросил парк, бросил все и как привидение растворился в лунном свете.
– О привидениях потом как-нибудь, – перебил Торпеда стремительно напивающегося Дулю. – Что ты говорил? Почему исчез Алабама?
– А я не говорил. Я не знаю. Мне не удается установить причинно-следственную связь, а ведь она важна. Проблема восходит к Аристотелю. Позже ее почтили вниманием Плутарх и Макробий. Куда уж мне со своим немытым рылом?..
– Стой, Дуля, – Торпеда отнял у старика рюмку с недопитой водкой. – Забудь про Аристотеля. Давай про Алабаму. Почему он свалил из парка и из города?
– Но я же о том и говорю, – обиделся Дуля, – что не могу понять: то ли Алабама исчез потому, что в парке появились ребята из конторы, то ли они появились потому, что здесь не стало Алабамы.
– Из какой конторы? – спросил Торпеда, но тут же понял, из какой.