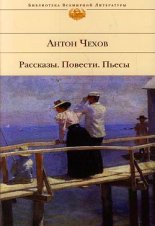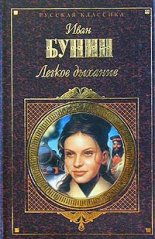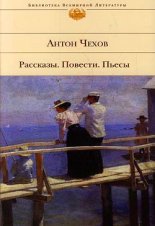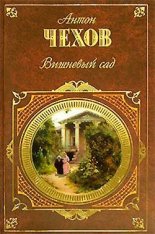Голова самца богомола Киргетова Лия
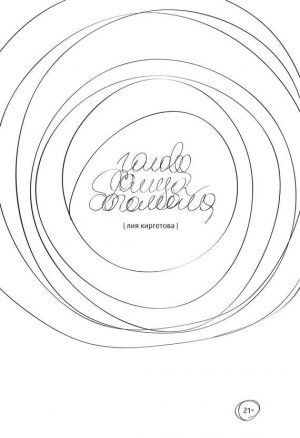
19:45
Сознание возвращалось пузырями. Небольшие вязкие шары выплывали из мутного пространства, тонкая белая плёнка лопалась, выплёскивая нечёткие изображения. Потолок, чёрный стеллаж с голыми полками.
Следующий пузырь. Рот и подбородок. Очередной шар принёс мне голос и в комплекте к нему дикую боль в затылке.
– Ээ!
Я попробовал пошевелить головой, но не получилось. Реальность неуверенно возвращалась. Что-то впивалось в кадык, мешая сглотнуть слюну.
– Ээ, – снова сказал я.
– Очнулся, – произнёс женский голос.
Лицо приблизилось. Стало чётким. Бледное, как на фотографиях начала прошлого века, с тёмными кругами глаз, мутно отпечатанными на высвеченном фоне. Знакомое, очень знакомое лицо.
– Что такое? – почему-то шёпотом получилось. Прокашлялся, попытался осмотреться. Я привязан. К офисному креслу, судя по всему. Шея. Руки. Да, и ноги тоже.
– Что это? – спросил я у знакомого лица. – Что происходит? Это ты? Ты сделала?
– Да.
– А зачем?
– А чтобы ты.., – вдохнула шумно, наклонилась совсем близко, глаза в глаза. – Чтобы поговорить. А потом ты умрёшь. Я тебя убью, – выдохнула без интонации.
– Эй-эй, – пробормотал я. – Ты свихнулась? Развяжи меня, чёрт! Больно же!
Подёргался, кресло зашаталось, но привязан намертво, вот же. Затылок гудит, видимо, двинула чем-то тяжёлым. Так и насмерть можно угомонить. Во рту железо и пыль. Перед глазами какая-то паутинная муть пляшет, мешая как следует разглядеть, где я.
А эта тварь стоит напротив. Отступила на пару шагов, рассматривая говорящую инсталляцию. Из меня созданную.
– Ну, хватит, детка, – решил я сменить тактику. – Пошутила и довольно. Мне реально больно. Развязывай давай! Я тебе обещаю, что не отшлёпаю за плохое поведение.
Я было даже начал улыбаться, но в этот момент она шумно выдохнула, дёрнулась к столу и внезапно с разворота двинула мне в челюсть мраморной пепельницей. Во рту немедленно образовалась свалка камней и много жидкости. Я заорал, выплюнул несколько зубов себе на грудь, увидел их и снова заорал. В жизни так не вопил.
Она замерла и выронила пепельницу. Я заплясал вместе с креслом, пытаясь встать на ноги, освободиться, но упал на бок спелёнутой мумией. Умная, сволочь. Прикрутила так, что на ноги не встать. Пришлось ей меня поднимать, пока я рычал и матерился.
Вспомнился некстати Джеймс Бонд, привязанный к стулу. И ещё несколько супергероев, фантастическим образом умевших моментально избавляться от таких пустяков, как верёвки, скотч и провода. Мозг, видимо, попытался дёрнуться в сторону «это мне снится». Бонд был привязан голым. Я нет, слава богу. И я не Бонд. И я не сплю. Очень больно. Везде очень больно! Коза! За что?!
На пару секунд я потерял её из виду. Быстро нашёл. Вместе с полиэтиленовым пакетом, который она надела мне на голову.
– Заткнись, – сказала она в моё правое ухо. – Иначе мы даже не поболтаем напоследок.
Я замолчал, вдыхая шуршащий колпак-намордник.
– Скажи, чего ты от меня хочешь? – спросил говорящий оранжевый пакет.
– Ничего, – ответила она. – Я от тебя не хочу ничего.
Пакет задумался.
02:14
Влюбленность в женщину – алхимия в дымящейся колбе; тонкое понимание, прямое знание, аксиома без деревянного рацио: она может дать тебе счастье и – в колбе пузырятся сине-зелёные неоновые искры, сухой треск, запах жасмина, миндаля, детства, чувство паники в затягивающей воронке, – не позволить это счастье.
Так начинается.
Потом приходят формы и содержания, авоськи, шуруповёрты, протухший зелёный горошек в косо открытой банке и прямые векторы желаний. Да – нет. Хочу – не хочу. Надо – не надо. Двоичная система. Вкл-выкл. Никакой алхимии.
– Я хочу тебя. Иди ко мне.
Притягиваю к себе, обнимаю, сжимая по-настоящему сильно, до стона, целую, проникая языком как можно глубже, начиная трахать её языком.
Я хочу.
Она пытается отстраниться, но я рывком прижимаю тонкие руки к постели, захватываю намертво одной левой оба запястья над её головой, она снова стонет, отворачивает лицо, ей не нравится – так, ей немного больно, возвращаю себе её губы – двумя пальцами за подбородок, коленом резко раздвигаю бедра, ложусь сверху, вдавливая, вжимая её сильнее, сильнее.
Стонет. Кровать скрипнула.
Реальность тела, телесности, физиологии довольно часто – не самая приятная штука, если в неё погружаться. Многое не видеть бы, не ощущать, даже не знать. Избирательно воспринимать. Заменяя фантазией некрасивое.
Это тело – приятная реальность, редкий случай, когда не хочется ничего прикрыть, вычесть, изменить оттенок, запах или линию.
Её тело иногда чуть ли не единственная реальность, случившаяся со мной за весь день: туман, гул, лица, голоса, автомобили, деньги, планы, задачи – к ночи не остаётся ничего, единая мутная безвкусная масса неудовлетворённости. И единственный прорыв в ощущение себя стопроцентно живым – секс с телом, которое нравится. Не только с телом, конечно.
Стягиваю лямку тонкой ночной сорочки с плеча, чтобы увидеть грудь, захватить зубами сосок, укусить его и ощутить, как возбуждение резко прокатывается по телу и начинает пульсировать не только в паху, но и в висках.
– Открой глаза. Я хочу, чтобы ты смотрела на меня. Не закрывай! Не шевелись! Ты не знаешь, как я войду в тебя сейчас. Замираешь каждый раз в эту секунду. Я могу сделать это нежно. Хочешь? Смотри на меня! А я хочу – вот так! Да! Я хочу слышать, как ты стонешь. И ещё! На! Получи! И ещё!
Порвать её, лишив защиты, оболочки. Заставить замолчать раз и навсегда, выбить из её головы всё то, чем она достаёт меня.
– Куда-а? Смотри на меня! Хочу быть в тебе всю ночь. Я хочу брать тебя. Проникать в тебя. Вот так! Я хочу, чтобы ты кричала. Вот та-ак. Ещё? На!
Смотри на меня! Хочу, чтобы ты видела всё, что я делаю с тобой. Мы звери. Я зверь. Ты зверёк. Мой ручной зверёк, хочешь меня? Да? Скажи!
Ты – моя. Скажи: да! Говори! Хорошо-о. Ещё! Какая ты влажная. Ты хочешь меня. Моя хорошая, моя послушная девочка. Не закрывай глаза.
Иногда мне хочется войти в неё по-хамски резко. Терпеть не могу прелюдии, мне больше нравится, когда сопротивляется, когда она не готова к сексу, когда спит – разбудить.
Прочувствовать каждую секунду моей удивительной, победительной власти; видеть, как женщина в моих руках становится послушной, как превращается в горячую покорную самку из снежной королевы, как отвечает на каждое прикосновение, вздрагивает, стонет, запрокидывает голову, вцепляется в мои плечи, царапает спину, кусает меня, целует.
Я впитываю глазами каждую линию: шея, ключицы, плечи, грудь, омаммамиа! Живот, талия, бёдра – бездна женственности, хочется поглотить, съесть, именно съесть. Мягкое, нежное, почти безвольное тело, податливое, принадлежащее мне тотально, каждой клеточкой.
Люблю, когда кричит и стонет – от боли и удовольствия. Когда внезапно расслабляется и отдаётся, открывается, сдаётся.
Нравится держать за волосы или зажимать рот ладонью, я представляю, как насилую её, почти и насилую; в этот момент она уже не только она, а просто – женское тело, любое красивое женское тело, каждое женское тело, все женщины мира, с которыми я могу делать всё что угодно. Мять, гнуть, ломать, смотреть, как выгибается, подаётся навстречу, как реагирует на любое движение внутри, на каждое касание.
Слышать, как кричит. Обязательно слышать. И сделать так, чтобы кричала.
Делать всё, что хочу.
Люблю её взгляд – замутнённый, уплывающий; видеть в нём страх, злость; причинив боль, вызвать у неё умоляющий взгляд жертвы, а затем, немного позже, влюблённый взгляд, обожающий, готовый на всё, отдающийся до микрона.
Люблю, когда она подходит к оргазму, раскачиваясь на невидимых качелях удовольствия, прижимая меня к себе, – будто боится, что я остановлюсь. Просит, стонет и просит, требует меня каждой молекулой тела. Бёдра дрожат от напряжения, соски стоят так, что, кажется, о них можно уколоться.
Она взрывается, кричит, не сдерживаясь, дрожит в моих руках.
Внутри неё всё сжимается и пульсирует горячо и нежно. Я тоже кончаю, догоняя, остаюсь в ней.
Выдыхает, возвращаясь в реальность. И прижимается губами к плечу, гладит мои мокрые волосы, мурлычет, улыбается.
Чувствую себя богом. Люблю этот момент и её в этот момент люблю. Знаю свою власть. Люблю эту власть. И убил бы просто, если бы кто-то был с ней так же. Моё!
6:50
За долю секунды до ненавязчивого пиликанья будильника я выпадал из поезда, из обшарпанного древнего тамбура в какие-то сухие ёлки без хвои, думал: сейчас, сейчас.
Ловил последнее ощущение: пальцы отпускают шершавые ручки по обе стороны распахнутой пасти дверного проёма без металлической двери. И яйца мои были такими же металлическими, как вагон, холодной хваткой цапали тело, вжимаясь в него от ужаса; и я летел, в горле крутилась воронка последнего глотка воздуха, я падал: моя вселенная, моя весёлая свобода, моя глубокая фиолетовая звёздная вагина-мама, я тут, я с тобой, не плачь, теперь всё будет тип-топ.
И зубы когда чистил, после первой сигареты, ощущал абсолютно явно и пыль, и металл во рту, и чувствовал отрешённую светлую радость прилетевшего в то самое Прибежище.
Не толкую сны.
Затем завтрак начался даже весело. Осознание собственной кратковременности, нахлобучившее с утра, превращалось в бодрую спираль энергии в солнечном сплетении.
Есть жизнь большой ложкой, ну, или вилкой! – думал, на вилку с жареным желтком глядя.
Кофе со сливками сделал. Раньше на переговорах, да и в гостях, – везде, пил только чёрный, стеснялся почему-то сливок и молока, недостаточно мужественно, конечно.
Затем плюнул, – пью, как мне нравится: сладкий и белый, улыбаясь невидимо, когда другие мачо расслабляются вслед за мной и как бы снисходительно бросают секретарше: «Плесните и мне молока, пожалуйста, пятая чашка за утро, от чёрного уже тошно».
Я им как бы разрешаю быть собой. Признавая сливки в кофе, чувствую себя свободным от чужого мнения. В пределах чашки. Че сливок. Гевара трёх ложек сахара.
Всего две роли в жизни кажутся мне крутыми: роль главного героя, на которую я не тяну, точнее, тяну, но пока не повезло, и роль мудрого (циничного, ироничного, всепонимающего, всепринимающего, или, наоборот, радикального и жестокого) наблюдателя.
Вторая роль, не исключаю, – не что иное как компромисс лузера перед лицом очевидного поражения.
В туалет сходил с этой мыслью. Смыл её. В слив ушла мысль-лузер.
Нет, я – главный герой. Есть ещё время, есть оно, есть, не кисни, где твоя тачка, чувак, но пасаран, вива революсьон, вива, Кальман!
Звук воды в сливном бачке за кадром.
Посидел, наслаждаясь тишиной, на кухне, просматривая новостную ленту в айпэде, и заоконное зимнее пространство Великого Серого не подавляло.
Вход в него в обычной реальности создаётся в сумерках: в утренних – невыносимей; вечерние, наоборот, спасают.
Серый устраняет горизонт, небо, землю, мир сливается в единую вязкую, холодную, непрозрачную массу, издающую особый звук тишины, отлично слышимый за городом; а здесь, в центре Москвы, спрятанный в шуме. В белом шуме, – зима.
И то, что в детстве воспринималось как должное, – таких утр и вечеров могло быть пятьдесят-семьдесят в году, – теперь, почему-то, кажется противоестественным.
Особенно мерзок этот адский момент в офисе, часов в десять-одиннадцать, когда свет гасишь, и Серый завоёвывает дома изнутри, объявляет начало кислого вальса унылых медуз на весь день, короткий и удушающий.
Говорят, нельзя сидеть на камнях. Высасывают, мол. Но с тем, что творит со мной обычное зимнее пасмурное утро, никакие другие природные вампиры не сравнятся. Такое утро будит во мне мелких бесов, крупных – бужу я сам.
Контрастный душ и десять минут разминки с гантелями спасают. И кофе, как восклицательный знак. Пришло острое утреннее ощущение азартной эрекции на жизнь.
7:40
Так не могло продолжаться долго: Агния выбрела из спальни, вначале вполне бодро помахала рукой, мол, привет, земляне, но уже минут десять спустя вдохновенно, заводя саму себя, портила мне настроение.
Ей мало внимания, – суть претензии, – а значит, покатилась с горы огромная бочка недовольства, подпрыгивает на ухабах, гремит.
Пусковой механизм «мне недостаточно» скоро сработает, взорвёт её и зацепит меня. Я проходил это.
Нас некому остановить, а останавливаться самим – не в свойстве человеческой натуры. И если одни умники на минном поле поводов для скандала ведут себя как сапёры-профи, то другие (а среди женщин других – большинство) – наоборот.
Ненавижу всё это.
Причина утренней истерики – незавершённость ночной, а причина ночной – несовершенство мироздания, не иначе: я заснул вчера сразу после секса, вырубился в долю секунды.
Многие имеют дурацкую привычку засыпать по ночам, хотеть спать в час-два ночи; особенно те, кто встаёт в семь.
А многие женщины имеют другую привычку: выяснять отношения именно после полуночи. Вампиризм, не иначе. Это – вторая категория людей. Именно в тот момент, когда первая категория, те-кто-хочет-выспаться, начинает зевать, вторая входит в раж.
И я уже готов на всё: признать любую вину, покаяться в грехах всех мужиков, женщин, стариков и детей, и северных оленей, и белых медведей, и шакалов, и сурикатов (хотя какие грехи могут быть у сурикатов)?
Когда вижу-слышу этот их сладко-горький вдох предвкушения, за которым следует выплеск «всего-о-чем-я-хотела-с-тобой-поговорить», выплеск, мешающий в одну кучу «ты так посмотрел», «а каково мне было в позапрошлом ноябре, когда ты…», «и твой Саня – тот ещё урод», и «ты даже не помнишь!», мои пьяные выходки и трезвые замечания, эту рыжую стерву-соседку с третьего этажа, мужа подруги Светы (редкостной кикиморы), который, в отличие от меня… Тогда я зверею.
Но в полвторого ночи я беспомощен. Очень хочу спать. Очень.
И думать о чём-то ещё, кроме мрачной констатации: «пять с половиной часов до будильника», «пять часов на сон, мать твою», «я убью её сейчас, если она не заткнётся, третий час ночи!» – невозможно.
Вчера я выдержал полчаса, затем попросил прощения: любимая, солнце моё, давай спать, утро вечера мудренее, тебе нужно выспаться, бла-бла. В ответ: «А за что именно ты извиняешься? Мне важно знать, что ты меня понял».
Я понял.
Трахнул её зло, но сладко. И отвернулся – баста! И храпел уже минуты через три, так что её возможный план по всхлипыванию и подвыванию с постепенно усиливающейся громкостью за спиной «у этой бездушной эгоистичной скотины» провалился.
Та-дам! Утро! Продолжение банкета. Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой. Завтрак со сверлом в голове. Теперь на плакате демонстрации протеста ядовито-фуксиевым по лимонно-жёлтому: «Вот ты вчера вырубился, а я не спала всю ночь».
– Мог бы и мне сварить кофе.
Первая утренняя фраза моей милой. Мог бы. Но не сварил. Не хотел. Успеть хотел. Свалить. До.
Нет, стоп! Не позволю себе ввязаться в очередной перетык взаимными наездами. Эти дамы, самозабвенно захлёбывающиеся потоком эмоций, – они же могут часами, сутками, годами вещать.
«Эти дамы» – подумал, а ведь какое-то время назад Агния была для меня особенной.
Любопытный момент: когда влюблён, – ищешь, видишь в женщине всё то, что отличает её от остальных. А когда страсть с уважением проходят, – наоборот. Находишь десятки одинаковостей, ставишь прочитанную книгу на полку в ряд. Видишь вдруг на корешке книги логотип растиражированной серии.
Она стала «они все». И то, что хочет от меня не-единственная, становится лишь одним из бессмысленных, навязчивых, нелогичных лозунгов большой демонстрации членов профсоюза неудовлетворённых.
Раньше я пытался понять их конечную цель, но её нет, как бы им ни казалось обратное. Каждая их история – просто история себя-бабы, принцессы, которую «не разглядел очередной козёл».
Козёл разглядел как раз. Но это уже – другая история.
Они чувствуют в мужчине эту всегда слишком раннюю, слишком скорую потерю желания, спад эмоций: было много, стало меньше; но какая же беспросветная глупость – говорить об этом вслух. Требовать. Спрашивать.
Это – самоубийство. Хуже, чем показать весь целлюлит сразу плюс три складки на животе, морщины у глаз и на шее, растяжки, небритые ноги и подмышки, то, что они так старательно прячут и устраняют; это – хуже, как же они не понимают?
Можно подумать, оттого, что я в сотый раз услышу, как изменился в последнее время, насколько всё раньше было не так, и бла-бла-бла, у меня появится интерес, влюблённость или эрекция. Наоборот же!
Тупость – требовать сохранения формы при вытекании содержания, это лишь продалбливает дыры в и без того зыбком, текучем, вечноменяющемся «мы»; много чёрных дыр – и ничего не остаётся внутри, всё вытекает, испаряется, ускальзывает, остаётся тоскаа-а-а-а.
Объясняли бы им с детства, что человек считает значимым чаще всего то, что чувствует он сам. Вся система отношений была бы иной. Миллионы людей тратили бы драгоценные часы и годы не на демонстрацию и описание своих эмоций, а на их проживание и на то, что вызывает, создаёт чувства у небезразличного тебе человека.
Кому это всё надо: я так страдаю, я так вижу, я так мучаюсь, я так уязвима, я так живу, потому что когда-то..? Никому. Не по пятьдесят шестому кругу хотя бы.
Бытовые спектакли о самой себе – это не то, что вдохновляет мужчину продолжать чувствовать желание. Держать внимание на объекте. Они быстро приедаются. Становятся отвратительными занудной повторяемостью и посекундной предсказуемостью. А когда актриса – десятая по счету? А текст мизансцен – один на всех.
Принцесса. Женщина-загадка. Угу. Транслятор трепетного чувства, вещатель душевных тонкостей, сирена взаимопонимания, рупор эмоций, источник шума. Заткнуть – единственное желание. Её или уши.
Агния. Теперь я зову её Агонией про себя. Вторая женщина, которую я любил. Для меня это значит долгое пребывание в уверенности, что без неё мне – кранты. Когда любишь не только глаза, грудь, задницу или то, как она стонет, а ещё подбородок, уши, пальцы на ногах, неровный прикус и негромкий храп.
Но я больше не хочу на ней жениться. У меня, видимо, нарушен кислотно-щелочной баланс: мне то кисло от её гримас до изжоги в желудке, то щёлочь её слов разъедает мозг.
Двадцать секунд – и я уже злой. Я вроде как вынужден делать то, что не хочу. Слушать, говорить, вникать. А зачем? Для чего мне это? Какое, на хрен, право она имеет портить мне настроение?
Тридцать три – это же лучший возраст в жизни. Золотой возраст потребления секса. Ты уже на пике своего мира, ты интересен всем женщинам от пятнадцати до восьмидесяти восьми, ты умеешь стоять, сидеть, улыбаться, смотреть и говорить.
Решать. Соблазнять.
Осознание весёлого победительного момента вседозволенности становится приоритетом. Иногда хочется эмоций, таких же как в восемнадцать, и даже немного жаль, что теперь ты их контролируешь, управляешь ими.
В восемнадцать так искренне переживаешь, не думаешь о будущем, не просчитываешь варианты, но ты ничего не стоишь ещё, не знаешь жизни, любишь в первый раз, комплексуешь. А теперь можно всё.
Ищешь остроту, при вседоступности самого процесса, любишь женщин. Но чаще влюбляешься на четверть сердца, все остальные камеры заполнены пройденным опытом, там погибшие друзья, победившие тебя враги, проблемы со здоровьем, там – двенадцать тысяч прожитых суток, и осталось чуть больше, если повезёт, а таких вот, топовых в плане формы и возможностей, – пара-тройка тысяч.
И быть рабом существующего порядка вещей – не хочется, но бороться с этим порядком – мутное дело. Расслабиться и получить удовольствие внутри системы, ни к чему не относиться всерьёз, или обойти её, ускакав на оранжевом верблюде в свою Внутреннюю Монголию, – дело высоты духа, а дух – как гиря, как долбаные сто тонн тянут вниз меня, вот прямо сейчас, напротив этой женщины, переходящей на ультразвук.
Не держать дух на весу – падает на ногу. Держать на весу всё время – сил не хватает, или отвлекаюсь, забываю просто.
Люблю женщин, да, но такую, чтоб не прибавила свой вес к весу гири моего духа, пока не встречал. Как забег на предсказуемую до идиотизма дистанцию: начинаем вот отсюда, старт по свистку, и финиш за поворотом. Отношения. Вместо чего-то другого, настоящего, живого.
Игра без смысла, пустая, пустая, тупая игра ни во что. В бабскую войнушку. Как в неё не втянуться?
– И молока мне не оставил, разумеется. Ты вообще обо мне думаешь хотя бы иногда?
– Да не ори ты, сейчас схожу тебе за молоком.
– Вот и сходи! И я не ору! Сам не ори! Ты не умеешь любить! – вдогонку в спину бросила.
Вышел в магазин, едва удержался, чтобы не хлопнуть дверью. Я и вправду не думал о ней. И о молоке. Не в первый раз слышу это «не умеешь любить». А спроси этих идиоток, кто, по их мнению, «умеет любить», – называют героев ванильных мелодрам и тех своих приятелей, которым сами же наставили рога, или вообще не дали ни разу.
«Уметь любить» для них – наверное, что-то типа жертвенности. Моей.
Молчать и мычать. Пьеро. Или этакий всепрощающий папочка.
Они с упоением впериваются в свои любимые сериалы вроде «Секса в большом городе», не вникая в то, что если им по телевизору показали архетипичную истерику, цикличные монологи вагины, то это не потому, что такое поведение – норма жизни, а потому, что хорошее знание потребностей целевой аудитории делает этот продукт бестселлером.
Женщинам всего мира телевидение продаёт истерики. Поддерживает тренд.
О чём я думаю? Точно, войнушка бабья. Я на коне в красных шароварах с шашкой наголо. Стыдно. Мелко. Тупею. Кретин я.
Вот мой брат Артём воевал на Первой чеченской. Артиллеристом. Сержант. Наводчик. Вернулся обратно, одинаково равнодушный и к смерти и к жизни, пил до синих чертей месяца три.
Поначалу, после возвращения, очень любил меня, мне тогда четырнадцать было, разница у нас – шесть лет. Учил жить, защищал, да и не лез никто ко мне ни во дворе, ни в школе, с таким братом-то. Я им гордился.
Короткие рассказы, морщась, матерясь и наливая следующую, про Моздок и САУшки, самоходные артиллерийские установки, обстрел Грозного и адский Новый 1995– й год, месиво и хаос.
Короче, Тёма видел и Грозный в январе, и Аргун в марте, и чёрта лысого.
Война для Тёмы – наглухо закрытая тема, вход через люк, то есть через бутылку водки. Мать боялась подходить к нему первые полгода, вроде и родной и чужой, – говорила, – и мой и ничей.
Орал по ночам: Два снаряда, огонь! Работаем по окнам! Есть!
Хотел вернуться обратно, от Второй чеченской его оттащила беременная Наська, жена, затем сын, солнечный мой племяш Ванька, затем понимание того, что хуже проигранной войны может быть только предательски проигранная, сданная на хрен с потрохами война.
– Я не знаю, – говорит, – сколько на мне душ. Чехи – не чехи, не знаю. Может сто, может пятьсот, а может и три десятка всего. Накрывали по кварталам, чтобы пехоте дорогу дать. А кто там в этих домах был? Так что мне выставят счет на том свете. Там и узнаю. Военный билет выдаётся только в одну сторону, Вадька.
Из учебки в Мулино он ещё писал письма, часто и много: «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор, один мулинский солдат заменяет весь стройбат».
Писал про сержантщину, местный вариант дедовщины, приколы разные армейские, школа жизни, все дела.
А потом 81– й мотострелковый дважды краснознамённый попал в окружение в ту самую новогоднюю ночь, Тёме повезло, но Новый год он больше не отмечал ни разу. И писал мало. Матери только. И рассказывал редко. Видимо считал меня совсем зелёным и тупым. Ну да, я – чмо малолетнее, он – герой.
– Вот ты пойми, мы же из учебки все, и мехвод, и я, да чё там – на весь полк четыре «афганца», понимаешь? Чехи-то – матёрые псы, там и наёмники, и оружие, одних гранатомётов – жопой ешь, они нашу разведку из них расстреливали по одиночке – нет, тебе не понять, не экономили они, короче.
Мы на самоходку вешали ящики с кирпичами и землёй, даже на крышу. Броня-то не танковая у нас, ящики эти нам жизнь спасли потом.
Сидит, смотрит в пол, маленький, на полголовы ниже меня, худой, небритый. Сплёвывает. Глаза синие у него, отцовские, мама называла их васильковыми. Мутные васильки какие-то, увядшие.
Мама умерла в мои восемнадцать, от меланомы. Быстро, жутко, вырезали кусками кожу, затем перестали, метастазы во всех органах, боли дикие. Последние два месяца она почти не вставала, лежала и выла, получеловек уже. Отец умер три года назад. У меня его цвет глаз, серый.
Тёме повезло с Наськой, золотая жена. Она больше ухаживала за нашей матерью, чем мы с ним вдвоём.
После похорон матери отец переехал к своей маме, к бабуле. Тихо доживать. Брат с семьёй заселились в родительскую квартиру, так и не сделали ремонт толковый до сих пор. Шифоньер советский в трещинах, чемоданы со старой одеждой в кладовке, масляная краска на стенах в туалете. Живут.
– Полк просто впустили в центр города, одня броня вошла без пехоты, без выстрелов. И встала. Рядами и колоннами. Нас не тормознули нигде, встаньте, дети, встаньте в круг, и начали новогоднюю карусель. Горели как спички. Ни карт, ни плана, ни задач чётких, ни линии огня.
За ночь остались кучки отдельные, выходили по одному. Для большинства это был первый бой, а чё, маршем из Моздока. Там ещё тренировались пару дней в чистом поле, стыдно вспомнить. Противник оказался совсем не условным, Вадька. Блин, такой мистер Малой вместо бойцов: буду пагибать маладым, – сплёвывает, наливает, пьёт, не морщась. – От ужаса мотострелки палили без разбора, и по своим и по чехам, паника, везде трупы, танки горят, БМП горят, «Тунгуски» горят, связи нет, командиров нет, куда бежать – непонятно.
В радиообмене только «Двухсотый, двухсотый, двухсотый, двухсотый. Ялта-56! Курьер-47, мать-перемать, Днепр-44, Гришка! Суханов! Ээх!». Боевики в эфире гуляли, как хотели, БТРы наши уводили в мышеловки.
Санитарные машины разбомбили ещё на входе, с собой кроме промедола и бинтов ничего, разведка вперёд ушла, её расстреляли, кто-то выполз по одному, по двое.
Комполка Ярославцева ранило, командует вроде как Бурлаков. Его ранило – передали Айдарову. И это всё за сутки. Попали, короче. Мы, 131– я, да рохлинцы.
Нам говорят: «Накройте квартал вдоль Богдана Хмельницкого». Мы херачим. Полупрямой наводкой. Дальность по прицелу, направление по вспышкам. Кого мы там накрыли? Толку всё равно никакого, мясорубка. Пушечное мясо из учебки.
Ещё в Моздоке солдат подошёл, спросил, как к автомату магазин присоединить. Ну, вот куда таких было отправлять? – наливает, пьёт, сплёвывает. – Ночью уже сидим в кювете, от боекомплекта возимого шесть зарядов осталось. Жрать хочется, спать тоже. Но жить хочется больше всего, сидим молча. Гильза на лотке, снаряд в стволе, радиостанция на приёме. С Новым годом, дорогие россияне. Такая хрень, – молчит, и по глазам понятно: он это видит . – Первого вырывались как могли. Я сам видел – БТР один вылетел, наш, конечно, но без опознавательных. Так наши же танки его расстреляли в упор со ста метров. Свои своих. В клочья с трёх стволов, – на меня ни разу не взглянул, рассказывает потустороннему Кому-то. – Орудие моё умерло десятого января, а расчёт весь выжил, командира только контузило.
Слушал молча его. Артиллерия – боги войны. Трудно быть богом.
Но всё сложней. Мне было стыдно одно время. За то, что я не воевал, даже не служил. А потом стало всё равно.
Тёма редко звонит. Не принимает помощи. Работает в автосервисе, бухает редко, но метко.
Он мужик, да. Он мой старший брат, да. Ну и что? Нам не о чем говорить, ни о работе, ни о бабах, ни о бабках, ни о мечтах. Поржать не о чем. И мне обидно. Обидно и зло. Я вроде и не виноват ни в чём, а как бы хуже его. Полумужик вроде как. Недомачо.
К войне очень хочется быть причастным, когда она неподалёку, когда своих касается. Вирус войны – безумия, метафизики, одиночества, коллективного разума – волчья тропа от человека к животному. Разрушение личности, девальвация будущего на гражданке.
Меня пугает случайность смерти, очевидная там. Эта случайность отменяет для меня все законы кармы. Ты – мать Тереза, но в тебя летит осколок. Ты – дерьмо, но пуля просвистела мимо.
Брат всегда будет лучше меня одним только этим – причастностью к войне. Единственное, что отличает нас в мою пользу – наглухо вбитое в брата знание, что он не хозяин своей жизни, что главное решает – не он. Во мне этого нет.
Я не знаю, кто ближе к истине.
Мачо – не мачо. Когда захожу в любое помещение: клуб, офис, в любое, автоматически оглядываю людей, не особо осознанно прикидывая, кто из мужиков мог бы надрать мне задницу, и, конечно, кого из женщин я бы трахнул. В идеале – без разговоров.
Знакомишься, сразу видишь её главную потребность, и вроде ничего плохого в этих потребностях нет, но всё так банально лежит в сфере формы, а не содержания, что искренне грустно.
Хочу замуж. Хочу денег. Хочу быть принцессой.
Минута прошла, как познакомились, а сразу чётко ясно, как и куда можно прицелиться, пульнуть, потом отступить и дать себя полюбить. Только и этого уже не хочется.
Кем быть любимым – разница большая.
Так легко говоришь, что думаешь; выражаешь симпатию, честные, искренние эмоции; так же легко отходишь в сторону. Это – убийственная штука для женщин, как подойти и сказать на ушко: я знаю, что ты хочешь в туалет; я знаю, что ты хочешь, чтобы я завалил тебя прямо здесь; я знаю, что ты хочешь услышать: «Малышка, я пришёл в твою жизнь, чтобы сделать тебя счастливой, я буду решать все твои проблемы и никуда не уйду. Никогда».
Я знаю, чего хотят женщины, и это скучно, обламывает с первой минуты. Они хотят генерального директора своей жизни, опекающего, преданного, с вечным стояком, властного и нежного, богатого и щедрого, ручного и независимого, делового и хозяйственного, психоаналитика и хулигана, плохого для всех, но хорошего для единственной. Вещь и господина в одном. Восхищаться и не психовать, что сбежит.
Хозяина, который заслуживает того, чтобы служить ему. Если женщина себя уважает. Если нет, то она бессмысленно служит кому попало. Тащит на себе.
Отсидевший мужик нужен десяткам баб. Отсидевшая баба – никому. Алкоголик пропивает дом, баба будет упрямо нянчиться с ним. Алкоголичка сдохнет под забором в одиночестве.
Рынок. Спрос и предложение, ничего личного. Мужик за полтинник – вполне. Баба – адьос!
Они заложницы системы эм-жо, поэтому нам и мстят.
Живём в плохо завуалированном кастовом обществе с жёсткой социальной моделью.
Сейчас мне доступно многое в этой модели. Жаль, что не всё.
Если помечтать, не ограничивая себя, то этот день я бы провёл так: вначале в хорошей компании полетал бы на МИГе-25 или на «Чёрной Птице» за штурвалом, с виражами и всякими бочками-штопорами.
Потом – уже на мегаскоростном дельтаплане – пронёсся над степями Монголии. Посмотрел бы, как падают несколько небоскрёбов. Нет, много небоскрёбов.
Трахнул бы Анжелину Джоли поставив на колени, сзади бы взял на фоне развалин догорающего мегаполиса. Сзади, с её губами, нелогично, конечно. Ладно, разворачиваем Анжелину.
Пообедал бы неаполитанской пиццей, обжигающе-горячей, только что приготовленной. Винцо хорошее калифорнийское. Фуагра с яблочным пюре или малиновым соусом от какого-нибудь Бокюза.
Снова за штурвал, и досмотрел бы до конца закат над Гранд Каньоном, пролетая в метре от скал.
Офигенный секс – неважно где, но уже не с Джоли, а с маленькой горячей Евой Лонгорией – посадил бы сверху её и поскакали.
И чтобы, засыпая, знать, что завтра утром отправлюсь на сафари в Кению или Зимбабве. С предвкушением приключения засыпать.
Вернулся в реальность, открывая дверь, принёс молоко и булочки. Пей, любимая. Ешь, солнышко. Свалил бы сию секунду, но закатит истерику вдогонку, будет звонить с упрёками, знает, что могу ещё полчаса провести дома.
Такое чувство, что я сам в себя сру. И эти Авгиевы конюшни уже не разгрести.
В моей жизни, наверное, нет Событий, таких вот, с большой буквы. Может быть, потому что всё идёт естественно, не особо революционно, не через ступеньку. Смерть матери разве только – Событие. Отца – нет. Единственный момент, заставивший меня подумать о том, что у меня нет ничего по-настоящему своего, отрубивший меня от корней, зачеркнувший принадлежность к семье. Нет семьи, – думал я тогда, – а что есть? То, что я теперь должен сделать сам? Создать. Взрослый теперь, да?
Или у меня неправильные критерии События. Недозначимость всего. Для кого-то и первый секс – Событие. И повышение. И свадьба, для женщин. Рождение ребёнка. Покупка машины – Событие. Измена даже, точнее – уличение в измене, как у Женьки, приятеля. Для кого-то и шмотка или девайс. Или пожрать, блин. Событие.
Я так ничего и не сделал. С такой бессмысленной вовлечённостью делая якобы необходимое ничего каждый день.
Агнии теперь всегда недостаточно. Можно биться лбом о стену, выполнять бессмысленные условия, устраивать сюрпризы или грубо посылать – ей всегда всего недостаточно.
Её бесконечные неоправданные ожидания заставляют меня замечать, что на ней плохо сидят джинсы, что на ней – плохо.
И даже если иногда бывает хорошо, как сегодняшней ночью, то это лишь ещё отчётливее проявляет утренний облом.
Я хочу её – другую, может быть позапрошлогоднюю, может быть второго или третьего месяца срока наших отношений, может быть даже летнюю, но не это вот, не эту, реальную – уже нет, уже нет.
– Ты можешь объяснить мне в двух словах, чего ты хочешь?
– Это не имеет смысла, важно, чтобы ты хотел этого сам, – талдычит с упорством макаки, вставляющей во время интеллектуального теста для обезьян квадратную палку в круглое отверстие.
– Чего «этого»?
– Быть со мной по-настоящему. Обнять меня, например, утром, поцеловать.
– Я хочу. Я обнимаю тебя, потому что хочу.
– Нет. Потому что я тебя прошу об этом, – говорит с интонацией, вызывающей у меня зудящее напряжение от воспоминания об училках в средней школе.