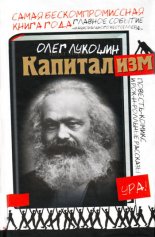Важнейшее из искусств Волков Сергей

– Куда ты меня посылаешь, Кандидушка?
– К «Оскару» на хрен! – озверел я от растерянности.
– Да, пожалуй, «Оскар» наш, – не обиделся Леший. – Твоя доля пойдет в основание Фонда Кандида, – пообещал он. – Для поддержки родственников актеров, отдавших себя роли без остатка. Если ты сейчас выразишь устное пожелание, можно и все твое наследство на это употребить…
– Какое, к лешему, наследство?! – заорал я. – Забирай всё, но верни мне Наву!
– Спасибо, Кандидушка, я был уверен, что ты меня правильно поймешь… А Наву можешь вернуть только ты сам, я предоставляю тебе такую возможность.
– То есть? – насторожился я. Звучали в его голосе такие настораживающие нотки.
– Ты дождешься здесь своей Навы, а уж дальше вы сами решите, как будете жить…
– Значит, ты не заберешь меня отсюда? – удивился я. – Съемки же закончены!
– Съемки закончены, жизнь продолжается, – многозначительно произнес он. – Кино – это жизнь, жизнь – это кино.
– Ты меня уже задолбал этим слоганом! – не выдержал я.
– Это не слоган, а правда жизни, друг мой. Новое кино – это жизнь, которую не дано прожить дважды. Одна роль – одна жизнь… Ну, представь, что зрители, промочившие платья и рубашки слезами сострадания к тебе, вдруг встречают тебя на церемонии награждения «Оскаром» или, того хуже, после банкета по этому случаю… Они проклянут свои слезы и тебя, их испоганившего… Нет, Кандид, твоя жизнь всецело принадлежит искусству. Уж не обессудь – такова парадигма нового кино… Новой жизни… Ты не расстраивайся – я каждому в этом мире найду роль! С этим хамским бардаком надо кончать!… Вот только закончу сценарий…
– Эй, Леший! – крикнул я. – Ты трезвый? Или нажрался? А скорее всего, под кайфом…
– Мой кайф – мое искусство, – изрек он явно для истории. – В данный момент наше с тобой, Кандид, искусство. Я просто балдею от того, что мы с тобой сотворили! А рейтинги и вовсе зашкаливают. Пипл стонет в оргазме.
– Глядя, как меня трахают в лесу все кому не лень?
– Сопереживая тебе, балбес развесистый!
– Постой-постой! Ты что, превратил кино в реалити-шоу? – застонал я от унижения.
– За кого ты меня принимаешь?! – обиделся голос. – Твой мыслительный и словесный понос фильтруем, натуральный кишечный тоже, всяких побочных образных и словесных игровых ублюдков тоже в помойку выплескиваем… Монтаж – дирижирование режиссера. Не бойся, шедевр идет к зрителю чистым.
– Спасибо, утешил, – вздохнул я. – Сильно подозреваю, что ты и ребеночка – в помойку… Слушай! – вдруг заинтересовался я (выходит, соображать стал). – А как тебе удается снимать, когда все закрыто деревьями, да и вообще никакой съемочной аппаратуры не видно, разговаривать вот со мной? Как мне удавалось заставлять всех вокруг действовать по сценарию?
– О, современные технические возможности выходят далеко за пределы предполагаемого великим актером, – улыбнулся он покровительственно.
– Это ты про меня?
– Естественно, Кандид. А я – великий режиссер, – ответил он без ложной скромности, которой, впрочем, я никогда за ним не замечал.
– И какие же это возможности?
– Зачем тебе голову забивать, Кандидушка? Ни к чему тебе это знать в лесу…
– В лесу, возможно, и ни к чему, а на планете – в самый раз!
– Да пожалуйста, – раздобрился он на информацию. – Я снимал то, что видел ты… А ты вел себя профессионально – давал по большей части великолепные планы. Ну и спутник все время над лесом висел, все, что мог, снимал в разных участках спектра. Зонды запускали, когда назревала необходимость. Иногда через тебя удавалось ретранслировать то, что видели другие, особенно Нава. Она с тобой вживую контачила. Уж не знаю, дочка она тебе или жена, а родная душа – техника не врет.
– Но телепатии вроде бы не существует, а если случается, то требует бешеных затрат личных усилий и энергии! У людей, я имею в виду; людены – отдельная статья. Как тебе удавалось писать мои видения и мысли? Или я уже так безнадежно отстал от жизни? – требовал я информации: мне необходимо было понять, как все происходило, чтобы определить, блефует он или говорит правду.
– Не знаю, как там насчет телепатии, – признался Леший. – Но все элементарно, Ватсон… Человеческая речь сопровождается вполне определенными биофизическими процессами, которые при современном уровне техники очень четко фиксируются. То же со зрительной информацией – с ней даже проще: снимается с сетчатки и нервных окончаний, дальше – дело техники… Мысли… Оказывается, человек – относительно простой механизм: он мыслит словами, а слова оные, которыми он мыслит, непроизвольно проговариваются им, не превращаясь в звуковую речь, но нужные биофизические процессы происходят. Их-то я от тебя и имел. С образным мышлением чуть сложнее, но механизм близок к считыванию зрительной информации. Конечно, все более смазано и расплывчато, но путем компьютерной обработки информация превращается во вполне кинематографичную или, если угодно, фантоматографичную. И эта обработка идет в режиме реального времени.
– И что, ты любого человека умеешь так видеть?
– Да нет, Кандидушка, пока только тебя, – признался Леший, облегчив мне душу: я уж полагал, что дело совсем плохо. – И это влетело мне в копеечку!… Но не волнуйся за меня – уже окупилось! Фильм еще не показан до конца, а уже окупилось! Теперь новое кино не остановить! Финансы не то что пошли, они потекли бурным потоком.
«Мутным…» – подумал я.
– Бурный всегда мутный, – отреагировал он. Ему было все равно, говорю я или думаю.
– А как со мной это удалось? – задал я естественный вопрос.
– Неужели ты не помнишь? – удивился он. – С твоего согласия ты прошел через несколько операций, да не морщись, без скальпеля, – засмеялся он, уловив мои представления этих операций. – Тут все тонко, на уровне генной наноинженерии и уникальных технологий ее. Ты стал гипномонстром: ты излучаешь со страшной силой, поэтому тебе ничего не стоило заставить всех плясать под свою дудку и благополучно передавать информацию мне. Ну, про все технические тонкости приема, усиления и передачи рассказывать скучно, да я в этих мелочах и не разбираюсь, но принцип такой. Ты сам согласился на это, у меня есть письменное, и звуковое, и видеосогласие твое, подтвержденное нотариально.
– Да я не собираюсь с тобой судиться, что ты забеспокоился? – усмехнулся я. – Я шел в Город за правдой, и, кажется, я ее нашел. Спасибо тебе, что не поскупился.
– Да не стоит благодарности, ты заслужил.
– И что дальше? Сериал будешь делать?
– Ты же знаешь, я не любитель размазывать сопли по экрану. Шедевр должен быть концентрированным, как удар боксера…
– Или раствор яда, – хмыкнул я снова.
– Ну да, – согласился он. – Если травишь, так трави, а не мучь человека… У меня уже другие планы…
– Значит, я тебе больше не нужен? – поставил я вопрос ребром.
– Да, пожалуй, – после краткого раздумья ответил он. – Ты свободен! Ты мне, конечно, как сын, и мне будет интересно дальнейшее, но я не буду за тобой следить. Просто времени нет, извини. Может, гляну когда-нибудь запись-другую… Или если зритель с ножом к горлу пристанет, сооружу послесловие, эпилог…
– Эпитафию, – продолжил я список вероятных жанров.
– Ну, если тебя гиппоцет сожрет, то и эпитафию, – легко согласился он.
Я почувствовал, что его ничто не обременяло.
– Тогда пошел на хрен, Леший, – от души послал я его. – И не лезь больше в мою жизнь и в жизнь леса. Мы уж тут сами разберемся!
– А как же, конечно, разберешься, Кандидушка! Ты ж теперь, я полагаю, у них Главный Нуси будешь, ведь никто больше истинного положения вещей не представляет и представить не может. Будешь свою Флору уму-разуму растительному обучать…Ты уж не серчай, дорогой, искусство требует жертв, а тебя даже на костре сжигать не пришлось. Если про древность кино стану делать, придется жечь, ох придется, – деловито посетовал великий режиссер. – В жизнь твою лично я лезть не буду, обещаю. Но поскольку кино – это жизнь, не могу гарантировать, что наши роли еще не пересекутся… Прощай, Кандидушка! Благополучно тебе дождаться Навы и найти с ней общий язык, а я пошел на хрен, как ты послал. Хотя на хрена мне на хрен? Что за жизнь хреновая пошла? Хрен поймешь, но хрен с ней, пойду я… И хрен ты меня найдешь… – покаламбурил он на прощание. – А память к тебе вся окончательно скоро вернется, держись… Память – она иногда пострашнее, чем деревом по голове. А я устал на твои вопросы отвечать, сам вспомнишь, и в Город больше ходить не придется… Да, чуть не забыл: ты серьезно отнесись к предупреждению псевдотеток: «Представляешь, как они бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу боев!… Они гниют там заживо, они идут и гниют на ходу и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте… для Разрыхления это только полезно. Сгниет – полезно. Растворится – тоже полезно…» Они никого к себе не впускают и никого не выпускают. Тебя, конечно, на биостанции постарались защитить, но никто не может гарантировать… Они, к сожалению, лучше нас владеют биологическим оружием. Поэтому и мы никого из леса не выпускаем: птиц отпугиваем излучениями, а остальных – огнеметами… Береги себя, Кандидушка…
Я почувствовал, что его больше нет. Оказывается, я все время чувствовал чуждое присутствие, только не мог осознать его. Теперь думалось свободно, но это совсем не значило, что на душе стало легче. Лиловый туман все так же размеренно дышал над озером. Или это озеро дышало, приподнимая и опуская туман?…
И вдруг возникло в дырявой памяти:
Сиреневый туман над нами проплывает,
И где-то там (на столбе, что ли?) горит полночная звезда…
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда…
Как-то и не в склад, и не в лад получилось. Но что с дырявой памяти возьмешь? Странно она возвращается, с мусора какого-то.
Однако полночная звезда, оказывается, действительно на небе объявилась. Под кронами деревьев в деревне я редко видел звезды, а здесь над озером их было неимоверное множество – глаза разъезжались в стороны, и голову кругом вело. Такие в этом Городе звезды. Какая из них песенная, так и не понял – все годятся. Но я быстро глаза опустил – нечего мне было искать там, среди звезд; все, что мне надо, оставалось в тумане, слегка светившемся во тьме. От тишины, наступившей после того, как замолчал голос Лешего, стало зябко. Не снаружи, а изнутри. Снаружи несло теплом от озера. Я снова скрючился на камнях, подложив Навину одежду под голову, и моментально заснул.
Разбудило меня солнце, прямо в глаз ударило поверх лилового облака над озером. Я перевалился с отлежанного бока на спину, ребра болели, рука затекла, нога тоже. Я принялся растирать себя свободной рукой. Иголки метались по всему телу. И, гоняя их, я осознал, что в эту ночь мне ничего не снилось. Я отвык от такого, потому что каждую ночь мне снились кошмары, которых я утром вспомнить не мог, но знал, что они снились. На них Нава и ругалась, мол, страшные слова я говорю во сне.
Проснулся я Кандидом, который все помнил о Молчуне, или Молчуном, который все знал о Кандиде. Мои ипостаси слились. Не сказал бы, что им стало хорошо вместе. Оба они тут наворотили со своим сценарием. Вина была общая, но каждый норовил перебросить ее на другого. Как только проснулись, так и занялись.
Как Кандиду мне стало ясно, что при ожидающей Наву трансформации скоро ее ждать не приходится. И в высокотехнологичном мире Кандида такие процессы требовали много времени. А уж тут, в лесу… Хотя что я знаю о технология леса? Но и так ясно, что это не побриться и не ногти постричь. Время у меня было, и тратить его на ожидание у озера было глупо. Я не Аленушка, чать, и Нава не братец Иванушка… Надо разбираться со всем остальным.
А в голове бубнило: «Нава – Настёна – Нава – Настёна…» И образы их наплывали друг на друга на внутреннем экране и сливались неотличимо. И я чувствовал себя последним дерьмом во всех ипостасях. Не уберег.
Я аккуратно сложил Навину одежду на камни. Понадобится ей или нет, не знаю, вроде Хозяйки одеваются по другой моде, но когда она выйдет из озера… В общем, где взял, туда и положил.
– Я еще вернусь, Нава, – пообещал я в озеро. – Обязательно вернусь. Не может быть, чтобы мы с тобой разминулись. Лес хоть и дремуч, да не так уж и велик, полагаю. Встретимся.
С озера подуло ветерком. Может, это Нава мне ответила?
А мне надо людям правду рассказать, чтобы не козлами да баранами на заклание шли, а соображали, что к чему. Пусть не я это затеял, но уж коли понял, надо и другим объяснить. Слухач да Старец не слишком полезный источник информации. Да и самому надо глянуть вокруг новыми глазами.
Хлюп-чавк, вела со мной беседу тропинка. Надо понимать, ворчала: «Ходят тут всякие туда-сюда, совсем уже раздолбали». Что ж поделаешь, судьба такае у тропинок, планида… Вот и мне теперь по поводу своей планиды планы надо строить. Сценарий исчерпан, самому надо думать.
А в голову лезло ретро. Понятное дело, не пущали долгое время, теперь давление выравнивается.
Я вспомнил, как Леший извлек меня из бездны отчаяния, в которую я себя заталкивал с помощью, мягко говоря, запрещенных к употреблению средств. Самое глупое – я пытался забыться, уйти в глюконат бытия, а в нем все повторялось с еще большей отчетливостью, с безумными крупными планами, которых я в реале не видел и видеть не мог. Вот и сейчас я увидел лицо Настёны за мгновение до… И будто лед продрался сквозь тело от пяток к макушке и от макушки к пяткам. Я схватился за тростник и с трудом удержался на ногах. Тьма залила сознание и отступила…
– Это будет твоя последняя роль, и, возможно, ты встретишься с Настёной… в некотором смысле, – соблазнял меня Евсей.
– В каком смысле? – добивался я.
– Если будешь сниматься, узнаешь, а если не будешь – тебе и знать не положено, – не сдавался Леший.
Он умел заинтриговать и знал, чем кого зацепить. Со мной это проделать было нетрудно. Я и так жил в нереальном мире, в мире длящегося ужаса, а он предложил переместить меня туда, где Настёна. Я с трудом понимал его задумку, но мне и не требовалось понимать, мне необходимо было надеяться. А для этого пришлось напрячь интеллект и, во-первых, наизусть выучить Первоисточник, во-вторых, вникнуть в исторические документы и в некоторые современные социологические теории. Леший говорил, что, для того чтобы правильно вести роль, я должен понимать, что происходит на самом деле. Он – сволочь и садист, но гений, только сейчас я начинал потихоньку понимать, насколько он был прав.
– И что ты предлагаешь? – спросил я, когда дал предварительное согласие, – соблазн встретить Настёну был непреодолим.
Хотя я разумом понимал, что этот соблазн граничит с мистикой, а значит, с обманом. Но в тот момент обмануть меня было несложно, ибо я сам был обманываться рад.
– Сделать фильм, адекватный нынешнему моменту, – сделал Евсей жест ладонями, должный означать бессмертное: «Элементарно, Ватсон!»
– Что ты имеешь в виду? – насторожился я.
Этот его легкий тон не предвещал ничего хорошего. Чем беспечнее он меня соблазнял на роль, тем больше моей кровушки она потом забирала.
– Как что? – якобы удивился он. – Мы снимаем фильм на натуре в реальном лесу с реальными Подругами и реальными деревнями с реальными аборигенами.
– Фи-и-и, – разочаровался я. – Ты меня удручаешь, Леший! Реалити-шоу – это даже не прошлый, а позапрошлый век. Тощища и скучища непрофессиональная! И сниматься в них – скука смертная, и смотреть без антирвотного невозможно.
– Тем не менее, – усмехнулся он, – в нынешних рейтингах современные реалити-шоу стали выходить на первые места. Зритель перестал верить актерам и режиссерам, он жаждет правды жизни, зрителя нельзя заставить смотреть, читателя нельзя заставить читать, их можно только привлечь, а привлечь можно, только заинтересовав. Надо осваивать новые территории. Это будет якобы реалити-шоу, а на самом деле постановка книги.
Об этом я уже и сам догадался.
Тогда-то я и понял элементарную истину, что ежели планетарному гомеостату что-то понадобится для сохранения гомеостазиса, то он выжмет это из тварей своих без особого труда – они сами, захлебываясь от восторга, все обоснуют теоретически и воплотят практически. Сначала сверкнут философскими идеями, до коих якобы сами додумались, потом опсевдонаучат в социальных теориях, разжуют их в художественных произведениях, проглотят в ролевых и компьютерно-фантоматических играх и наконец внедрят в технологиях и реалиях жизни.
Обмолвился Циолковский о том, что человечеству придется стать «лучистым», превратиться в вид, способный жить в космосе, – и появились «бегунцы» Саймака, «людены» Стругацких, их же идея «вертикального прогресса». А потом пришли компьютерщики-фантоматчики, приучили поколение к виртуальному «люденному» бытию, и появились технологии «киборгизации» человечества, а через поколение ушли с планеты и первые реальные «людены».
Обмолвился Лао-цзы о дао, ведущем в направлении, противоположном вектору технологического прогресса, и через несколько веков Руссо и Торо призвали человечество назад, к природе. Так появилась зеркальная «вертикальному прогрессу» идея «глубинного регресса», или возвращения к истокам. Как некоторые выражаются, «возвращения в Эдем». А в Эдеме, согласно легенде, обитал совсем другой биологический вид – андрогины: мужчина с женщиной в одной упаковке. Их цивилизацию и показали АБС в «Улитке на склоне». Далеко не все и не сразу это поняли. А поняли в полной мере только тогда, когда это стало технологически возможно, когда генная инженерия достигла необходимого уровня. А перед этим появились многочисленные ролевики – конструкторы будущей жизни, сменившие ролевиков – реконструкторов древней жизни. И в фантоматических играх, и в молодежных организациях. Все началось с интернет-сообществ, а закончилось всемирным движением Флоры, предсказанной теми же АБС, с вожаками-Нуси, со своим языком, сложившимся на основе международного компьютерного и «флорного» сленга в течение нескольких лет. А потом был Исход… Очень хорошо подготовленный Исход. Без господ генетиков он был бы невозможен.
Сначала объявили запретной зоной громадный лесной массив. Три «З», или ЗЗЗ, – Зеленая Запретная Зона – официально биологически опасный для человечества объект. Так оно, кстати, и было. Там организовали Управление Зоной и биостанцию, которые проводили генетические эксперименты над лесом и его обитателями, подготавливая экологическую нишу к приему новых жителей. Потом стали поступать первые партии Флоры, они тоже подвергались генетическому трансформированию в неизвестном широким массам и им самим направлении, но в целях адаптации к жизни в лесу. Это и было началом Исхода…
Планетарный гомеостат сработал четко: принялся уменьшать техногенную нагрузку на планетарную экологическую нишу, когда эта нагрузка стала приближаться к критической. Часть человечества пошла по пути киборгизации, с тем чтобы со временем покинуть планету навсегда, часть двинулась по пути андрогинизации, дабы стать частью природы, не нагружая ее продуктами своей жизнедеятельности, а, напротив, очищая от засорения и вылечивая от цивилизационных болезней. А оставшаяся часть уже не была для планеты столь обременительна. Эта часть наше кино и смотрела. Тем, кто в космосе и в лесу, наши драматургические игрушки – пустой звук. Не слишком приличный к тому же.
Все это нам объясняли еще в школе, поэтому моментально и высветилось в памяти.
Да, Леший был прав: винить некого, я сам на все согласился, даже зная книгу и сценарий. Сейчас вспоминается, что я планировал вывернуться: они далеко, а я на месте все сделаю так, как захочу. Если я второй раз обрету дочку, то ни за что ее не потеряю! Как бы ни брызгал слюной режиссер, как бы ни исходил бессильной злобой, фильм будет снят по моему сценарию! Так я планировал. А потом шандарахнулся головой о дерево… Вот черт! Забыл спросить у Лешего, хотел он меня угробить или добивался близости к Первоисточнику? Или вообще случайный сбой? Что бы он делал, если бы я копыта откинул? Впрочем, фильм снят, вопросы задавать поздно.
Я скакал по болоту почти как лягушка или мертвяк. И что за бред несли деревенские, что болота непроходимы для человека? Хотя сколько народу уже на моей памяти утонуло! И воры еле своего вытащили. Как его? Семиглазый, что ли? Вот уж имечко придумали! Где, интересно, у него остальные пять глаз?… Ведь они из пальца имен не высасывают, а что видят, так и называют…
На холм возле треугольной деревни поднимался с содроганием. Чтоб мне прыгающим деревом стать, если бы не сценарий, не Первоисточник, ведь отдал бы я им Наву, как пить дать отдал бы, потому что околдовали они меня, загипнотизировали накрепко. Гиноиды, блин… Только мои собственные суперизлучатели спасли – заставили их по сценарию танцевать. Карл-то уж точно никаким Карлом не был, а был несчастным подручным, видимо с биостанции, как настоящий Карл. То есть литературный… Совсем запутался. А если бы?… Почему-то пребывание Навы в том озере, где она пребывала ныне, казалось мне предпочтительнее здешнего треугольного озера. Странная логика, но что-то в ней было разумное.
Вот оно – черное и треугольное. Я заставил себя спуститься с холма и подошел к воде. Она не стала такой же чистой и прозрачной, как в Паучьем бассейне, в котором плавает Нава. Но мусор и глина частично осели, и озеро перестало напоминать залитую водой помойку. И бульоном от воды не пахло. Кстати, я, кажется, вспомнил, что это за запах: не бульона, конечно, а живой теплой родовой жидкости, которая на самом деле пахнет материнским молоком. Или молоко пахнет родовой жидкостью, отчего оно так желанно для младенца? Мне приходилось ее нюхать, когда Настёна родилась… И еще, от озера, где осталась Нава, исходило излучение блаженства и покоя, которое нарушал только я, бегая вокруг. А от этого водоема – его и озером-то назвать язык не поворачивается – отчетливо несло трагедией. Ровная темная поверхность жидкости была похожа на густой кисель. Что с ними стало – с теми, что без лица?… А разве можно без лица так кричать?…
Исчезли Нуси, появились Воспитательницы – неистребимо племя вождей, водящих человеков то в пустыню, то в озера, то в полымя, то в хлад и мрак космический. Истребимо только племя человеков.
Я повернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Не лежала душа моя к этому месту.
А вот здесь воры кричали нам, что мы дураки. Ох, если б тогда знать, насколько они были правы! Но сценарий… Если ты не сам себе режиссер, то против сценария не попрешь. Но неужели же лучше было бы отдать Наву ворам? Нет, сценарий был прав, вот только если бы сволочи воры рассказали нам, что к чему, то и кино могло бы получиться совсем иное. Да ведь я же сам и не позволил им, сам и продиктовал…
Болото еще хранило наши следы: где свернутая набок кочка, где клок одежды на цепкой лиане, где Навин волосок на ветке, где палка поломанная… Ее-то, заостренную на сломе, я и прихватил – мало ли какие твари высунутся. Ворам я теперь не нужен, а вот живность болотная должна чем-то питаться. Я теперь шел не спеша и многое замечал, старался не пересекаться с траекториями следования этой самой живности. Мне сильно повезло: ни одного крокодила я не встретил – тут бы мне ничто не помогло, а прочая мелочь на обострение отношений сама не шла. В общем, к исходной точке нашего путешествия по болоту я выбрался без приключений, прочитывая сохранившиеся следы, благо наследили мы да и преследователи изрядно. Как я и ожидал, воров и след простыл, переутомились, за нами гоняясь. К тому же знали, что из тех мест, куда мы умчались, никто еще на их глазах не возвращался. Разве только Колченог? Не зря он так не хотел, чтобы я в Город шел… Прикидывался пнем лесным бестолковым, а сам пытался меня от дурости удержать. Эх, Колченог, что бы тебе правду мне сразу не рассказать? Не поверил бы? Ну конечно не поверил бы! И мне никто не поверит, если расскажу. Но я, возможно, задумался бы, даже не поверив… Хотя что ты мог против сценария?! Никто ничего не мог. Но теперь-то! Теперь-то сценарий закончился! Нет никакого сценария!… Теперь мы сами должны… хотя там еще немного есть, но Леший меня освободил – зная о сценарии, я могу пытаться ему противостоять. По крайней мере, не стану звать их к Чертовым горам, как в Первоисточнике, потому что им не дойти – Великое Разрыхление не пустит, в прах превратив. У меня еще есть вероятность дойти до первого огнемета, а у них нет, они не защищены. Хотя, может, и моя защита – иллюзия, но шанс есть…
Мне надо вдолбить им правду, объяснить им правду! Я понимаю, что она им не нужна ни на хвощ, ни на понюх поганки, потому что они ничего не смогут с ней сделать, как ничего не могут сделать с временами года, с лесом, с ветром, с небом… Но, с другой стороны, от дождя можно укрыться под листьями, от снега и ветра – в теплом доме, а звездами можно любоваться и ориентироваться по ним в лесу, что они прекрасно умеют делать. Так, наверное, и со всякой правдой можно обходиться? Отменить ее нельзя, но научиться приспосабливаться к ней можно и нужно.
И тут я обнаружил, что тропа, по которой я шел, исчезла в траве, хотя я рассчитывал выйти по ней на дорогу между нашей деревней и Выселками. Наверное, свернул где-то не туда? Но странное дело, я совсем не запаниковал, как было бы раньше. Какой смысл паниковать, если этот лес генетически изменен для наилучшего сохранения жизни человеку, пусть тоже генетически измененному. Значит, для сохранения и моей жизни генные техномудрецы потрудились и надо мной тоже. Если б плохо потрудились, не выжил бы. Видимо, Леший сразу заказал меня им для постоянного места жительства в лесу. Я ведь довольно долго пробыл на биостанции…
Ха-ха! А ведь он небось и на роль Переца кого-то пригласил!… И там снимал!… Тогда совсем финиш! Ведь до сих пор и Управление, и биостанция, как я убедился, были вполне работоспособными и эффективными структурами, а по Первоисточнику они находились в периоде загнивания, когда лес перешел на самоуправление, а управленцы управлять разучились, ибо управляемое не подчинялось управлению и никак на него не реагировало. Но ликвидировать эти уже ненужные структуры политически было бы неправильно, дабы избежать паники. Приходилось сохранять видимость. Биостанции оставалось только фиксировать изменения в лесу в доступном спектре. И если кино – это жизнь, а жизнь – это кино, то именно сие безобразие (превращение жизнеспособной структуры в загнивающую) и должно было произойти с Управлением и биостанцией после съемок фильма! Это катастрофа!… Впрочем, это уже не мои проблемы, похоже… Но если Лешего не остановить, то он устремится в Главные Режиссеры планеты Земля и прилегающих территорий. А мой первый и последний опыт в «новом кино» почему-то делал такую перспективу пугающей, ведь неизвестно, какой сценарий он примет к постановке…
Тут земля ускользнула у меня из-под ног, и я провалился в какую-то ямину – только успел ухватиться пальцами за попавшиеся корни. И палка куда-то улетела.
Вот же, бродило в рыло, угораздило! Ч-черт! Я ж теперь как Колченог буду! – вспомнил я историю Колченоговой ноги: провалился-вылез-нога колченогая… Наверняка все было не так шустро и легко, а имело место выкручивание костей и жил со стонами и воплями, и ломота в позвоночнике, и лежание пластом несчитаное в бреду время, но Колченог не любил о таком распространяться. Возможно, именно поэтому его и уважали в деревне: и Староста за советом приходил, и Старец остерегался при нем явную ахинею нести и поварчивал на него, когда Колченог далеко был.
Я извивался, пытаясь найти ногами опору, боясь, что, если не найду, сгину целиком, а найду – тут колченогость и начнется. И старался подтянуться наверх. Я не гимнаст, но на силу никогда не жаловался – нам, киноактерам, приходится держать себя в форме, особенно если у тебя амплуа супермена. Это было в самый раз мое амплуа. На обычном турнике подтянуться не составило бы мне большого труда, а здесь произошла хитрая штука: провалился-то я целиком очень даже запросто, а обратно только руки с трудом пролезали, будто заслонка некая захлопнулась. Когда падал, она распахнулась, а потом захлопнулась, только для рук отверстие оставив. Не пролезали ни голова, ни плечи наверх. Висеть бесконечно я тоже не смог бы, несмотря на свое суперменство. И разжать пальцы было страшно – а вдруг там, внизу, трясина или пасть необъятных размеров? Фантазия мне живо ее нарисовала, тем более что в кино нагляделся этих пастей по самое «видеть не могу». К тому же подогревал фантазию смрад, доносившийся снизу, – вонь разлагающейся или уже разложившейся (тут я не дегустатор) плоти.
Я принялся раскачиваться, чтобы расширить отверстие, и оно потихоньку расширялось. Я понял, что дыра была в корнях какого-то дерева. Они-то, корни, и вернулись на свое законное место силами упругости. Я их раздвигал, а они обратно возвращались. Игра такая на выживание… В один из моментов, отодвинув корни, я просунул рывком поверх них локоть и уперся им. Было больно, но я стал протискивать ладонь дальше по корню, за который держался, чтобы ухватиться повыше. Удалось на длину этого согнутого локтя. Перевел дух и стал пытаться проделать то же со вторым локтем. Получилось только с третьего раза, два раза локоть срывался, оставляя на корнях и кожу. Никто меня не слышал, но рычал я и визжал от усердия от души – наверное, пол-леса распугал. Так мне казалось, а скорее всего, весь звук в этой ямине и пропадал.
Продвинуться-то я продвинулся, даже плечи в щель просунул, но сил уже не осталось, пальцы готовы были соскользнуть с корней и держались исключительно на силе воли. И на силе вони, выталкивающей меня наверх.
Уж не знаю, в последний или в предпоследний момент перед неминуемым падением мои кисти рук вдруг оплело что-то шершавое и твердое. От ужаса я и не знал, что теперь делать: рухнуть вниз или посмотреть, что дальше будет. Выбора мне не оставили – медленно извлекли из ямы и оставили висеть в воздухе, болтаясь на облианившей меня ветви дерева. С чего бы это ей вьюна из себя изображать?
Я усиленно моргал, пытаясь очистить глаза от мусора и пыли, обильно посыпавших мое лицо. Слезы щедро изливались из желез, и я наконец слегка прозрел. Неожиданно и под ногами появилась опора. Я склонил голову и обнаружил под ступнями изогнувшийся корявый корень. Образовалось смутное впечатление, что кто-то держит меня между указательным и большим пальцами и несуетно рассматривает. Однако передо мной был только шершавый ствол то ли дуба, то ли баобаба, то ли бабодуба. Никогда не разбирался в ботанике, или что там растения изучает… А зря, видать, опять с соломкой проруха образовалась, неподстеленная осталась.
– Кто бы ты ни был, друг дорогой, – сказал я от всего сердца, – но я благодарен тебе, что не позволил мне сгинуть! Да будет мать-природа благосклонна к тебе и щедро дарит пищей, солнцем и покоем! И всех врагов твоих проводит стороной… Я же чувствую, что ты не просто дерево, а разумное существо. Ты само избрало меня другом, и я постараюсь оправдать твой выбор.
Меня снова сдернули с корня и понесли вверх. Я быстро приближался к стволу и увидел громадное дупло у скрещения всех ветвей, куда я мог вполне свободно поместиться. И это дупло очень живо напомнило мне пасть, которой я опасался внизу, в яме.
– Эй! – крикнул я. – Друзьями не питаются!
И активно задрыгал ногами.
Мой полет прекратился в нескольких сантиметрах от дупла. Меня слегка встряхнули, видимо, чтобы перестал дрыгаться.
Я перестал и в этот момент разглядел в сумраке дупла два светящихся пятна. Они смотрели на меня. Я бы сказал – со снисходительной усмешкой, если бы мог в это поверить. И еще мне показалось, что из глубины дупла в свете глаз проступают контуры лица… Или лика? Но уж точно не мордашки и не морды. То, что я, кажется, видел, вызывало непроизвольное уважение.
– Спасибо за доверие, – сказал я, действительно проникшись благодарностью.
Я ж мог сгинуть в этом лесу и никогда не увидеть такого, а только перемывать россказни деревенских про уродов. Я же ничего уродского не увидел. Тем более что мне спасли жизнь.
Ветвь разогнулась, и меня поставили на землю. На твердую землю. Теперь я внимательно посмотрел под ноги и обнаружил, что корни местами образуют сеть, распластанную по земле, которая, надо полагать, легко раздвигается и сдвигается. А попавший на ее коварную поверхность становится добычей… Чьей? Этого дерева? Или оно существует в симбиозе с каким-то земляным монстром? Что-то сомневаюсь – слишком кинематографично в дурном смысле. Почему же тогда оно не сделало меня своей добычей?
– Я искренне тебе благодарен, – повторил я. – Если позволишь, я буду иногда навещать тебя, если найду, конечно. А не найду, ты знай, что я всегда буду с благодарностью тебя вспоминать. Никогда не знаешь, где потеряешь и что найдешь… Прощай, доброе дерево… Или добрый человек…
Мне показалось, что оно пошевелило ветвями. Возможно, это был всего лишь ветер. Я прощально глянул снизу вверх в дупло, и мне показалось, что дерево усмехается.
Внимательно глядя под ноги, я двинулся дальше, злорадно думая, что Евсею никогда не получить такого убойного кадра, такой гениальной «немой сцены», которая только что разыгралась. Так ему и надо: «зануде» никогда не выйти за пределы сценария.
Мне было страшно возвращаться в деревню. И стыдно. Мужчине всегда должно быть стыдно, когда он свою женщину, не важно – жену, дочку или сестру, защитить не может. Никудышный он мужик в этом случае, даже если причины были объективны и непреодолимы. Для себя самого никудышный.
Поэтому, наверное, я и не стал дорогу разыскивать, а побрел, куда ноги повели, но теперь уже сначала смотрел, куда ступаю, а потом уже ногу ставил.
Пару раз обернулся. И почему деревенские их уродами называют? Дерево как дерево, по-своему, по-древесному красивое. По крайней мере издалека, когда ни ямину, ни дупло не видишь. Мне захотелось возвратиться и поговорить с ним, возможно, так и выглядит настоящий леший – лесной, а не киношный. Но я еще не придумал, как с ним разговаривать, а нагружать негуманоида своими человеческими проблемами глупо и нечестно. Или он все же гуманоид? Нет, из таких интеллектуальных дебрей мне не выбраться. В общем, не возвратился я к настоящему лешему – осознать сначала надо, прочувствовать, вжиться в роль. А у меня сейчас совсем другая роль: «Нуси вернулси» называется…
Набрел на ручей. В лесу полно таких родничковых ручейков: какие в болота текут, а некоторые до речки добегают. На одну такую мы с Навой ходили: мылись, купались, я пытался ей рыбу ловить, очень она рыбу любила – с детства в родной деревне приучили. Иногда у меня даже получалось. Сачок соорудил и исхитрялся поймать одну-другую золотую да серебряную. Очень Нава радовалась.
Я чувствовал, что ручей приведет меня к речке. Он и привел. По моим пространственным ощущениям, это должна была быть та самая «наша» речка. Неглубокая, до двух примерно метров, и шириной не больше пяти. Глазомер у меня, правда, плюс-минус километр, но это точно не Амазонка и не Волга. Туда я и погрузился с ходу: шаг – и я там. Только «ух!» и успел выдохнуть. По сравнению с атмосферой леса вода показалась холодной, хотя на самом деле, как все в этом лесу, она была весьма теплой, даже родники не сильно ее охлаждали. Через несколько мгновений я в этом убедился – ощущение холода исчезло. Я нырнул и долго-долго, насколько дыхания хватило, плыл под водой. В прошлой жизни я обожал две стихии: воздушную и водную. Теперь одна отняла у меня Настёну, вторая – Наву. И как мне прикажете их после этого любить?… Какая, к лешему, любовь? Теперь я с ними сосуществовал, ибо деваться некуда.
Вынырнул, перевернулся на спину, раскинул конечности и поплыл, влекомый неспешным течением, глядя в небо, синее-синее… как параплан Настёны, – она не хотела портить небо цветными заплатками… В глазах потемнело. Не утонул – расслабленные тела не тонут, как я слышал и не раз убеждался. Но волной, от берега отскочившей, все же плеснуло в лицо, я отфыркнулся рефлекторно, и свет белый вернулся в очи мои. И правда белый – ослепительно подсвеченное кучевое облако заполонило мой окоем. Красиво, но от таких красот парапланеристу лучше держаться подальше.
«Та-ак, – подумал я, – предположим, Евсей и правда заделается Мировым Режиссером… До меня он точно доберется – я у него первый подопытный кролик… Через меня и до всех лесных обитателей: до Флоры человеческой, до Хозяек, до воров и, сильно подозреваю, – до чудаков, хотя с ними не встречался, но есть вероятность, что они уже не от мира сего и до них не очень-то легко добраться. А вот до лешего моего настоящего, до нового знакомца, которого зря кличут уродом? Почему-то мне кажется, что леший настоящий Лешему киношному не по зубам будет… Или мне только хочется так думать? Что хочется – ясно, но насколько я прав?… Черт! Значит, он и до Навы опять дотянется и станет ей жизнь ломать и корежить? И я опять возьму ее на руки и сам отнесу своему ненасытному Режиссеру?… Его надо остановить, пока он опять до меня не добрался! Но как?…
Я представил, как вода из речки проникает в поры земли и по ним достигает озера, в котором Нава. Мне даже показалось, что я чувствую ее кожей спины, пощипывать стало.
– Я рядом с тобой, девочка, – сказал я в голос. – Все мы на этой планете рядом… Мы обязательно встретимся!
Я перевернулся на живот и стал осматривать берега – они показались мне слегка знакомыми. Я насторожился и через пару минут узнал «наше» место! В пару гребков достиг берега. Точно – наше. Я даже вышел на берег и осмотрелся. Сомнений не осталось. Тогда я разделся, сполоснул от грязи порванную одежду, бросил ее на траву сохнуть и залез обратно в воду, принявшись отдирать впитавшуюся в кожу грязь мхом, как губкой. Он даже мылился. Я с самого начала этому удивлялся, а Нава смеялась надо мной:
– Как же ему не мылиться, Молчун, если он мыльный? Так и называется – мыльный мох. Всегда у речек растет. У вас в летающих деревнях никаких речек нет, вот ты про мох ничего и не знаешь… И как вы в летающих деревнях моетесь?
А я и сказать не мог, что в вертолетах мы не моемся, а делаем это дома, в ванной. Не помнил я ни про вертолеты, ни про ванные. Теперь вспомнил, а толку? Некому объяснять и незачем.
Посидел на берегу, вспоминая, как мы тут весело плескались с Навой… Эх! Неужто все и навсегда? Ну и какая разница: мужчины, женщины, гиноиды, андроиды?… Неужели без секса не может быть человеческих отношений? Ведь сама же эта беременная садистка призывала: «Хоть один раз попробуй не быть козлом!» Будто я им был! Особенно с ней… Да сто лет она мне даром не нужна – ведь дура дурой (вернее, дуро дуром), а у меня на дур и на дуро, извиняюсь, не… У самой комплекс на сексе, на его отсутствие: причиндалы для него есть, а секса нет. Неужто андроид с гиноидом не могут плескаться в одной речке и радоваться жизни? Ведь глупость же. И вправду, всем нам надо учиться жить не козлами…
Я никогда и никого в жизни так не любил, как Настёну и Наву. И при чем здесь секс? Что-то вы в этом вопросе сильно напутали, нелюбезные Хозяюшки… И сценарий тут ни при чем – достаточно посмотреть, что вы с лесом творите.
Одежда во влажном лесу всегда плохо сохла, но вода с нее стекла, и я натянул на себя сырые штаны и рубаху. Обратил внимание на прореху на месте, которое в приличном обществе не демонстрируют. Отодрал эластичный тонюсенький побег лианы и, проделав шипом с дерева дырки, пришил отодранный клок на место. Не слишком аккуратно, но пальцем никто показывать не станет.
Пора идти… Я обратил внимание на то, что думаю одновременно (или поочередно?) на двух языках: на родном, человеческом, и на языке Флоры. А ведь ему, вспомнил я, Евсей обучал меня еще при подготовке к съемкам. Почему же я сразу не смог его вспомнить? Не иначе как ударом из головы все вышибло. Пока потом обратно в черепок оседало, время прошло. Ну, ничего страшного: на двух так на двух – я к дубляжу уже привык, сначала диктовал, что мне надо сказать, потом это слушал. Хорошо еще, что не понимал происходящего, а только изредка удивлялся… А если сценарий втюрить и втемяшить во все головы?… Вот тебе и будет суперновое кино… Ох, Евсей, ты лучше влево не сей и вправо не сей… Плохое у тебя зерно.
Ноги сами знали, куда идти отсюда. Тропинка, конечно, заросла, но трава на ней отличалась от остальной и возрастом, и ростом, и цветом. Ее я и принялся попирать ногами. Планида такая у нее. Очень быстро сырая одежда распушилась налипшими семенами и пыльцой с травы и цветов лесных. Ничего, в ручье за домом смою. «У-ух!… – прошибло меня. – Как же я в дом-то пустой войду, где Навы нет? Может, на улице устроиться?…»
Примерно через полчаса пути до меня донеслось какое-то жужжание, будто пчелы над дуплом или мухи над прокисшей кашей: «Ж-ж-ж ж… З-з-з-з… У-у-у-у…» Я замедлил шаги. Тропинка сделала еще несколько поворотов между ямами в земле и колючими зарослями и выползла на хорошо, но явно недавно утоптанную поляну.
Я остановился, будто на стенку наткнулся: траву вытоптало практически все население нашей деревни, собравшееся у наших с Навой «одежных деревьев». Они-то и гудели, не обращая на меня никакого внимания. Их головы были задраны на высокую толстую ветку, на которой болтались в подвешенном состоянии два человека – мужчина и женщина. Мужчина во фрачной паре на белоснежной рубашке и женщина в пышном подвенечном платье, похожем на опущенный вниз бело-розовыми лепестками громадный цветок лотоса. Я помотал головой, пытаясь отогнать полное ощущение видения висельников: они свисали из створок бутонов, создававших удивительную иллюзию человеческих голов. Еще и ветер их слегка раскачивал… Зрелище было сногсшибательное. Даже для меня, который все это задумал. А что говорить о деревенских, которые такого в жизни не видели и представить не могли? Они и не отрывали исполненных страха и удивления взоров от невиданного зрелища и немолчно, непрерывно бубнили что-то, не слушая и не слыша друг друга.
Отчетливо слышалась только знаменитая кулаковская «шерсть на носу», звучавшая уже почти патетически:
– Ну, это ж, шерсть на носу, такое мог придумать только Молчун, леший его задери!… Такого придумать никто в деревне не мог, потому что никому в деревне такое и в голову не придет, и на Выселках не придет, и даже в чудаковой деревне не придет, потому что они чудаки-чудаки, уж не знаю на каком месте у чудаков шерсть, но не настолько же они чудаки!…
– Нельзя! – визгливо вторил ему Старец. – Потому что невозможно, вредно и не нужно!… Это ж кто придумал людей по веткам развешивать? Такого даже воры себе не позволяют, а уж они самые бескорневые и бессемянные пустельги в лесу. Палкой по голове – это еще куда ни шло, потому что и обратно может вернуться, а подвешивать людей головами на деревьях – этому ни в каких городах научить не могут. Вот вернется Молчун из Города и поймет, что такое нельзя делать, ему там объяснят, что такое «нельзя»!…
Я стоял и слушал. Горько мне было стоять и слушать, хотя я почти ничего не слышал. Горько мне было от собственных мыслей. Но я все же заметил странное разделение ролей: обычно гораздо более болтливые, чем мужики, женщины сейчас стояли, молча взирая на невиданную одежду, которую вырастило дерево. Мне показалось, что они поняли дух этой одежды, который я в нее вкладывал. Или просто сильно перепугались?
– Молчун вернулся! – громко сказал я у них за спинами и вышел из высокой травы.
Они все так одновременно и мгновенно повернулись ко мне, что напомнили мертвяков, выворачивающихся наизнанку.
Теперь замолчали и мужики, челюсти отвисли. Отличная немая сцена… Леший, ау!… Нет Лешего, фиг ему! Теперь мы сами будем снимать и смотреть свое кино.
– А Нава? – вздохнул Колченог. – Мертвяки?…
– Нет, не мертвяки, – отрицательно покрутил я головой. – С мертвяками у меня теперь разговор короткий…
– Воры отобрали? – кивнул Кулак с некоторым чуть заметным торжеством в голосе – мол, не только у него жену воры отобрали, а вот и у Молчуна. – Войной надо на них пойти, шерсть на носу, чтобы они наших жен не воровали! Давай прямо сейчас все соберемся и пойдем, против всех они не устоят. Мы им покажем, как наших жен воровать! Мы им шерсть-то с носа на задницу передвинем!
– Нет, – сказал я. – Не воры, воров я побил, а потом мы убежали от них.
– Неужто гиппоцет съел или крокодил? – трагическим голосом предположил Староста.
Легкий вздох ужаса пронесся по толпе от этого предположения.
– Крокодила не встретили, а гиппоцетов двух видели, им не до нас было, – сообщил я. – Маму мы Навину встретили, она и увела ее.
– Да как же это можно – от живого мужа жену уводить?! – проскрипел Старец. – Нельзя это! Даже матери нельзя! Потому что вредно. Если все матери начнут от мужей жен уводить, что же это такое будет? Надо всем матерям укорот дать, чтобы неповадно было! Это непорядок, а непорядок вреден, нельзя его допускать…
– Постой! – опомнился Колченог. – Какая такая мама, когда ее маму мертвяки утащили?! Про это все знают. И мне она про это все уши прожужжала, когда мы с ней по лесу дочку мою искали. Только не хотел я ее на дочку обменять, я на ее глаза молодые надеялся, что они все углядят и следы дочкины заметят.
– Какие следы? – проворчал Кулак. – Они ведь ее на плечи взвалили и унесли. А меня связали, чтобы за ними не увязался. Я, когда освободился, пошел за ними, но они в речку вошли, и там следы кончились. Я и вверх бегал, и вниз по обоим берегам – никаких следов.
– Уплыли они, – сказал я. – На плотах и уплыли.
– На каких таких плотах? – удивился Кулак. – Я, шерсть на носу, никаких плотов не видел и не слышал и понятия не имею, что это такое.
– Свяжи два-три бревна рядом и сам сверху сядь, – объяснил я. – Вот тебе плот и будет. Плыви на нем, сколько терпения хватит, и жену свою с собой вези…
– Плыть по речке? – испугался Кулак. – Я сам никогда, шерсть на носу, по речке не поплыву и жену к ней близко не подпущу! Там же утонуть пара пустяков! И крокодилы там водятся. Нет, Молчун, и не уговаривай – ни на каком плоту по твоей речке я не поплыву!
– А я и не уговариваю, Кулак, я только объясняю предположительно, куда воры с твоей женой деться могли так, чтобы следов не оставить.
– Что ж ты мне раньше, Молчун, не сказал! – обиженно воскликнул Колченог. – Все про свой дурацкий Город долдонил, а про речку не сказал. Я, может быть, и поплыл бы по речке, и дочку бы нашел!
– Я тогда ничего не понимал, а вы все, и ты, Колченог, в особенности, мне голову морочили своими разговорами, от которых у меня в голове шум и боль возникали и я соображать не мог. Теперь вроде шум не возникает. И я многое понял… Мне кажется, что нет твоей дочки у воров, Колченог. Очень уж они злы на мертвяков, так злы бывают, когда последнее отнимают. Ведь воры – это вы, мужики, когда у вас всех женщин отнимут и вы без них начнете с ума сходить.
– Замолчи, Молчун! – вскрикнул Староста. – Разве ж можно такое говорить?!
– Нельзя! – обрадовался Старец. – Я всегда всем говорил, что нельзя забывать про «нельзя»!
– Понимаешь, Староста, – медленно ответил я, делая большие паузы между словами, чтобы они успевали осознать каждое слово, – они повторяли каждую фразу, чтобы успеть осознать, а я стал говорить медленно: – Можно завязать глаза и идти в болото, делая вид, что ничего не происходит, пока не утонешь в трясине, а можно внимательно смотреть перед собой и вовремя свернуть на хорошую дорогу… Мы с вами сейчас именно перед таким выбором. Куда ты хочешь вести своих людей, Староста?
– Нет! – опять возник Колченог. – Ты, Молчун, нам зубы не заговаривай! Ишь вдруг разговаривать научился и сразу зубы заговаривать! Ты объясни, куда Наву девал! И откуда ее мама взялась, которую давно уже мертвяки утащили. А кого мертвяки утащили, назад не возвращаются! Никогда!
Надо же, удивился я, как долго он мысль в себе держал, пока мы тут с Кулаком да Старостой препирались, а прикидывался, что мысли у него расплываются и в голове не держатся! Все у него держится, когда ему надо.
– Ну да! – поддержал Хвост. – Их мертвяки в горячих озерах варят, а потом едят. Как же они могут вернуться?!
– Не едят их мертвяки, – махнул я рукой. – Они вообще не едят. Потому что неживые. Биороботы. Вам пока этого не понять, но это как живое, но не живое, потому что у живого душа есть, а у них только программа подчинения Хозяевам. Но это все сложно – и душа, и программа… Хотя мне говорили, что вы легко отличаете живое от неживого… Неужели не отличили?
– Как не отличили, шерсть на носу, если назвали мертвяками, значит, отличили! – выкрикнул Кулак. – Ты не слушай Хвоста, он не думает, что говорит, у него что хвост, что язык – болтаются без всякого смысла.
– Сам ты болтаешься без смысла! – огрызнулся Хвост. Замолчите! – прикрикнул Староста. – Говори, Молчун!… Объясни про мать Навы…
И я стал говорить. Мне не очень нравилось то, что я говорю, но я еще не успел подготовиться и составить речь. Слишком сложно это для меня здесь, разучился я речи составлять… Но что мог сказать, то и говорил:
– Мертвяки – это слуги Хозяек Леса… Хозяйки Леса – это женщины, прошедшие Одержание. Я не знаю, почему это так называется, возможно, имеется в виду одержание победы над своей природной сущностью, не понимаю… Но я понял, что это значит: женщины, прошедшие Одержание, внешне остаются женщинами, но внутри становятся одновременно и женщинами, и мужчинами…
– Что ты несешь, Молчун?! – послышалось из толпы. – Ты бы лучше и дальше молчал, чем такую чушь нести, паутину нам на уши развешивать… Где ж это видано, чтобы женщина была и мужчиной?! У нее что ж, и мужской корень рядом с женским дуплом вырастает?… Ну, Молчун!… Ну, рассмешил!…
– Нельзя-я! – вдруг взвизгнул Старец и сжался, озираясь. Даже за куст спрятался.
А ведь знает старый пень, что я правду говорю, вдруг понял я. Он же мне говорил и про Тростники, и про озера, и про утопленниц… Он говорил, а я ничего не понял. Но страшно ему от этой правды, надеется умереть раньше, чем эта правда всей силой по голове да по жизни ударит.
– …Им не нужны мужчины для того, чтобы родить ребенка. Разумеется, рожают они одних только девочек, которых девочками уже неправильно называть… гиноиды они называются по науке.
– Ты нас не пугай своими словечками-то, пуганые! – выкрикнули подрагивающим голосом из толпы.
– А я и не пугаю, но мне самому страшно, – признался я. – Особенно страшно было, когда они друг с дружкой разговаривали, глядя сквозь меня… Будто я пустое место… А когда обратили внимание, то говорили, как с мерзостью ходячей, хуже которой и придумать-то невозможно… Они считают всех нас, и мужчин и женщин, ошибкой природы, которую надо срочно исправить. Женщин они превращают в себе подобных, а мужчин… не знаю, некоторых в рабов своих, а большинство перерабатывают в разных чудищ – рукоедов, гиппоцетов и еще не знаю, какая гадость в лесу у вас водится. Это как скомкать кусок глины и что-то новое из него вылепить. Мы с вами – глина в их руках, грязная и противная, но они взяли на себя труд вылепить из нас что-то более полезное в хозяйстве, чем мужчина…
А Навина мама – она одна из этих Хозяек Леса. Она усыпила Наву и засунула ее в озеро, которое и есть Город. Паучий бассейн называется… А может, я опять все перепутал? Не важно, как он называется и Город он или не Город. По мне, так и вовсе переродильное отделение, где женщин перерождают… Когда Нава переродится, она тоже станет Хозяйкой Леса, Славной Подругой, про которых нам Слухач все время рассказывает… И возможно, будет присылать мертвяков в деревню, чтобы всех женщин привести к лучшей жизни. Они же все могут и никого не боятся, это они делают мертвяков, рукоедов, гиппоцетов, ос, комаров, муравьев… Раньше что-то из этого само рождалось и плодилось, а теперь все под их контролем. Начали все это не они, лес этот создали не они, но теперь хозяйничают здесь они. А вы – Флора, которая теперь никому не нужна. Вы были первыми из тех, кто пришел в этот лес… Первыми же вас и уничтожать начинают. А может, и не первыми, только вы этого не заметили.
– Нава добрая! – крикнул кто-то из женщин. – Она не станет на нас мертвяков насылать!
– Верно! – мрачно согласился Колченог. – Она, как солнечный зайчик, для каждого улыбку найдет и доброе слово, а ты про нее такое говоришь, Молчун… Нехорошо, ты же муж ее, она любила тебя!…
– И я любил ее, – ответил я. – И сейчас люблю… И пойду ее встречать к Паучьему бассейну. Но я говорю правду… Может, она и не станет на эту деревню мертвяков насылать, станет на другую… Или не будет с мертвяками возиться, у них в лесу и других дел много. Разве об этом разговор? Совсем о другом…
Я молчал, они тоже молчали. Кажется, впервые за все время моего пребывания в лесу.
И я подумал: зря Нава говорила, что ее никто не любит в деревне.
– И что ты предлагаешь, Молчун? – спросил Староста.
– Снять с глаз повязку и внимательно выбирать дорогу, зная, какие опасности нас подстерегают впереди. Мы не можем предвидеть всего, но ожидать должны всякое… И разумеется, никакой войны! Сила на их стороне… Вопрос в том, хватит ли нам ума и… смешно сказать… любви, чтобы выжить?
– Легко сказать, – вздохнул Староста.
– Не так уж и легко, – вздохнул я.
Я помнил, что в Первоисточнике они не поверили Кандиду, и это было психологически вполне объяснимо. Это было правильно для Первоисточника, но кино кончилось, и мы оказались в лесу без всяких метафор, образов и планов. Здесь живут и умирают, вернее, вымирают. А они здесь живут давно, все видят и знают лучше меня. Возможно, им нужен был вот такой наивный идиот, чтобы пришел и сказал все как есть, как он видит? Не они сами навели бы напраслину на свою жизнь, а чужак бы пришел, и увидел, и сказал, ничтоже сумняшеся. Так ведь часто бывает – нужен взгляд со стороны или голос со стороны, мол, король-то голый…
Я сказал то, что они и так знали в основном, но не хотели себе в этом признаться, потому что страшно было, потому что с этим жить невозможно, а жить надо, потому что жизнь есть жизнь, а не шерсть на носу.
Я посмотрел наверх: белое платье и фрачная пара все так же болтались на легком ветру, изображая висельников. Да, дурацкая была затея…
– А это тебе зачем? – проследив за моим взглядом, спросил Староста.
– Да зря все это, – кивнул я. – Ни к чему… Глупо… Совсем глупо… Сам не понимаю… Ведь не собирался же, но она очень хотела и все время говорила об этом… А не надо было…
– Надо! Надо! Не глупо! – вдруг раздался отчаянный девичий голос.
– Ты что это, Лава? – обернулся Староста к дочери, выступившей из толпы.
– Я знаю, зачем это, – уже тише сказала она. – Снимите мне… это…
– Платье, – подсказал я.
– Платье, – кивнула она, обрадовавшись незнакомому слову.
– Снимите, – кивнул я и сам стал озираться вокруг в поисках подходящей длинной палки. Но палка нашлась и без меня.
Один из парней сучком ловко поддел почку, похожую на голову, платье повисло на нем и плавно было спущено вниз.
Лава, недолго думая, сбросила с себя зеленую рубашку с длинными рукавами и нырнула внутрь платья, вынырнув уже в нем, загадочная и прекрасная. Была девочка, пацанка, а появилась женщина.
– В этом же нельзя ходить по лесу! – удивился ее отец.
– Но все в лесу, прежде чем принести плод, цветет, даже корявое дерево, даже колючий куст, даже тонкая травинка, – ответила Лава. – И это, – погладила она ладошками платье на себе, – Цветок Женщины…
Она меня поняла.