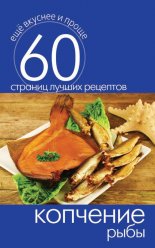Быть единственной Белякова Людмила
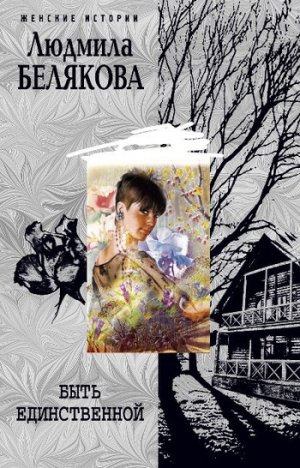
– Вадичка, послушай, родной… Только мама вас по-настоящему любить будет, только мама, – жалостливо завела Маша, глядя сыну в глаза.
Вадик отвел взгляд и отвернулся. Как же Маше не нравилась эта его привычка сидеть руки на стол и пялиться в окошко. Будто высматривает, как бы из дому сбежать.
– Только мама вас по-настоящему любит, только мама.
– Ох, мам, от твоей любви что мне, что Володьке…
– Ну что, что?! Что вам не так?! – Маша наконец прослезилась, очень кстати.
– Повеситься хочется на профсоюзной веревке, вот что!
– А почему на профсоюзной? – удивилась Маша, и слезы у нее сразу высохли.
– Анекдот такой есть, – буркнул Вадик и вышел из кухни.
Больше в этот день Маша с ним не виделась и не говорила. Может, к лучшему. Успокоиться она так и не смогла, все тянуло куда-то бежать и с кем-нибудь, все равно с кем, хорошенько поругаться. А с сыном… Ох как не стоило! Теперь он у нее один. И она у него одна-единственная. Володька теперь отрезанный ломоть, прилепившийся к девке-сыкухе, предавший мать ради… ну, ради кого… понятно. Чужого ребенка воспитывать ему, видите ли, приспичило! Вот родит ему неведому зверушку от негра какого-нибудь, будет знать! Нашла дурака эта городская… Хотя если прикинуть… Деревенские тоже по этому делу мастачки были еще те!
… В Выселках спокон веку практиковалась отлаженная система загона, отлова и пленения неженатиков. Передавалась эта наука по женской, понятно, линии из поколения в поколение. Понятно, что система была действенной – а иначе бы Выселки просто обезлюдели бы. Главной, козырной картой девицы на выданье было хорошее приданое: машина, в перспективе, за хорошее поведение – кооперативная квартира в городе. Но это могли позволить себе единицы – вечно хмельное население Выселок пропивало практически все, что зарабатывало, и тянуло от получки до получки, без серьезных накоплений. Даже на свадьбу, превеликими трудами слепленную, родители, как правило, занимали и потом два-три года отдавали, ужимаясь во всем. Случалось, молодые давно разругались и разбежались, а бывшие сватья все еще отдавали свадебные долги.
Беременность невесты и угроза разоблачения подлого соблазнителя через парткомы-завкомы была вторым по надежности и первым по применяемости аргументом. По большому счету до настоящих письменных жалоб доходило чрезвычайно редко – стороны находили решение путем долгих, но в целом мирных переговоров. Хотя если жених по-настоящему упрямился, то даже через официальные органы запиравшегося жениха уконтропупить в ЗАГС было сложно. Главный аргумент против брака «по залету» было – а что ж за дочкой-то плохо глядели, папа-мама уважаемые? А нельзя было подождать с беременностью до после свадьбы? Как воспитывали, так и разбирайтесь со своим не в меру ретивым по постельной части чадом… Был случай, когда насмерть стоявший за свою свободу обольститель предпочел отчислиться из хорошего московского вуза, но не жениться на отработанном и ставшим неинтересным деревенском материале. Хитреца тут же, хоть и было лето, прибрал к рукам вечно алчущий новых жертв военкомат. Так обольститель скоропостижно, во вне призывное время, убыл на два года в армию. Презревшего неписаные законы парня осудили, а девчонка с нагулянным ребенком на руках, напротив, вскоре очень неплохо устроилась, и все посчитали, что это знак свыше. Не надо нарушать заведенного обычая! Но этот инцидент был единичным, хотя и запомнился всем надолго.
Если же первый половой контакт обходился для девчонки без далеко идущих последствий, а замуж она настроилась решительно, то важным доводом было «он у меня первый». Это тоже действовало. А вот в принципе насчет «первого» – это мм! Для тех девиц, кто выходил замуж якобы «по-честному», существовали секреты, как скрыть от молодого супруга предыдущий интимный опыт.
Ну, главный, выселковский, фирменный – это понятно: на свадьбе упоить молодожена в полную зюзю, что было вовсе не сложно при существовавшем в Выселках законе всеобщего, равного и явного пития. Особенно для этих целей был хорош местный самогон, мутноватый, но такой забористый – просто ах! Так что сакраментальная зюзя была третьей участницей в каждой второй брачной постели. И очень часто так в ней и оставалась, прижившись навечно. А смысл упоения состоял в том, чтобы наутро, или, вернее, к полудню первого дня совместной жизни, нежно воркуя, убедить молодого мужа, что у них «все было» и все было просто замечательно. А доказательства? Ну, так пальчик уколоть ведь не проблема. Раз такое дело…
Маша-то выходила замуж по-честному, поэтому ей было не до этих премудростей. И деревенский обычай наутро вывешивать во дворе добросовестно обработанную молодыми простынку Машу миновал во времени. А жаль… Она-то не теперешние… Хотя в ее тогдашнем возрасте нетраченность свидетельствовала скорее не в ее пользу. Никому не нужна была, да?
Все эти неприятные, утомительные воспоминания и мысли роились, давя друг друга, в Машиной гудящей голове даже поздно ночью, когда она пыталась заснуть, но тяжко ворочалась в своей постели.
Из комнаты старшего доносились взвывами отголоски футбольного матча.
«Вот, футбол смотрит… На меня наплевать, – обиженно думала Маша. – Хоть бы пришел, поинтересовался, не умерла ли я тут. А вот если бы я умерла? Свадьбу бы отложили, как тогда, когда я в больницу попала, и, может…»
Тут Маша с досадой осознала, что, померев окончательно и на самом деле, не смогла бы насладиться результатами своего демарша. Все равно Володька женился бы на этой, как ее там… Вот через сорок дней в аккурат расписались бы… И Вадька за ним туда же!.. Одновременно бы и поминки Машины отметили – для экономии. Нет, это не выход. А где выход? Почему тогда Володькина краля от него отказалась-то? Маша забыла… Ах да – потому что нашла бумажку, где было сказано, что Маша сумасшедшая и ее внуки будут такими же бешеными. А может, прикинуться? Сказать, что Маша, как порядочная, хочет познакомиться с невестой и ее родителями и такое им потом устроить – как той носатой на заводском дворе, а?! Нет, тоже не выход. Эта девка уже беременная, и, конечно, не от Володьки – это ясно, так что и Машина сомнительная в умственном отношении наследственность здесь ни для кого не помеха. Раз «та» за него взялась по-настоящему, это конец… В Выселках так и говорили: ни одна, которая хотела замуж, в девках не оставалась. Хоть за пьяного, хоть за сраного, да выходила. Саму Машу так в свое время утешали: поставишь за цель, так выйдешь!
Маша крутилась в постели, не в силах даже представить себе хоть какой-то выход из положения. Уже затихли отголоски футбольной баталии в комнате младшего сына, а бедная Маша все не находила ответа: как вырвать Володеньку из лап девки-разлучницы?
Как заснула, Маша не заметила. Да и зыбкий кошмар, состоявший из обрывочных видений свадьбы старшенького и «этой», вряд ли можно было назвать сном.
Проснулась Маша поздно, чутко уловив, что на кухне позванивает посуда. Первые секунды бодрствования она не вспомнила о сюрпризе, преподнесенном старшим отпрыском, и бодро вскочила: ох, сыночков же кормить надо! И вдруг ясно представила, что сын у нее теперь один, а второй безвозвратно ее покинул.
Надев халат и кое-как пригладив волосы, Маша появилась на кухне. Вадик, одетый в выходной бело-синий свитер, допивал чай.
– Куда это ты собрался? – недовольно осведомилась Маша.
– Дела в городе, – сдержанно ответил сын.
– К Володьке пойдешь?
– Может, и к нему, – спокойно подтвердил Вадик и встал.
– Я тебе не велю, – глубоко изнутри закипая от ярости, выдавила из себя Маша.
– Мам, а я взрослый уже, – делано улыбнулся Вадик. – Я сам решаю.
– Дверку на погребе починить надо, – стараясь не начинать скандала, придумала Маша предлог задержать сына.
– Вернусь – починю. И завтра день. Пока! – Сын быстро вышел, прихватив большую сумку, стоявшую тут же.
«Ага, точно, – с досадой, запоздало догадалась Маша. – Вещи какие-то понес, что Вовка вчера не взял. Утром рано собрал и хотел уйти, пока я сплю. Все хитрят, хитрят… Хожу я плохо, а то можно было бы проследить, куда пошел, посмотреть на эту мерзавку».
Вадик вернулся уже к вечеру, довольный и какой-то отрешенный – словно все еще был там, у брата с его «невестой». Сумка, как заметила Маша, была пустой.
«Точно, у них был… Хорошо ему там, с ними, да? А с мамой, дома, плохо?»
Дверцу на зимнем погребе Вадик починил без дополнительных понуканий в воскресенье утром и с обеда опять уехал. На следующий день Маша выходила на сутки и утром в понедельник с сыном почти не виделась. Стена молчания, начавшая расти между ними, как бурьян сырым летом, перла из-под земли неукротимо, и корчевать ее не было никакой Машиной возможности.
Незнамо как новость о том, что Машин старший женится, разнеслась по Выселкам. Как же, отличный, непьющий жених уходит на сторону! А куда своих-то невест девать? Вон их каждый год по скольку созревает!
Скорее всего, Володька пригласил кого-то из приятелей на торжество – и Машин позор выплыл наружу. Как было ей поступить? Ведь даже если свадьбу играли в ресторане, а эта расточительная, городская манера все больше завоевывала Выселки, семьи молодоженов на второй день должны были вусмерть напоить ближайших родственников и соседей. Коль скоро все высельчане состояли в той или иной степени родства, на местных свадьбах гуляли практически все, даже те, кого не приглашали. На «втором дне» молодых пытали на предмет удовольствий, полученных ими в первую брачную ночь, потом все вместе гуляли по окрестностям с ряжеными и горланили частушки и песни советских композиторов. А тут – весь порядок нарушался, и Маше от этого становилось еще тошнее.
От этих разговоров – как, где гостей принимать будешь, Марь Степанна? – Маша отмалчивалась или отругивалась, встречая недоуменные и даже чуть испуганные взгляды односельчан. Чего это она вдруг? Сын женится, уж не молоденький, под тридцать. А она, кажется, недовольна? И вправду – как Маша объяснит людям, что ничего хуже для нее нет, как отдать сына, кровиночку, чужой девчонке? Ну да, все матери невесток недолюбливают. Каждая недовольна. Всем кажется, что сын мог бы взять и побогаче, и покрасивее, и помоложе. Прятали паспорта у рвавшихся в ЗАГС влюбленных, грозили родительским проклятием. А не получалось воспрепятствовать регистрации – потом разводили молодых свекрови, капали сыновьям на мозги, капали, капали: ты глянь, кого взял-то! Сын начинал прозревать, поколачивать жену, и та уходила сама.
У Маши не было никакой человеческой возможности помешать свадьбе – сын-то больно взрослый, не вчерашний школьник, деньгами и даже жильем от нее независим. И потом, Маша не сможет развести сына с женой, раз они будут жить у «этой». Как знать, ведь, может, и стоило бы притвориться на время, что Маша согласна. И если не удалось отговорить Володю от рокового шага, то хоть потом, как-нибудь, Бог даст, можно было бы возвратить его домой… Но Маша сама отказалась взглянуть на эту «невесту» и упустила такую, пусть не самую лучшую возможность. Да хоть прямо на свадьбе отравила бы «эту»! Подмешала бы что-нибудь…
«Ох, какие мысли в голову лезут! – одернула Маша сама себя. – Доведут ведь до греха… Потом отвечай, доказывай, что для сына старалась».
С ближайшего дежурства Маша направилась к тетке – разузнать, что и как с надвигающейся свадьбой, – она-то была в курсе событий, наверняка была!
– … Так Вадька забегал, – охотно сообщила тетка. – Не видела его давно – такой взрослый стал. Открытку вот принес.
Она дотянулась до буфета и подала Маше конверт с кольцами и лентами на картинке – где только такую достали! Маша таких не видела…
Маша брезгливо вынула открытку, мельком глянула – «… такие-то… приглашают» – и поспешно вернула тетке.
– Нет, я против, я так ему и сказала, – вскинула она подбородок.
Тетка едва заметно усмехнулась и даже не спросила почему.
– Невеста плохая, – добавила Маша словно в ответ на незаданный вопрос.
– Не тебе судить – ты ее не видела. И не тебе с ней жить.
– Вот уж слава богу! – воскликнула Маша, всплеснув руками.
Пора было уходить. Узнать толком Маша ничего не узнала, только то, что заявление подано, свадьба назначена и наверняка состоится. Как она ни кричала-причитала, а сын пошел против ее воли. И единственная родственница тоже не хочет понять, посочувствовать.
– Так ты на свадьбу к сыну пойдешь? – как нарочно, словно желая уязвить Машу, спросила тетка.
– Нет, теть Кать, не пойду, – глухо, но решительно ответила Маша, теребя концы платка и пялясь в пол.
– Это, Маш, просто ненормально. Такое отношение. Не-нор-маль-но. Ты как хочешь. Обижайся не обижайся…
– А ты пойдешь?
– А как же! – вдруг – уж точно назло – развеселилась тетка. – Как же без этого! Раз приглашают-то? Выпьем, погуляем!
– Ну, веселитесь, веселитесь!..
«Отольются вам всем мои слезки! Ох отольются!»
Хорошо, хоть мужа теткиного дома не оказалось – от души поиздевался бы над Машиным горем.
Добравшись до дому, Маша собралась прикорнуть, но сна не было – то ли разгулялась, то ли от непроходящего огорчения. И она решила разобраться в комнате сына – чего уж теперь? Не вернется. А если вернется? Так пусть в его комнате порядок будет – увидит, как его здесь ждали, надеялись. Как любит его мама, готовая принять обратно в любой момент.
Маша обнаружила, что Володя не забрал и половины вещей. Вполне хороших, особенно зимних.
«Вот вернется он за ними, – чуть успокоившись, думала она, аккуратно складывая каждую одежку, – что угодно сделаю, а назад не отпущу!»
Тут Маша вдруг поняла, что сын все равно вернется. Просто ему надо дать время – поймет, что лучше как с мамой ему не будет. Ведь большинство сейчас разводятся, да? Вот и партия и правительство обеспокоены… Молодые нынче не живут – только ссорятся. А те, кто не разводится, продолжают мучительное, немирное сосуществование только потому, что разъехаться некуда. И Володя, нажившись с «той», обязательно вернется! Ему-то есть куда… Вот что важно! Только телевизор с тумбочкой Вадик перетащил к себе. Но это ничего, они потом разберутся.
Маша вполне спокойно, тщательно прибралась в комнате старшего, то же сделала в комнате Вадика и уже после этого, утомленная, прилегла. Ждать, надо только ждать. Все будет как надо Маше.
Прошел месяц с лишним. Полились нудные октябрьские дожди. Вадик как-то в выходные все-таки еще раз – но только один – спросил Машу, пойдет ли она на свадьбу к старшему.
– Нет, – едва вымолвила она.
– А почему, мам, ты сказать можешь?
– Не хочу… – «… эту сыкуху видеть!» – Боюсь, ее родители меня не примут, – решила съехидничать Маша сыночку назло. – Такую вот. Необразованную.
– Как хочешь. Надумаешь – скажешь.
«Коли могла бы, я б давно надумала бы. Да вот ничего не придумала!»
Да, ничего так Маша и не придумала, а надеяться на то, что свадьба расстроится сама собой, не приходилось. Ни один из известных случаев, известных Маше, под эту благостную жизненную оказию катастрофически не подходил. Оставалось только ждать, когда у «молодых» совместная жизнь развалится под бременем бытовых забот и нехватки денег.
Свадьба у Володьки все-таки состоялась, по слухам, совсем не похожая на те, что играли в Выселках. Без обмена невесты на ящик соснового портвейна, но с какими-то непонятными танцами вместо сидения над прокисающими салатами. Какие-то конкурсы вместо хорового исполнения похабелек. Черт-те что, говорили в Выселках.
Машу за то, что она не пошла на это хулиганское безобразие, почти не осуждали, а о том, почему Маша не одобрила этот брак в принципе, пошли разные слухи. Говорили, к примеру, что темненькая, черноглазая Зоя – еврейка, минимум на половину, а высельчане – они как есть все потомственные староверы, поэтому Маша и была так отчаянно против родниться с христопродавцами. Исключающая версия гласила, что, напротив, сватья оказались на самом деле близкими родственниками, а молодые греховодники этого не знали, спевшись за спиной и без согласия родителей, так что имело место самое настоящее кровосмешение… И теперь все соучастники разврата с ужасом ожидают появление на свет ребенка о двух головах или чего похлеще.
Маша сама пугалась этих разговоров, появлявшихся ниоткуда, но, к счастью, так в никуда бесследно и исчезавших. Просто диву давалась, чего людям неймется? Ну не хочет она, чтобы сыновья из дому уходили, не хочет – ну и что? Что в этом такого? Не для этого их растила. И ни одной матери не хочется родное дитятко в чужое место отдавать, тем более что сыночки у Маши хорошие… Вот пьянь с рук сбыть некоторые «мамы» были рады – сами искали бабенку порукастее, чтоб ущербное чадо в ежовых рукавицах держала. Но это не Машин случай.
«Это вы готовы своих «аликов» в примаки хоть ведьме болотной сбыть, а у меня сыночки – чистое золото!» – думала Маша как-то, бредя домой из сельпо, где ей был предложен очередной вариант истории ее размолвки со старшеньким.
А состоял вариант в том, что будто бы он, Володька, согласился «за разумное вознаграждение» расписаться с нагулявшей неизвестно от кого девчонкой, а ему за это богатые родители падшей девицы пообещали настоящую, новенькую «Волгу». Причем в Выселках был точно известен даже оговоренный сторонами цвет автомобиля – синий. Поскольку брак был фиктивный, то и свадьба была как бы понарошку – потому и такая дурацкая! А Маша туда не пошла по брезгливости, а также из опасения стать соучастницей противозаконного действа. Во как дело-то было! Ну уж сознайся, Марь Степанна, здесь все свои, не продадут! И поскольку за «фикцию» Вовке могло сильно нагореть, то пока – пока! – он вынужден некоторое время изображать законного мужа и домой не возвращаться. Но скоро должен вернуться. Так что его ждала назад не только Маша. Односельчане, искренне поверившие в эту несусветную чушь, еще пару недель допекали Машу подковырочками: «Когда, Степанна, соседей на синей «Волге» катать будешь?»
Машу эта напраслина жутко злила, и наконец она, схватив за грудки одного такого шутника, высказала ему все, что думала, и о нем самом, и о его супружнице, которой пользовались все неженатые, а также женатые, но недосмотренные мужики Выселок и окрестностей, о его троих детях, ни один из которых не был похож, даже отдаленно, на своего отца, и о многом другом.
Мужик враз забыл про синюю «Волгу» и полез драться, но Маша сама подставила ему лицо с криком:
– Ну тронь, тронь тока! Посажу! Вот твоей проститутке раздолье-то будет!
Это подействовало, бедняга, брызжа слюной, отступил, только выматерил Машу, натурально получил достойный ответ, и больше про синюю «Волгу» никто в Выселках не вспоминал. Но и сын Машин с опасного, но выгодного задания тоже не возвращался.
Не возвращался… Не возвращался!
Так в привычно-болезненном, как сезонно обострившийся радикулит, ожидании прошли остаток осени и зима. Вадик, вероятно, часто заходил к брату с женой, возвращался от них неразговорчивый, но явно расслабленно-довольный. Маша его ни о чем не спрашивала, сам он ничего не рассказывал. Скорее всего, молодые жили пока дружно. Значит, Маше ничего не оставалось, как ждать дальше.
Наступили пронзительные мартовские морозы. Было солнечно, ветрено. Остатки последнего снегопада мотало ветром вдоль улицы, полируя дороги до паркетной гладкости и свивая в затишках в маленькие вихри.
Однажды, придя в субботу к обеду, Вадик зашел к Маше в комнату и, чуть поколебавшись, сказал:
– Мам, Володя велел тебе передать… У тебя родилась внучка.
Маша, замерев на секунду со штопкой в руках и мгновенно вонзившимся в левую подмышку бандитским ножиком, выдавила тихо:
– Нет у меня никакой внучки.
– Как скажешь, – пожал Вадик плечами. – Мое дело сообщить.
Он повернулся и ушел, а Маша уронила шитье на колени и долго сидела так, глядя в никуда остекленевшими глазами.
«Все-таки не бросил он «эту»… Не бросил… Родила она. Теперь поди докажи, что не от него».
Надежда теперь была только на то, что в однокомнатной квартире все эти пеленки-бутылочки, ночные вставания и плач быстро доконают привыкшего к маминой заботе Володьку. Жена не работает, расходы на ребенка растут – значит, денег хватать не будет… Вот где вспомнит, как с мамой хорошо было, на всем готовом – вспомнит, прибежит! Известно – как детей делать, так все мужики горазды, а как их докармливать!.. Вон Маша все понукала Николая, чтоб семью обеспечивал получше, так и дождалась. Ничего не меняется на свете.
Прошло еще полгода. Вадик регулярно бывал у досадно крепко прилепившихся друг к другу молодоженов. Хотя… Ведь и это, если подумать, не время. Уж такой-то срок, год-полтора, даже большинство выселковских семей выдерживало. Со скандалами и драками, вызовами милиции, заявлениями-примирениями… Но и эта задержка в Володенькином возвращении огорчала Машу очень, и как-то, собираясь перед своими нескончаемыми «сутками» пораньше лечь спать, она остановилась на пороге Вадиковой комнаты и выдавила, прошелестела одними губами – как бы между прочим:
– Ты там у Вовки бываешь…
Младшенький отвернулся от телевизора.
– Скажи ему: если он там отдохнуть захочет, что уж, пусть придет, переночует.
– А от чего ему отдыхать-то? – поднял светлые брови Вадик.
– Ну, ребенок же, поди, плачет все время.
– Не-е, – отвернулся сын к экрану и сладко потянулся. – Ирочка у нас товарищ понимающий. Ревет только по делу. Умненькая – вся в Вовку.
– Да уж, как же, «в него», – пробормотала Маша себе под нос и поплелась к себе.
Лучше бы и не спрашивала. «В него…» С чего это – в него-то?!
– Если хочешь, – вдруг сказал не оборачиваясь Вадик, – я им передам, чтоб они в гости пришли… А?
– Еще чего! – фыркнула Маша. – Ноги ее здесь не будет!
– Твое дело, – равнодушно ответил младший и, кажется, сказал что-то еще, но Маша не расслышала и переспрашивать не стала, чтобы не расстраиваться еще больше.
«Иркой назвали, значит, – подумала Маша, стаскивая халат. – Надо же, живут – не тужат… На Володьку похожа. «Папина дочка», ага, конечно… И как это «той» удалось? Или действительно ребенок от него? Да нет, просто хочется верить, вот он и верит. И братишку своего глупого убедил. «В гости»!.. Раздухарились, да!»
Маша проворочалась до полночи, размышляя: поверить ли, что ребенок у «той» от Володьки, или остаться при своем мнении? Если от Володьки, то она, Маша, – бабушка. Как и положено женщине ее почтенного возраста. Вон некоторые выселковские бабы как переживают, что дети либо неокольцованы, либо задерживаются с потомством. Хоть лекции читай в клубе
«Как пристроить любимое чадо и получить от него приплод». Сколько бы на такое мероприятие народищу сбежалось – жуть! Некоторые мамаши под кого угодно готовы дочку подложить – лишь бы при мужике состояла, при деле была, лишь бы родила!.. Это были Машины злейшие врагини – охотницы за зятьками-производителями… Да. Хотя?… Сынок неудачный – ведь тоже чистое огорчение… У одних баб забота – как сбыть с рук своего бездельника, у других – как вырвать его из рук бабы-разлучницы.
Так ничего и не надумав, Маша заснула.
Проснулась она с тяжелой головой и без созревшего плана дальнейших действий. Володьку «та» охомутала основательно – это Маше было ясно давно. От «той» уходить пока не собирается. Но пока!.. Да, ждать, ждать. Только ждать.
А ожидать перемен к лучшему приходилось в совсем новых условиях. Один за одним, как осенние мухи, мерли престарелые, но все еще пламенные коммунисты, ни шатко ни валко толкавшие страну в коммунистический рай, где не будет ни денег, ни, как следствие, обязаловки вкалывать с утра до ночи, чтобы свести концы с концами. Хотя того обещальщика, что весь этот бредовый «комунизьм» затеял, давно не то что при власти – на свете не было. Хотя Маша вспоминала его с удовольствием – при нем хоть на что-то надеяться люди начали. А при том бровастом – только и ждали, что американцы на них «атомы пустят».
… На защиту от империалистических атомов требовались большие деньги, поэтому у Маши на заводе часто срезали расценки на сделку, и, чтобы выбить те же деньги, приходилось напрягаться больше. Рабочие, случалось, жаловались в разные столичные «комы»: мол, помилосердствуйте, родненькие, жизни нет! Оттуда приезжали товарищи в хороших костюмах, нарядных галстуках и тихими, приглушенными голосами, как бы по секрету, разъясняли в очередной раз ободранным как липки работягам, что надо понимать международную обстановку и, как следствие, проявлять сознательность.
Эти хорошо одетые товарищи намекали пролетариям, что не худо бы поменьше пить водку – вот и будет побольше денег на конфеты детям. Рабочие пытались объяснить своим слугам, что с конфетами-то трудностей особых нет, на сластях сэкономить – это сущие пустяки, детки у них суровые, небалованные – справятся. Проблема как раз с деньгами на водку, поскольку без этого универсального горючего встанет не только духовная жизнь России, но вся остальная, экономическая, политическая – всякая. Однако товарищи, видимо, пили только коньяк и поэтому пролетариат отчаянно не понимали. Побазарив впустую, высокие договаривающиеся стороны расходились, взаимно друг друга не понявшие и обиженные. А ведь все из-за того, что говорили на сухую…
Машу эта важная сторона жизни касалась слабо – за бутылками в сельпо она бегала не слишком часто – ее рукастые сыновья справлялись по хозяйству сами, и универсальная валюта требовалась изредка. Только если торфа в огород или угля на зиму привезти – этого сделать Машины ребята не могли. Дело было в другом. Тягомотина с правительственными похоронами казалась бескрайней, определенности в жизни не было никакой.
Когда народу продемонстрировали очередного кособокого полутрупа, и городские, и выселковские, разочаровано матюгнувшись, пошли авансом пропивать его скорогрядущие похороны с неизменным многочасовым концертом симфонической музыки. Эта музыка была им резко не по сердцу, поскольку они трепетно обожали Людмилу Зыкину и Валечку Толкунову.
Когда ожидаемое произошло, теткин муж, хитро улыбаясь, погрозил пальцем – то ли Маше, то ли еще кому-то, мол, скоро будут совсем новые новости. Может, он что-то знал – все-таки подполковник в отставке, – но Маша слабо в это верила. На пенсию бы вовремя ей уйти – и то хлеб. И чтоб домашнее хозяйство новый кремлевский батюшка не урезал и налогами непосильными не обложил.
Те два года, что чехардились кремлевские мумии, прошли для Маши – да и для всех советских граждан – очень быстро. Стремительно приближалась благодатная пенсия, последний год пошел… Вадик, сыночка любимый, был при ней. Может, и неплохо, что он так и не мог забыть свою длинноносую, а может, понял, что мама-то его никогда не предаст, всегда любить будет.
Вовка, старший, существовал где-то – как за глухой стеной. Оттуда изредка доносились невнятные, односложные возгласы, для Маши обозначавшие только то, что возвращаться домой он не собирается. Вцепилась в него эта Зойка мертвой хваткой и не отпускает.
Там же, за этой стеной, подрастала неведомая «внучка», но Маша приучила себя про это не вспоминать. Думать о том, что, может быть, это все-таки Вовкин ребенок, а она, Маша, изначально и кругом не права, было очень противно. С чего она не признает невестку, которую даже никогда не видела? Одно время соседи ее спрашивали об этом, но, получив отпор в соответствующих выражениях, отстали, а теперь, поди, уж и забыли, занявшись, наконец, своими делами.
А в остальном все было относительно неплохо, главное, Вадик на сторону не смотрит, не гуляет.
Была ранняя, вялая и гнилая весна восемьдесят пятого года. Через полгода, в ноябре, Маше было выходить на заслуженный отдых, но она хотела работать и дальше. Так денежнее.
Но как раз в это время на Машу, уже почти спокойно взиравшую из своего стеклянного закутка на сновавших туда-сюда заводских девчонок и молодых бабешек, ее сменщица Клавдия обрушила новость… Такую новость!
Маша принимала смену, когда уходившая домой Клавка, чувствительно двинув ее локтем в бок, зашипела ей на ухо:
– Вон, вон, гляди, та Галька пошла!
– А мне что за дело? – недовольно ответила Маша, мельком оглядывая высокую женскую фигуру, медленно двигавшуюся в сторону заводоуправления. – Чего распихалась, шалава!
– Так это же Галька! – все шипела сменщица, делая страшные глаза. – Та самая!
Фигура у Гальки была ладная, узкая в талии, хотя отнюдь не худосочная.
– Да та ж Галька, за которой твой Вадим увивается, дура!
– Сама ты дура старая! – рявкнула Маша. – Ни за кем мой Вадичка не увивается, выдумала тоже! За кем здесь увиваться? Одни проститутки!
Сменщица отступила на полшага, поскольку больше не позволяли размеры «стекляшки», где гужевались вахтеры, и, выпятив губу, презрительно процедила:
– Ты что – не знаешь, что ли? Про Гальку эту?
– Не знаю и знать не желаю, – также презрительно ответила Маша, садясь и всем видом показывая Клавке, что той надо отправляться домой, где ее страстно желают видеть домочадцы. А вот Маша не желает.
– Ну, как хочешь, – разочарованно пробормотала сменщица.
За утренними хлопотами Маша даже как-то подзабыла этот казус. Но потом, когда людской поток утихомирился, иссяк, новость о том, что Вадик, ее сынок, увивается за какой-то Галькой, предательски, как проснувшаяся от весеннего тепла гадюка, выползла из дальнего уголка Машиной души и, свернувшись колечком на солнцепеке, стала зудливо беспокоить Машу.
«Вадик увивается за какой-то бабой… Да не может того быть! Галька какая-то… Откуда?… Да нет, не может быть… Может, по работе связаны?»
Эту мысль пришлось сразу же отбросить – конторские с автомастерской дела имели постольку-поскольку. Только казенная директорская «Волга» там обслуживалась… Какие дела там! Сплетни. Но высокая фигура в ярко-зеленом пальто, длинном, в талию, так и мелькала у Маши перед глазами.
«Ах, ну как всегда! – досадливо, чувствуя, что лицо сворачивается, как скисшее молоко, в жалкую гримасу, размышляла Маша. – Все знают, а я не знаю!»
Маша долго не могла понять, что в этом ее состоянии так гнусно-мучительно. Не больно – как от прохудившегося зуба, а мерзко-томительно – как от несварения. А потом Маша поняла…
Она ощущала себя как обманутая жена: все вокруг знают, что муж от нее загулял, а та дурочка ходит как ни в чем не бывало, улыбается, отчаянно веселя окружающих своим двусмысленным положением. А когда она узнает обо всем, да еще рассказывает ей о позоре не самый близкий друг, и полуброшенка прикидывает, сколько уже времени она является предметом обсуждения и жалостливого сочувствия… У, вот вражине не пожелаешь!..
К обеду, когда из заводоуправления пошли оглоеды-служащие, Маша дошла до точки душевного кипения. Она буквально вырывала из их рук пластмассовые пакетики с пропусками, огрызалась на замечания вроде «А поаккуратнее нельзя?» и невнимательно рассовывала их по ячейкам. Но зеленое пальто так и не появилось. А когда служащие пошли назад, около Маши собралась очередь – она не могла найти перепутанные пропуска. Недовольные конторцы стали скандалить, пришел начальник – не тот, который отправлял Машу на экзекуцию к главному инженеру, а уже другой. Он разобрался с пропусками, цедя слова сквозь зубы, сделал Маше замечание и ушел. Машу трясло от злости: а чего она такого сделала? Это все та Галька неизвестная виновата…
Маша вдруг осознала, что невзначай брошенное замечание уже заполонило ее жизнь тревогой, мучительным беспокойством и томительной душевной болью. Вадик нашел новую зазнобу! Забыл ту министершу и нашел новую бабу!
К вечеру это трясучее беспокойство совсем вымотало Машу, она несколько раз клала под язык таблетку. Может быть, поэтому, стараясь снова ничего не напутать с пропусками – а ну как не оставят ее работать после пенсии? – Маша чересчур внимательно смотрела на пластиковые пакетики и пропустила эту змею зеленую. Сообразив, что все конторские благополучно отправились домой, а Гальку она так и не выявила, Маша едва не заплакала от обиды. Или эта Галька знала, что смертельно виновата перед Машей, и как-то сумела обмануть ее? Ведь Маша ее даже на вид не знала, не помнила… И сын сегодня в заводском дворе не появлялся… Ох, не к добру это!
Остаток вечера Маша просидела, до боли в глазах вглядываясь в темноту двора – а вдруг эта проститутка задержалась в конторе, грязно сношаясь с начальством, все-таки пройдет мимо, и тогда Маша ей покажет-распокажет!.. Но ничего так и не произошло. Все ключи от заводоуправления висели на своих гвоздиках, все пропуска лежали в ячейках.
Часам к десяти вечера Маше, которая жутко измоталась обилием тревожных мыслей и подозрений, пришла в голову замечательная мысль. «Надо просмотреть пропуска и найти всех Галек, что работают на заводе! Вот и фамилию узнаю и должность! Она от меня никуда не денется! Уж я ее причешу – будь здоров! Вадичку-то я не отдам, не отдам!»
Можно было бы давно запереть «стекляшку», проковылять по замерзшим лужицам в дежурку, что была на первом этаже заводоуправлении. Прикорнуть там на кушетке часиков до семи утра, когда пойдут первые работники – все неймется им. Но Маша методично вынимала пропуска и в тускловатом свете вглядывалась в плохонькие фотографии. Лица сливались в один непонятный и ненавистный образ, но ничего конкретного Маше обнаружить не удалось. В заводоуправлении разных Галин работало штук пятнадцать, однако подходящей на роль злейшей Машиной врагини подыскать не удалось. Ведь даже возраст женщин на мелких карточках определить было нельзя – а может, это столетней давности фото?
Усталая и отчаявшаяся – вот и эта Галька обыграла ее и обставила! – Маша поплелась в дежурку. На полпути к зданию она почувствовала, как подгибаются ноги, и вспомнила, что забыла поесть. А сверток в вареными яйцами и колбасой забыла в будке… Ох, и тут ее эта сыкуха доконала!
Возвращаться Маша не стала, прилегла то ли с тяжелым сердцем, а может, с гулко отзывавшимся на каждое движение пустым желудком, дремала вполглаза, порываясь заплакать то ли от телесной дурноты, то ли от душевного разлада. И надо как-то не пропустить эту Гальку утром… Никак нельзя пропустить…
А наутро Машу, наконец крепко заснувшую, растолкали пришедшие на работу уборщицы. Их впустил на территорию сторож, а то, что Маша проспала, было почти профессиональным позором. С Машей это случилось во второй раз с тех пор, как она ушла в охрану из цеха. Наскоро умывшись и пригладив волосы, она заняла место в своей «стекляшке».
За ночь погода сильно переменилась – может, поэтому и ныло сердце? День занимался солнечный и теплый, по-настоящему весенний. Волей-неволей настроение пошло на подъем. А вдруг обойдется и на этот раз, Вадик никуда не уйдет, и вообще, это все бред… Ну видели кого-то с кем-то – но не ее сынулю… Мало ли перед кем эта сыкуха задницей вертит? Маша даже перестала приглядываться к конторским – а ну их всех… Вадичка, кровиночка, всегда будет при ней…
Сдав смену, Маша даже задерживаться не стала, наладилась по магазинам. Надо поискать чего-то на обед себе и на ужин сыночке. А то ситуация с продуктами становилась угрожающей. Картошка, соленья – все это хорошо, но животины у Маши отродясь не было, а сыну мяса достать надо, хошь не хошь… Как еще кормит Володечку эта его «жена», не исхудал ли?
Через некоторое время неприятная история позабылась. Тем более что начались такие дела, такие дела!!!
Скончался, дал-то Бог, наконец тот кособокий, немного и поцарствовал, а на его место пришел новый всесоюзный начальник, заметно моложе предыдущих. Он таскал повсюду за собой жену, которая резко не нравилась всем, особенно женщинам. Наверное, по ее ведьминскому наущению Мишка Меченый отменил пьянку. Ну, не напрочь отменил – куда ж государству без «пьяных» денег?! – а создал дикое неудобство для трудящегося населения, которое желало расслабиться после утомительного рабочего дня.
Проезжая на автобусе по городу утром с дежурства, Маша из недели в неделю видела, как у магазинов, змеино извиваясь, стоят километровые очереди неряшливых, до удивления похожих друг на друга мужиков. Будто и не уходили вовсе, а так и жили в этих движущихся таборах. А многие почти и жили, да… Так вот – получив пару бутылок и расписав их здесь же, «из горла», с банкой кильки в томате и кусочком «чернушки» на закусь, они тут же становились в конец очереди, зная, что достоятся аккурат к поре опохмелки.
– … Вот их всех переписать да в милицию! – зло ворчали бабы в автобусе, шедшем вдоль главной городской очереди-алкоголички.
– Не за что, – бубнили мужики, либо уже успешно отстоявшие, либо имевшие возможность покупать бутылки у таксистов по тройной цене. – Их право. В свое время люди стоят.
– Да тут их полгорода, «людей»-то этих!! – взвизгивала непременно какая-нибудь баба. – У них что – у всех отгул?!
«Поди, своего кобеля-пьяницу там засекла!» – расслабленно думала Маша.
Так все и шло – своим чередом. Перестройка нарастала, пыжилась, влезала во все прорехи на теле самого справедливого на свете строя. Вадик рассказывал Маше анекдоты про нового вождя и про его дела, но Маша, хоть и смеялась, их не запоминала – а оно ей надо? Главное, то, что никуда младшенький особенно не ходил, ночевал всенепременно под родительским кровом и о том, чтобы привести пред Машины очи невесту, речи не заводил. Шел ему уже двадцать восьмой год, а это означало, что он почти что старый холостяк и, даст-то Бог, уже и не женится. Правда, Вадик время от времени заговаривал о том, что надо бы Маше отрегулировать отношения с семьей старшего сына, и тетка подталкивала, и ее муж зудел, но Маша стойко держалась за свое – ребенок у невестки не от сына, а сама невестка как есть натуральная проститутка. Утешало и обнадеживало Машу еще и то, что новые руководители принялись обильно сажать старое начальство: за взятки, воровство, за привилегии, но это скорее было знаком свыше – есть справедливость, есть… Поскольку Машина «невестка» в последние годы тоже выбилась в городские руководители, даже получила за это двухкомнатную квартиру, то Маша сладко, втайне, мечтала: а вдруг ее посадят и сын вернется на мамины пирожки?…
Тем более Маша наконец вышла на пенсию, денег стало больше, и кормить сыночков она смогла бы обильнее. Жаль, что не лучше – потому что с фальшивой своей «невесткой», работавшей в горисполкоме при дефиците, Маше по ассортименту было не тягаться, но все-таки. Однако этого опять по-Машиному не случилось, и Володя продолжал жить в той своей «семье».
А в один прекрасный день младшенький, для приличия сунувшись посоветоваться с матерью насчет подарка и получив гневный отпор, ругнулся и ушел к брату на празднование его тридцатилетия. Маша даже как-то этого не ожидала – действительно, давно она Володечку не видела, ох как давненько… Даже забыла, что ему должен стукнуть тридцатник… Да, взрослый мужчина. Женатый, ребенок есть… Квартира, работа. А мама как же?
– Неужели уж и теперь с ним не помиришься? – заглядывая в Машино хмурое лицо, спросила тетка. – Живут они хорошо, чего ты?…
– А я с ним и не ссорилась, – фыркнула с вызовом Маша. – Пусть возвращается. Я приму.
– Опять ты за свое, – покачала головой тетка, доливая кипятка в заварной чайник. – Никак не отступишься.
– И не отступлюсь.
– А зря! На вот, посмотри.
Тетка сунула ей в руки какую-то довольно большую глянцевую фотографию. Знала бы Маша, что ей дают, – пальцем не прикоснулась бы! Но от неожиданности все-таки взяла и…
Там было, видимо, снято это Володькино тридцатилетие. Гости стояли полукругом, все чуть навеселе, улыбающиеся, нарядные, с бокалами. Когда Маша вгляделась, то узнала своего старшенького! Слева был Вадик, а справа эта его «жена», в костюмчике, щупленькая, с темными кудряшками вокруг лица.
Невольно, не в силах оторваться, Маша цепко, быстро обсмотрела лицо старшего сына. Оно стало суше, черты лица определеннее, чуть наметились залысины на лбу. Главное, несчастным, голодным и загнанным он не выглядел. Вполне довольным и счастливым. Без нее. Без мамы…
– Что ты мне даешь! – Маша отбросила карточку чуть ли не в лицо тетке.
Та от испуга заморгала, неловко поймала ее, летевшую аккурат в чашку с горячим чаем.
– Мань, а поделикатнее нельзя?! – прикрикнул вошедший в этот момент на кухню «дядька».
«Вечно он… как черт из рукомойника», – раздосадовалась Маша.
– В гостях вроде?! Пора бы вести себя научиться – на пенсии уже, а? Все воюешь да воюешь.
Маша почувствовала в груди такое сжатие – как перед тем, когда она начинала без удержу садить матом, повергая в оторопь даже опытных по этой части односельчан. Но ссориться с практически единственными родственниками было совсем ни к чему. Ведь кроме них и идти-то в случае чего не к кому.
Маша с огромным усилием взяла себя в руки. От этого рот перестал открываться вовсе, и Маша буквально просипела через зубы:
– Извиняйте, Александр Иванович. Мы деревенские, по-другому не обучены.
– А в деревне что – уважению к старшим не обучали? – щурясь, покачал головой «дядька». – Ерунду городишь, Маш.
Маша не ответила и встала.
– Пойду я. Спасибо за угощение.
– … Ты все-таки подумай, Маня, – сказала, провожая ее в дверях, тетка. – К шестидесяти ведь тебе… Как одной-то?
– Я не одна, – передернула плечами Маша. А потом гордо и сладко улыбнулась. – У меня Вадичка есть.
Хоть и стоял на дворе декабрь, а все была клеклая, плюсовая погода, со снего-дождем в воздухе и под ногами. Маша ходила в тряпичном пальто, купленном, в крике и препирательствах, на заводской распродаже, и вокруг народ больше ходил в осеннем, проклиная сырость, потому что все хуже становилось в магазинах с обувью. И когда хилым, промозглым утром у Машиного стеклянного загончика остановилась женщина в ярко-зеленом пальто, протянула пропуск в пластиковом мешочке, Маша только подумала: а ведь и на Новый год снег, поди, не ляжет, раз такая теплынь до сих пор…
Женщина прошла на территорию, и только тут Машу словно ушатом холодной воды окатило: да это ж та самая Галька, на которую ей еще весной указали как на сыночкину зазнобу… Пропуска ей все совали и совали, а Маша пыталась припомнить, куда она сунула пакетик, полученный от зеленого пальто… Когда вслед за служащими прикатила и прошла волна рабочих, Маша, даже не передохнув, принялась просматривать пропуска итээровцев, к которым, без сомнения, относилась и эта баба.
– Что-нибудь не так? – спросил у нее проходивший мимо начальник охраны.
– Проверяю, чтобы так, – с достоинством ответила Маша, не прекращая лазанья.
«А вот и она!»
Начальник, чуть постояв рядом, удалился. Маша, пытаясь успокоиться, села и будто исподтишка, воровато взглянула на пропуск.
«Точно – Галина! Она… Змея подколодная… Ух, убила бы!»
Лицо на фотографии было красивым, продолговатым, с пухлыми, ярко накрашенными губами – даже на крошечной карточке видно, как намазалась!.
«А чего это я расстраиваюсь-то? – вдруг одернула сама себя Маша. – Еще не хватало! Когда это мне Клавка плела, что Вадичка за этой сыкухой страдает? У, весной еще!.. И ничего не было. Вранье все это. Нашим бабам только намекни – такую историю распишут!.. Чего было и чего не было. Поговорит парень с девчонкой – и все уже, «она от него аборт сделала!». Может, эта проститутка сама под Вадичку роет – это может быть, да… А он? А он одну маму любит. Он знает, что мама никогда его не выдаст».
Маша еще раз посмотрела на карточку, запомнила, что эта Галька – ведущий экономист, и сунула пропуск назад в ячейку. Как бы эти сутки проклятущие досидеть без проблем… Холодно, сыро, через щели с улицу тянуло, и двор, разъезженный машинами, тоже не внушал радости. Подремать бы, но ходят и ходят эти все…
И все же, когда после пяти вечера через проходную двинулись начальники и итээровцы, Маша услыхала хорошо запомнившийся номер и фамилию – Феоктистова. Она мелко дрожащей рукой протянула зеленому пальто пропуск, а сама жадно вцепилась взглядом в лицо за стеклом. Видно было плохо – на дворе давно стемнело, а лампочки в целях экономии везде по заводу был вкручены слабые, едва живые. Чувствуя, как открывается сам собой рот, чтобы сказать подлюке Феоктистовой что-нибудь эдакое, Маша успела заметить, что лицо у этой Гальки красивое, не похожее на широкие лица выселковских баб, продолговатое и даже зимой заметно смуглое.
Феоктистова буркнула обычное для этой ситуации «спасибо, до свидания» и удалилась во мрак за проходной.
– До свиданьица вам, – едва просипела Маша.
Раздумывать о том, выглядела ли Феоктистова виноватой и не стыдно ли ей было смотреть в глаза несчастной старухи, у которой та собиралась украсть сына, было некогда. Наработавшиеся до умопомрачения начальники всякого ранга перли на выход плотным косяком, и Маша только и успевала брать и раскладывать пропуска. К шести часам все угомонились. Маша, оставшись одна в неуютном стеклянном закутке, принялась размышлять: а может, эта гадина и не знает, что Маша – это мама парнишки, на которого она охотится? Или не узнала ее в платке и казенном ватнике? А что – может быть… Все дежурные были примерно одного, пенсионного возраста, все полные и покрывались темными, вдовьими платками.
«Может, не знает… А как же она так – на моего Вадичку глаз положила, а меня не знает? Или просто в расчет не берет? Ага… Думает, если морду намазала, ей все так и пройдет? Ну уж нет! Старшего я проворонила, а уж младшенького не отдам. Не отдам!»
Когда в заводоуправлении погасли все окна, Маша поковыляла через двор на первый этаж здания, чтобы отогреться и чуток поспать.
«Да, зря тогда, когда Володька с «этой» хороводился, я их так… Похитрее надо было бы… Познакомиться, присмотреться к этой… Да и потихоньку-полегоньку сделать что-нибудь, чтоб она сама Вовку бросила… Увидел бы, кто его по-настоящему любит, убедился!»
Но старший сын был, похоже, безвозвратно для Маши потерян, а младшего нельзя было отдавать ни под каким видом… Остаться одной в этом доме, без помощи по хозяйству… Да и бог с ним, с этим хозяйством! Сыночку бы не упустить, любимого, кровинку… Похитрее надо бы как-то».
С этой мыслью – внедриться по-шпионски в отношения сына с этой Галькой, развести их по-умному, вот это как надо! – Маша и засыпала у себя в комнате. Прежних ошибок она не допустит, нет.
И утром следующего дежурства, когда на дворе наконец похолодало и приморозило, Маша спросила у своей сменщицы, некогда открывшей ей глаза на гнусные происки Феоктистовой, – ну, как бы между прочим, показывая на пустую ячейку:
– Это ты мне про эту Гальку-то пела – будто она за моим Вадиком увивается? Феоктистова ее фамилия, что ли?
– Галечка за твоим парнем не увивается, подруга, – ехидно скривилась сменщица. – Это он уж который год по ней сохнет-засыхает. Вот это я говорила. Да это все знают…
«Одна я не знала, ага!»