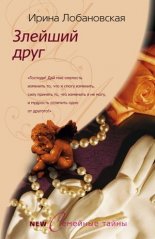Не бойся, я рядом Гольман Иосиф

Как всегда своенравно, против воли родителей, она вышла замуж за сослуживца, парнишку с Урала.
Очень хороший малый, даже Парамонов, изначально не любивший любого своего конкурента, должен был признать: очень хороший.
Когда у Лидочки начались эти странности – он стал ее верной тенью.
Странности поначалу не напрягали: ну, в печали человек, с кем не бывает? Устала, может.
Потом такой уставшей она становилась все чаще и чаще.
Самое страшное, что непонятно было, отчего.
Через два года она ушла с работы. Она просто не могла думать о работе, напряженно размышляя о чем-то своем, посторонним недоступном.
Могилевский-отец прошел все этапы понимания ее состояния.
От нулевого – когда она еще после десятого класса вдруг не пошла сдавать экзамен в вуз. Отказалась – и всё. Сказала, не до того. А до чего же талантливой девушке, всю школу проучившейся на «отлично» и последний год вообще не расстававшейся с многочисленными репетиторами?
Лида легла в постель, не вставала и ни с кем не разговаривала.
Поворачивалась только к брату, когда он садился рядом и брал ее за руку.
Могилевский буквально сходил с ума. Сначала от злости: все родители к «поступательному» году своих деток становятся немного маньяками. Потом, когда понял, что все серьезно, – от страха за дочь. Через некоторое время к ней вызвали известного психиатра.
Это уже потом Вовчик ему рассказывал, а тогда все было покрыто глубоким мраком. Потому что девушка из «психушки» – в МАИ? Нет, это нереально.
Она и не была в «психушке». Ни дня.
Доктор приезжал к ним по вечерам, Лидочка послушно пила лекарства. Поначалу став от них бревном, кулем – потеряв все свое очарование и интеллектуальное могущество. А потом, дней через пять, может быть, через неделю, вдруг постепенно восстановившись до прежней Лидки. Ну, может быть, чуть более Несмеяны, чем даже раньше.
Всем было велено забыть.
Могилевский – не без помощи отца Парамонова – решил все вопросы с не вовремя сданными экзаменами.
Они были сданы честно и ненатужно – естественно, на одни пятерки, просто позже, чем у других абитуриентов.
Лида стала студенткой.
На второй год взяла еще одно образование, вечернее.
Казалось, все налаживается. Могилевский-отец гнал от себя дурные мысли. А большинство посторонних ни о чем и не догадывались.
Дальше – диплом с отличием. Точнее, два красных диплома.
Потом – муж, не сразу, но принятый в семью: парнишка был толковый и влюбленный безмерно.
Потом дочка родилась чудесная, новоявленные дед и бабка были счастливы.
И одновременно – все учащающиеся приступы хандры. И соответственно, все учащающиеся приезды психиатра.
У нее уже был собственный психиатр. Знающий ее и ее заболевание вдоль и поперек.
Ей постепенно становилось хуже.
Доктор сражался за девушку, как мог: все, что имелось в тогдашнем небогатом арсенале, шло в бой.
Как раз появились на Западе антидепрессанты очередного, уже третьего, поколения. Они тоже – через многочисленных знакомых – были доставлены Лидочке (в России к тому времени депрессия и болезнью не считалась, максимум – производной от других недомоганий).
После применения патентованных новинок ей стало явно лучше.
Заметно лучше.
Это даже Парамонов почувствовал, все еще надежд не потерявший. Даже не надежд, разводиться-то молодые супруги точно не собирались, а не потерявший чувств.
Обрадовался очень.
Они часто по телефону беседовали, особенно когда Лидка уже ушла с работы.
Так вот, ей явно становилось лучше.
И все тихо, боясь сглазить, ждали счастливого конца.
А потом Олегу позвонил Вовчик и произнес несвойственный ему текст. Ни по построению фраз, ни по содержанию.
Он сказал:
– Должен тебя проинформировать, Олежек. Моя сестра Лида сегодня умерла. Покончила с собой. Похороны послезавтра, ты в морг приедешь или на кладбище?
Парамонов не знал, что ответить.
Поверил-то он мгновенно – не раз сверял ее состояние с собственным – а горло перехватило.
Тогда Вовчик решил за него.
– Приезжай на Николо-Архангельское, к двенадцати тридцати. – И назвал участок, на котором будет расположена Лидочкина могила.
На похоронах было как на похоронах.
Тихо плакала Лидина мама.
Могилевского-папу поддерживал под руку отец Олега.
Доктор Лидочкин тоже пришел. На нем лица не было, хотя никто его не винил.
Вот тогда-то и узнал Парамонов – от него, вдрызг расстроенного, – страшные цифры суицидов при депрессиях. Оказалось, не только у каждого хирурга собственное кладбище, но и у каждого психиатра – тоже.
Тогда же, в беседе с ним, доктор и предположил причину происшедшего.
После интенсивного длительного лечения ей впервые стало существенно легче. Она избавилась от груза беспредельной тоски, который давил ее годами.
Но у депрессивных фаз есть «хвосты» – уже не так сильно, как в активный период, однако тоска и тревога могут возвращаться.
Проблема же в том, что «леченый» и уже привыкший к более комфортному состоянию больной, столкнувшись с новой атакой, оказывается перед ней более уязвимым. Как солдат, вернувшийся с фронта на побывку и вынужденный после ее окончания, отдохнувший и разнеженный, снова ехать в окопы, под пули и снаряды.
Из-за этого выходы из депрессий – в процентном отношении смертей – могут оказаться не менее опасными, чем активные фазы.
Самое же ужасное, что на своем телефоне (тогда уже появились автоответчики) Парамонов обнаружил два неотвеченных Лидочкиных вызова.
– Не стоит вам себя винить, – теперь уже психиатр уговаривал его, Парамонова. – Все просто роковым образом сошлось. Она, почувствовав приступ, приняла несколько таблеток – не помогло. И не могло помочь, время нужно. Муж уехал на объект. Родители с внучкой – на даче. Я – в клинике. Телефоны недоступны. А тут – приступ уже вроде бы побежденной тоски. И открытая балконная дверь… Так что здесь никто не виноват. Это война. Кого-то вытаскивают, кого-то теряют.
Психиатр убеждал Парамонова и Лидочкиных близких, что надо успокоиться, но всем было понятно, что сам-то он успокоится не скоро.
Парамонов страшно переживал смерть Лиды.
Он долго не мог привыкнуть, что ее больше нет – насовсем.
И одновременно – сталкиваясь с собственными проблемами – завидовал ее уходу и ее решимости.
Свои стихи он редко кому показывал.
А то, что написал тогда, – вообще никому.
В нем он назвал Лидочку сестрой.
А что, так оно, по сути, и было.
Моя сестра
- Моя сестра не была шустра.
- В ней не было злого огня.
- Но в детских играх она была
- Немного смелей меня.
- Моя сестра была очень добра,
- Честна и собой хороша.
- Одна проблема – с семнадцати лет
- Ее болела душа.
- Она жила, и дочь родила,
- Сто лет без счастья и бед.
- Но всё, что людям приносит пользу,
- Ей приносило вред.
- И вот сестра наелась таблеток
- И выбросилась из окна.
- Вокруг было много разных людей.
- Сестра там была одна.
- Все это случилось в душный август,
- При свете сонного дня.
- Моя сестра опять оказалась
- Немного смелей меня.
Парамонов, вспомнив стихотворение, вдруг подумал, что Ольге можно было бы его показать. Раз уж она такой ценитель его творчества.
Так с чего начались его невеселые воспоминания?
Как раз с Ольги.
И с мысли о риске родить такого же страдающего ребенка, как он сам.
Но Вовчик ведь не оказался больным. Наоборот, его жизнелюбия на семерых хватит.
Надо будет у Марка Вениаминовича спросить: можно ли было бы сегодня спасти Лидочку?
Хотя что он скажет? После десяти лет со смерти не его пациента.
За раздумьями Олег не заметил, как почти дошел до работы: две остановки метро – не такое уж великое расстояние, если привык ходить быстро.
У входа в издательство столкнулся с Ольгой. Или она опять его поджидала?
– Слушай, я хотела наедине еще раз сказать: ты ни о чем не волнуйся. Это все не твои дела. А то начнешь прокручивать и продумывать.
– Оль, я самостоятельно все прокручу и продумаю. Твою благородную позицию я уже воспринял.
А сам улыбается, глядя на нее и мысленно вытаскивая из вестибюля, обложенного серыми полированными мраморными плитами, на берег обмелевшего подмосковного озерца.
Ольга в ответ тоже разулыбалась – она, как и любой хороший редактор, больше верила интонации, чем словам.
Они вместе, проигнорировав лифт, начали подниматься на свой седьмой этаж.
14
Татьяна удивлялась сама себе.
Совсем недавно, пусть и в жутком стрессе, став невольной участницей ужасной драмы, бросилась в объятья незнакомого мужика.
И – себя-то не обманешь – даже некоторое, хоть и недолгое, время ожидала чего-то, что должно было бы перевернуть всю ее жизнь.
Иначе, наверное, несмотря на всю трагичность момента, все же не бросилась бы.
А вот он позвонил – как и обещал, честный малый, к тому же ружье его осталось у нее в машине – и никаких еканий сердца.
Просто человек, которому она не сумела спасти жизнь, но который, к счастью, не погиб.
Она рада за него.
И это, пожалуй, все.
Представить сейчас себя и его на одной кровати – только чувство смущения получается. Да чего там смущения – стыда кошмарного, Танька Лога привыкла называть вещи своими именами.
Хорошо, хоть малый попался понимающий, не требовал продолжения банкета.
Нет, ни о чем Логинова не жалеет. Что случилось, то случилось.
Если происшедшее помогло парню выжить, кто ее за это осудит?
Единственное, жалко Марконю. И зачем, дура, ему рассказала?
Но, видно, тоже было необходимо: она же не осознанно донос на себя сделала. Просто почувствовала необходимость сказать – и сказала.
А Марконю все равно жаль.
И вчера было жалко, когда он ей диван собирал.
Ее категорические отказы, особенно на фоне мгновенного и уж точно никак не объяснимого секса с несостоявшимся самоубийцей, для Маркони выглядели, наверное, тем более обидными.
Помешкав с минутку, набрала Марконин номер.
Когда тот ответил, вдруг поняла, что не знает, что сказать.
Набрала, потому что стало жалко Марконю.
А речь не придумала.
– Алло! – уже второй раз сказал профессор. Голос, обычно бархатистый приятный баритон, стал требовательно-недовольным.
– Это я, Марконь, – наконец просто сказала она.
– Танька? – сразу обрадовался Лазман.
– Да, – подтвердила та, лихорадочно синтезируя тему разговора.
– Случилось что? – слегка встревожился бывший муж.
– Нет, просто поболтать захотелось, – ничего так и не придумав, честно сказала она.
– Прогресс! – возликовал всегда желавший воссоединения Марконя. – Я ж говорил, все пройдет!
– Ну, так уж серьезно не надо, – охладила его бывшая жена. – Мы ж просто болтаем.
– Любая дорога начинается с первого шага, – серьезно заявил тот. Профессор обожал восточные мудрости.
Они и в самом деле поболтали на какие-то отвлеченные темы.
А потом Лазман, человек высочайшей ответственности, доложил Татьяне Ивановне, что ее самоубийца на прием так и не приходил.
Профессору было неприятно упоминать об этом неслучившемся пациенте. Не в силу его болезни, а из-за того, что рассказала ему об их странной встрече бывшая жена.
Но он готов был в любом случае выполнить свой врачебный долг.
Если бы, конечно, больной пришел.
– Как «не было»? – теперь удивилась Татьяна. – Он же перезвонил. Сказал, что был у тебя на приеме. И дальше будет ходить. И мы договорились, что он ружье свое заберет.
– Больше ни о чем не договорились? – прорвалась у Маркони обида.
Татьяна промолчала, и этого было достаточно, чтобы профессор пошел на попятную:
– Прости.
– Ничего, – забыла Логинова. – Мне просто странно очень. Олег Сергеевич каждый раз меня удивляет.
– Олег Сергеевич? – теперь уже удивился Лазман. – Журналист из научно-популярного журнала?
– Я не знаю, где он работает, – суховато ответила Татьяна. А про себя подумала: «Чего я-то обижаюсь? Бедный Марконя!»
– Точно, он, – сделал вывод профессор. – Как я сразу не догадался! Ему тяжело дался первый визит, поэтому зашел как журналист.
– Ты точно сможешь к нему спокойно относиться? – спросила бывшая жена. – Может, его лучше какому-нибудь твоему коллеге передать?
– Ты за меня переживаешь или за него? – вопросом ответил Марк Вениаминович.
– За тебя, Марконь, – честно сказала Логинова.
– Ну, тогда справлюсь, – гарантировал вновь окрыленный профессор.
И как в первый день, произнес слова, давно ставшие у него пожизненным рефреном:
– Я же доктор!
15
Звонок Лазмана был полной неожиданностью для Парамонова.
Во-первых, тем, что звонить и договариваться о встрече должен был журналист, а не интервьюируемый.
Во-вторых, первый вопрос профессора оказался странным: может ли Парамонов говорить спокойно, не стоит ли кто рядом с ним.
Получив утвердительный ответ, профессор предложил раскрывать столь волнующую тему на конкретном примере проблем самого Парамонова. Разумеется, не раскрывая имени больного. А потому было бы разумно – коли Парамонов журналист и редактор – предварительно попытаться самому сформулировать признаки своего заболевания.
Олег согласился, и вот теперь сидит перед чистым листом бумаги, то бишь экраном компьютера, и пытается структурировать и разложить по пунктам собственную пожизненную беду.
Ну, с начала, так с начала.
Первые симптомы – наверное, с детского сада.
Летний, видимо, день. Или самое начало осени – деревья и кусты еще зеленые.
Они играют на улице, в своей группе, около деревянного желто-синего корабля. Тогда он казался большим и практически настоящим.
Зашедшие на их площадку Лешка и Вовик – до сих пор Парамонов помнит их имена – объяснили мелкому, из средней группы, Олежке, что его папу забрали на Луну волшебные палочки.
Олежка детально их себе представил, в отличие от Луны: такие круглые, черные и с загнутой ручкой. Как у дяди Вити, папиного сослуживца.
Но эти палочки были очень волшебные и очень злые.
Так что теперь у Олежки не было не только мамы, но и папы.
Пацан проревел до вечера, отказавшись и от обеда, и даже от мороженого, которое достала из личного пакета сердобольная воспитательница.
Уже дважды приходила медсестра. И если бы дядя Дима, водитель отца, не приехал в этот день пораньше, то, наверное, вызвали бы врача из поликлиники.
Дядя Дима приехал, взял Олежку на руки и добился от него причины его горя. Уже давно зная мальчишку, отнесся к проблеме серьезно:
– Хорошо, – сказал дядя Дима. – Когда волшебные палочки увезли твоего папу?
– Не знаю, – запутался уставший от тоски Олежка. – До обеда, наверное.
– А я его видел час назад! Живого и здорового. И не на Луне, а в КБ.
Как ни странно, это успокоило мальчика.
Рыдания еще некоторое время продолжились, но постепенно затухая: как сказали бы врачи, сознание больного тревожной депрессией остается критичным к происходящему. Если точно доказано, что тревога – ложная, то больной действительно успокоится.
До следующей тревоги: сама-то болезнь никуда не делась, и сохранный мозг просто обязан придумать душевному дискомфорту хоть какие-то рациональные объяснения. Вот он и цепляется за любые реальные, пусть и малозначащие по трезвом размышлении поводы: получается, что депрессия – одна, а ее «одежки» – разные.
Для закрепления эффекта – дядя Дима не был психологом, но Олежку наблюдал уже давно и к мальчишке относился тепло – водитель отвез ребенка из садика не домой, к няньке, тете Паше, а прямо на работу, к отцу.
Там знали о семейных проблемах Парамонова-старшего и пропустили машину с водителем и ребенком в закрытое предприятие без оформления пропусков и допусков.
Остаток вечера – пока отец не освободился – Олежка провел в его просторном кабинете: то на сильных папиных руках, то, в полудреме, на диване в маленькой комнате отдыха, укрытый, как пледом, большим отцовским свитером.
После каждого такого приступа оставалась душевная усталость, физическая слабость и страх будущих бед. То есть их тревожное ожидание.
Следующее воспоминание – тот же детский сад.
Олег уже большой, сам ходит в старшую группу.
И обидели теперь не его. Обидчик – он сам.
До сих пор помнит кусочек черной гарьки – остатки заводского шлака, наверное, – которым посыпали дорожки в их садике.
Мелкаши совсем озверели – обкидали этой гарькой ребят из старшей группы.
Те в долгу не остались.
И – о, ужас! – гарька, пущенная крепкой рукой Олега, попала в лицо какому-то шустрому мелкашу.
Тот закричал, завизжал даже, и схватился за правый глаз.
У Олежки упало сердце.
Он выбил глаз мальчишке!
Чувство вины придавило к земле, сделало ноги ватными, а сердце – стучащим через раз.
Ему стало так плохо, что виновником ситуации пришлось заниматься больше, чем пострадавшим. С тем-то как раз все обошлось: легкий пористый камешек попал все же не в глаз, а совсем рядом, оставив небольшую царапину на самом выходе глазной впадины, со стороны виска.
Короче, ровно ничего страшного.
Но только не для Олежки.
Снова тихая, упорная истерика. Снова слезы до изнеможения.
Нянька, имевшая уже опыт, приняла единственно правильное решение. Несмотря на тихий час и возражения воспитательницы – та считала нянькины действия крайне непедагогичными, – женщина взяла Олежку за руку и отвела в младшую группу.
– Вот, смотри! – тыкала она в Олежкину спину сухой, но жилистой ладонью, поворачивая его в сторону легкораненого бойца. – Вот он, красавец! Ну-ка, сосчитай ему глаза! Оба на месте?
Испуганный Олег сосчитал – оба действительно были на месте.
Мелкаш, ставший неожиданно героем дня, радостно скалил зубы.
Успокоение, как и в прошлый раз, пришло постепенно.
Но в отличие от прошлого раза, когда причина страха была устранена раз и навсегда, впервые наблюдался виток тревоги.
Ночью, уже дома, Олежке пришла в голову мысль, что удар гарькой мог ведь и не сразу сказаться. Вот придет он завтра в садик – а мелкаш в больнице. Или уже умер.
Чушь?
Несомненная, скажет любой здоровый человек.
Вот только Парамонову-старшему пришлось полночи просидеть рядом с мальчишкой, а утром, срочно поменяв планы, поехать с ним в детский сад и показать ему целого-здорового мелкаша.
И что самое подлое – это уже сейчас думает Олег, вполне взрослый, – что, когда ожидаемая страшная тревога все-таки благополучно разрешается, больной на голову пациент чувства радости не испытывает. Ну, может быть, только первые мгновения.
Это игры все того же критичного сознания: ведь логика и не считала случай ужасным. Бешеную тревогу вызывало вовсе не сохранившееся в норме мышление, а выбитое из нормы подсознание.
И все же по-настоящему неприятной новостью прожитой с этим мелкашом ситуации был уже упомянутый «виток тревоги».
Вот вроде бы все, успокоение наступило.
Но проходит время, и страх нарастает вновь, заставляя логику хоть как-то, хоть самым нелепым образом, но подкрепить, оправдать этот возврат.
Глаз не выбит сразу?
Но могло быть сотрясение мозга.
Он жив и весел на следующий день?
Но заражение крови от царапины может наступить и через неделю.
Хотя, конечно, каждый следующий «возврат» был слабее предыдущего. И через ту же неделю ситуация – в ее чувственном виде – была забыта напрочь.
Однако по прошествии тридцати пяти лет он ее помнит и о ней рассуждает!
Короче, что он не такой, как все, Парамонов-младший понял очень давно. Едва ли не в дошкольном возрасте. Что, впрочем, нисколько не упрощало его жизни.
Невеселые воспоминания прервал Ольгин приход.
– Ну, как дела?
– Ничего дела.
– Ты второй раз когда к нему пойдешь? – понизив голос, спросила Будина.
Парамонов понял сразу: про первый визит к Лазману, он, как и обещал, отчитался обеим заинтересованным женщинам.
– Завтра-послезавтра, – лаконично ответил Олег.
– А я рассказики твои прочитала, – весело сказала Будина. На этот раз литература пришла к ней законным путем – санкционированным, так сказать, доступом.
– И как? – делая вид, что это его не интересует, спросил Парамонов.