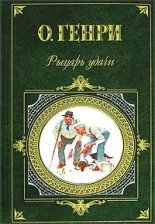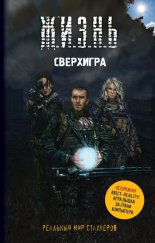Нежданно-негаданно Гордон Люси
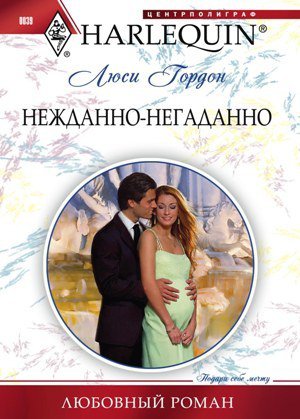
Читать бесплатно другие книги:
Свою долю он обменяет на пакет таблеток, и к нему вернутся хорошие сны. Нормальные сны, в которых он...
За счет своих прекрасных вкусовых качеств и уникальных полезных свойств перцы стали одной из самых п...
С помощью заговоров, молитв, рецептов народной медицины и советов, содержащихся в этой книге, можно ...
Пожалуй, это самая важная и интересная книга из всех книг про сталкеров. Реальная история создания и...