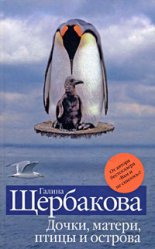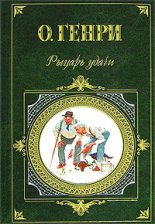Плохие слова (сборник) Гайдук Борис

Может быть, за год мы вместе что-нибудь придумаем.
А чтобы сегодня тебе было не так больно и не так страшно на кресте в пустыне, я по секрету скажу, что уже послезавтра ты воскреснешь, сядешь одесную Отца и снова будешь смотреть на нас сверху.
А я буду тебе молиться, и тогда, может быть, мой папа… тоже как-нибудь вернется… из того госпиталя…
Вдох, пауза, выдох
Впервые взять в руки эту книгу Евгения Леонидовича подвигли трагические события в семье и последовавшие за ними мучительные размышления о вечных вопросах, вплоть до сомнений в целесообразности своего дальнейшего существования. Евгений Леонидович выкопал из книжных запасов подаренный кем-то полулегальный том и положил на журнальный столик, поближе к любимому, продавленному многими годами креслу.
Финансовое образование и методичный склад характера склонили Евгения Леонидовича к чтению неторопливому и скрупулезному. Книга так и осталась лежать на столе, потому что гости или посторонние люди к Евгению Леонидовичу теперь не ходили, и стесняться было некого. Сроков ознакомления с материалом тоже, разумеется, никаких не было. И пустыми желтыми вечерами Евгений Леонидович тихо вчитывался в тяжеловесные строки, тратя на это примерно по полчаса в день.
Первую часть он преодолевал выборочно, с удовольствием прочитав разве что Бытие, Экклезиаста, Песнь песней царя Соломона и некоторые куски у Иеремии. Несмотря на то что боль утихла, жизнь вошла в новое русло и по-своему даже обустроилась, Евгений Леонидович не оставил монотонное вечернее чтение и добросовестно перечитывал списки утвари, похищенной врагами из Храма, или особенности тогдашнего бессмысленно сурового богослужения. Почерпнуть из книги что-нибудь действительно нужное он давно уже не надеялся и держал ее при себе, как держат громоздкий, не очень удобный, но любимый и привычный предмет вроде продавленного кресла.
Но несколько лет спустя первая часть завершилась и началась вторая, и вечернее спокойствие Евгения Леонидовича оказалось нарушено. Бухгалтерский ум, привычно сводящий дебет с кредитом во всем, к чему бывал направлен, воспротестовал от многочисленных нестыковок в столь важном документе.
Кредит решительно не сходился с дебетом. Иногда Евгению Леонидовичу хотелось взять карандаш и перекрестными проводками указать на явные расхождения, или даже внести поправки, как если бы он проверял годовой баланс у нерадивого коллеги. Матфей показался ему не слишком наблюдательным, Марк — просто-таки малограмотным, Лука — чрезмерно велеречивым. И только Иоанн с органно-торжествующей вступительной нотой «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог» произвел впечатление и заронил мысль о том, что все прежние расхождения могли на самом деле оказаться мнимыми, а баланс составлен необычно только потому, что предназначен к сдаче в какие-нибудь особые инстанции непрямого подчинения. Евгений Леонидович вернулся к Матфею, а затем и к остальным свидетелям описанных событий. Собственно, свидетелями теперь ему казались только Марк и Иоанн. Матфей явно всего лишь отредактировал простодушного Марка, а Лука и не скрывал, что выполнил работу на основе имеющихся в его распоряжении первичных материалов.
Евгению Леонидовичу показалось, что при некотором изменении системы координат многие прежние недочеты получили бы объяснения, как если бы традиционный баланс составили в системе ГААП. Желая добиться полной ясности, он снова взялся за Матфея, потом за Марка, и так еще несколько раз подряд, и только потом перешел к Посланиям и Откровению.
Примерно тогда же в книге зарубежного автора Евгений Леонидович прочел о человеке, который хотел научиться дышать так, чтобы все время незаметно для себя проговаривать при каждом вдохе и выдохе Господню молитву, но у которого ничего не выходило. Уточнив текст молитвы, Евгений Леонидович попытался сделать то же самое, и у него неожиданно все сразу получилось. Короткая молитва поместилась в один длинный вдох, разделенный на пять почти одинаковых маленьких отрезков дыхания, и такой же неспешный непрерывный выдох. Пораженный легкостью решения задачи, Евгений Леонидович снова обратился к зарубежной книге и отнес проблемы ее персонажа к языковым трудностям. Видимо, текст молитвы на ином языке оказался намного короче или длиннее человеческого дыхания и не так накладывался на вдох и выдох, как вышло у него. И Евгений Леонидович, с легкостью приобретший то, что никак не давалось другому, стал время от времени пропускать сквозь свое дыхание эти несложные слова. При этом он не испытывал никаких религиозных чувств, не задумывался о спасении души и часто даже о смысле произносимых, точнее говоря, продыхаемых слов; это выходило у него рефлекторно, так же, как некоторые люди щелкают пальцами только потому, что умеют это делать. Обычно Евгений Леонидович никогда не произносил этих слов вслух, тем более в церкви.
В церкви он вообще был за свою жизнь всего несколько раз, стыдливо избегая при этом массовых молений и общения со служителями. Узнавая в некоторых иконах и фресках героев своих вечерних чтений, Евгений Леонидович сдержанно радовался, как будто увидел по телевизору не слишком близких знакомых.
Перемены, произошедшие в стране, не сразу затронули Евгения Леонидовича. Сначала в его жизни ничего не поменялось, потом трест закрыли, и Евгений Леонидович потерял работу и некоторое время даже бедствовал. Потом большой опыт, кое-какие связи и умение не очень быстро, но основательно усваивать все новое и нужное, помогли устроиться, а потом и сделать приличную карьеру в финансовой компании. Незадолго до банкротства, судебных дел и арестов ему снова повезло — вместе с верхушкой прежней компании у него получилось удачно перейти в нефтяную отрасль. У Евгения Леонидовича стало гораздо меньше свободного времени, зато появились новая квартира, новая мебель, автомобиль и, наконец, женщина.
В новом современном кресле оказалось совершенно неудобно сидеть подолгу и тем более читать книгу, да к этому времени Евгений Леонидович постепенно оставил эту привычку, и если открывал старый том, то скользил взглядом поверх страниц, а мыслями был далеко. В новой же квартире старая привычка прекратилась совсем, так же как и многие другие его старые привычки. Взамен них появились новые, более принятые в их кругу. В доме теперь снова бывали люди, и старый, некогда полузапрещенный, а ныне едва ли не модный фолиант снова был спрятан в задние ряды книг. Держать книгу на видном месте, но не читать ее казалось Евгению Леонидовичу неправильным, так же как на ночь оставлять на рабочем столе важные бумаги, вместо того чтобы прятать их в сейф.
Однажды в поездке, в гостинице, он заглянул в другую такую же книгу, которая оказалась в его номере в числе десятка совершенно новых, но случайно подобранных книжек, но желания прочесть хотя бы несколько строк он не почувствовал, захлопнул обложку и торопливо поставил книгу на место. Почти все тексты истерлись из памяти Евгения Леонидовича, а общее воспоминание о прежних чтениях теперь имело легкий и печальный привкус очень долгого, но в итоге успешного выздоровления. Так бывший больной с удовлетворением вспоминает свои первые шаги на костылях и тихую радость в связи с каждым новым вернувшимся ногам движением.
А вот произносить одним выдохом молитву Евгений Леонидович не разучился. Этот нехитрый навык оказался гораздо более стойким, чем многие прежние привязанности, таким же стойким, как, например, умение плавать или кататься на велосипеде. Пригодился, правда, этот навык Евгению Леонидовичу всего один раз. Его дыхание оказалось в тот момент недостаточно продолжительным, и на правильный пятисложный выдох воздуха не хватило, и последнее слово скомкалось, но все равно этот выдох был очень важным в жизни Евгения Леонидовича, последним.
Отец Михаил
С признательностью
отцу Алексею Кузнецову
за помощь и благословение
В бане завелись клопы, будь они неладны.
Ползают по полкам, таятся в углах. Когда топим, уходят, потом снова появляются. Пробовал закрывать заслонку, выкуривать дымом — не помогает.
Сосед Яков Никитич говорит, что он своих клопов вывел.
Поделился отравой.
Александра Филипповна, грузно прислонившись к перилам, стоит на крыльце, смотрит на мои приготовления. Заливаю кипятком соседский порошок, размешиваю палочкой. Кружатся в ведре соринки и нерастаявшие комочки.
Приступим, помолясь.
Дверь осела, скрипит, надо будет подтянуть и смазать.
Метелкой окропляю в бане все углы, щели между досками, укромные места за каменкой. Вот вам, живоглоты! Вот вам!
То же самое повторяю в предбаннике. Слазить бы на чердачок, но болит поясница. Отдохну, а потом все же заберусь и наверх. Иначе что толку?
Александры Филипповны не видно, наверное, опять прилегла. Совсем в последний год ослабела.
— Хоть бы дал Бог не лежать, сразу умереть, — все время повторяет.
А я в ответ:
— Погоди, душа моя. И полежишь еще, и побегаешь.
Смеется:
— Отбегали мы с тобой, пора и на покой.
Ладно, продолжим.
Поднимаюсь по лестнице, ползу на четвереньках. Темень, хоть глаз коли. Вслепую машу метелкой по сторонам, сам отворачиваюсь, чтобы отравы не нюхать и в глаза не попало.
Вот и сделано дело. А то совсем одолели, проклятые.
Теперь полезли обратно.
Нашариваю ногой перекладину.
Не свалиться бы.
Александра Филипповна в одежде лежит поверх покрывала.
— Голова закружилась, — виновато говорит. — Сейчас встану.
— Лежи, — отвечаю. — Дела пустячные, сам поделаю.
Всего-то надо вынуть из печи чугун, намять козам картошки. Туда же обрезки хлеба, немножко молока. На следующий год коз тоже будем сводить, держать уже тяжело.
Прошлой зимой к Рождеству поросенка забили и больше не брали. Александра Филипповна сначала все охала: как же мы будем без свинки. А как подкосило ее, так и примолкла.
Теперь и коз сведем, а молоко у Якова Никитича брать будем по три рубля за литр. Нам теперь много ли надо? Оставим десяток кур, ну и Рыжка, дом охранять.
От мятой картошки валит сытный пар. Козы несмело тычутся, обжигаются, вытягивают губы.
Морозы спали, хорошо. Третий день снежок сыплет, все периной прикрыл.
Белым-бело.
Пережить бы Александру Филипповну. Не бросить одну.
Захвачу-ка сразу дровишек для грубки, чтобы в другой раз не ходить. Пять, шесть… хватит. Кое-как порубал Василий. Корявые, толстые, в печь не лезут, разгораются плохо.
Ладно.
У печи угол треснул, пара кирпичей еле-еле висит на глине. Тоже надо бы приладить.
— Как ты там, душа моя? — заглядываю.
— Да как. Сам видишь как…
— Ну, не скучай.
Пора на службу. Воскресенье.
Церковь на горке стоит, небольшая, но видно издалека. В восемьдесят восьмом заново открыли, во всем районе вторая церковь была. Тут я поближе к родным краям и попросился, а владыка, царство ему небесное, утвердил. Молодых в такую глушь не заманишь. В Курове вон недавно ушла от молодого священника жена, не выдержала, а он и сам вскоре исчез, ни слуху ни духу. А до того месяц пил беспросветно. Так то еще Курово, не то что наш лосиный угол. Но зато и храм уцелел, вдали от начальства. При помещике еще поставлен, полтораста лет скоро будет. Уберег Господь. На освящение со всего района народ съехался, внутрь не поместились. Епископ Григорий приезжал освящать по полному чину.
Сейчас не то.
Отпираю дверь, сбиваю с валенок снег, оглядываюсь. Каждый раз боюсь, не пограбили бы. Но — нет. Не до того еще ожесточился народ.
Подходят Галя Пирогова и Вера Сильчугина, певчие.
Здороваемся.
Летом еще завидовские близняшки поют. Чисто, душевно. На каникулы приезжают. Денег у матери нет, чтобы на юг катать, вот и привозит к бабке с дедом. А что? У нас лес, речка. Грибов в прошлом году много было. И в храме попеть не повредит детям.
Облачаюсь. Беру крест.
Надеваю на себя — и всякий раз до мурашек замираю: могу ли еще служить? Имею ли разрешение?
Слушаю.
Раньше сразу все слышал. Сейчас уже почти ничего.
А все равно сюда никто не поедет. В Курово нового священника прислали только через месяц.
Опустеет храм, ох опустеет.
Ладно, присяду.
После службы ребеночка крестить, девочку Николая и Натальи Гурьяновых. Крестят сейчас всех, слава Богу. Отпевают тоже почти всех. А венчаются редко. Оттого и живут как зря.
— Батюшка, тут еще один креститься хочет. Из Залужья. Но денег, говорит, нет. Как быть?
— Ладно, покрестим. Только пусть службу отстоит. Не положено, конечно. Но пусть уж послушает, раз пришел. А то еще, пока ждать будет, и креститься передумает.
Ну, благослови, Господи.
— Иже на всякое время и на всякий час, на небе и на земли покланяемый и славимый…
Человек двадцать сегодня. Бабы, Виктор Сергеич хромой, Иван Маркович. Этот, из Залужья. Знаю я его, Томилин Иван. Ссутулился, по сторонам поглядывает. Видно, что первый раз человек на литургии. Крестится, будто крадет. На него смотрю, ему стараюсь служить. Пусть хоть так крестится.
Справа Катерина Федорова. Дочь похоронила, двое внуков на руках остались. Но, слава Богу, пенсия хорошая, в школе тридцать лет проработала. Вытянет ребятишек. Родственники есть, тоже помогут.
Ох, опять отвлекся. И без того ведь запинаюсь.
— Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки веков…
В праздники побольше народу бывает. А в Светлое Воскресенье и из соседних деревень приходят яйца святить, куличи. Даже из района люди ездят. По старой памяти, наверное. Сейчас уж и в районе храм возвели, хотя и наспех. Шумно тогда у нас бывает, торжественно. Ребятишки бьются крашеными яйцами. Хорошее островерхое яйцо ценится, припасается заранее.
А потом опять никого. Так и живем.
Незаметно переступаю ногами.
— Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного…
Совсем стало больно, поджилки трясутся. Ни мази не помогают, ни таблетки. Голос сбивается, на концы слов не хватает дыхания. Гурьяновы всем семейством тихонько заходят, и крестные с ними. Девочка на руках, спит, похоже. Ах ты, Господи, как бы еще не упасть!
Ладно, потерпим немножко.
— …да святится имя Твое, да приидет царствие Твое…
Вот теперь хорошо. Не совсем оставил, слава Богу. Наполняются стены молитвой, звучит храм. Всхлипывает девочка Гурьяновых, склоняется над ней с платком мать, отец оглядывается по сторонам и нерешительно осеняет себя крестом. Катерина Федорова в черном платке шепчет губами. Залужский притих, уставился себе под ноги.
Все.
Люди вереницей подходят к кресту.
Татьяна Тушина исповедуется. Больше никого. Причащаю ее Святыми Дарами.
Спешу в алтарь отдохнуть.
Вера Сильчугина бежит наперерез Гурьяновым, просит немного обождать.
Томилин топчется рядом.
В алтаре без сил падаю на стул. Вытягиваю ноги, шевелю пальцами. Нечего стонать, старый дурак, радоваться надо. Две души сейчас прибудет, а тебе их в Царство вести.
Вот и славно.
Заглядывает Варя.
— Как ты, батюшка?
— Сейчас иду. Еще минутку.
Елею нужно купить. И свечей. Стены покрасить я уж и не надеюсь. Ладно, пора.
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…
Девочка ерзает, хнычет. Начинает реветь. Жарко ей, завернули, как голубец. Крестные молодые, неумелые, зря только тискают ребенка. Ничего, ничего.
Залужский не поднимает глаз, слова повторяет глухо, коверкает. Переминается каждую минуту. Ждет не дождется. Постой уже, раз пришел, не переломишься.
— Отрекаешься ли от сатаны? Говорите — отрекаюся…
— Отрекаюся…
Снова ноги трясутся. Девочка благим матом орет. Поскорее заканчиваю.
Гурьяновы бегут к дочке. Мать берет на руки, баюкает, раскачивая плечами. Хорошая семья. Но тоже уезжать собрались. Николая берут на стройку каменщиком, договорились уже в городе с жильем, по полторы тысячи рублей в месяц.
Томилин бочком подходит поближе.
— Простите, это… не знаю имени-отчества. Мне бы, это… завязать как-нибудь. Покрестился вот, спасибо вам, может, еще чего сделать надо?
— Молиться тебе, Иван, надо. «Отче наш» читай.
— Чего?
— «Отче наш», говорю. От пьянства еще помогает молитва Божией Матери Неупиваемой Чаше. В лавке есть, стоит рубль. И в храм заходить не забывай.
— Так ведь нам это… не близко.
— Хотя бы иногда.
— Ага… Ну ладно. Это мы обязательно. Пока что покрестились, посмотрим, как оно дальше пойдет. Спасибочки!
Идет к выходу, нашаривает в кармане сигареты, одну вытряхивает. У порога чиркнул спичкой, прикурил.
— Молиться… Хех!
Оля Федорова подает записочку о поминовении, протягивает пять рублей.
— Дедушка, а что значит «сорок дней»? Маме завтра сорок дней. Наши ставят лапшу, носят от соседей стулья. Забили петуха и двух гусей.
Мама осенью утонула. Потащило ее в такую темень гостей провожать. Вот на обратном пути и оступилась. И ведь на берег сумела наполовину выбраться, но поздно, захлебнулась уже. Не спасли.
— Это значит, Олечка, что завтра твоя мама будет в раю.
Поворачивается и радостная бежит из храма. На улице уже целая ватага ребятишек.
Слышно звонкое:
— Поп сказал, что завтра моя мама будет в раю!
— Вранье все это! Никакого рая нет.
— Дураки вы!
Все расходятся, кланяются. Скудное, тощее мое стадо.
Пойду и я.
У дома машина стоит. Не наша, да пожалуй что и не из райцентра. Новая, вся блестит.
Вышел мужчина, бросил в сугроб сигарету.
— Здравствуйте, ваше… э… ваше…
Нет, выговор совсем не наш, столичный. Из Москвы человек или из Ленинграда.
— Батюшка, — подсказываю ему обращение.
— Здравствуйте, батюшка, — с облегчением подхватывает. — Нам бы бабулю отпеть, чтобы все как положено. Завтра можно?
— Можно. Кто новопреставленная?
— Мирошникова Анна Васильевна, из Пореченки. Из Пореченки. Почти уже нет там деревни. От силы дворов десять осталось.
— А что же вы в Курово не поехали? Вам ближе. Или занят отец Алексей?
Гость мнется:
— Да нет. Она сама к вам просилась, если можно так выразиться. Заранее сказала, чтобы обязательно отпеть, и обязательно у вас. Вроде как последнее желание. Такие вот дела.
Пытаюсь припомнить. Анна Васильевна. Мирошникова. Нет, ничего не выходит.
Ладно, завтра увижу, вспомню. В лицо-то я всех здесь знаю, а вот имена начал забывать.
Александра Филипповна поджигает грубку.
— Все тухнет и тухнет, — жалуется. — Подай-ка мне, батюшка, еще газетку.
— Давай я сам, душа моя.
Газетки бережем. Районную раз в неделю приносят, а областную не стали на этот год выписывать, дорого.
— Что ты все сам да сам. Скоро и со двора меня попрешь. Никакой пользы от меня нет.
Помогаю встать. Сильно опирается на руку Александра Филипповна, совсем не держат ее ноги.
Подкладываю газету, щепочек, несколько раз длинно, до одышки, дую. Огонь разгорается, потрескивает. Будем в тепле. Когда морозы стояли и грубка не помогала, под двумя одеялами спали, а с утра первым делом бросались печь топить.
Александра Филипповна подает на стол. Ладонями трет на картошку сушеный укроп, ставит тарелки. Это она сразу завела, отдельные тарелки ставить. Все воспитывала меня, деревенщину.
Режет к грибам лук, льет масло. В этом году легко будем поститься, грибное было лето. Насолили и насушили достаточно. И наши, слава Богу, лишний раз не согрешат.
— Может, наливочки, батюшка?
Подлизывается, знает слабость мою. Сегодня можно и наливочки.
Наливает полную ребристую рюмку, ставит, стараясь не дрожать рукой. Болезни своей стесняется, стремится угодить. Раньше-то за эти наливочки поругивала, а теперь сама предлагает.
Ах ты, глупая.
Мнет вилкой картошку. Так за сорок лет и не приучилась есть ложкой, не снизошла.
— Как служба?
— Все хорошо. Завтра в Пореченку еду, Анну Мирошникову отпевать.
— Анюту! Ах ты, Господи! И я с тобой поеду. Подпою.
— Куда тебе!
— Так на машине же?
— На машине.
— Ну вот. Это раньше все конями ездили. Как в Гриневском лесу заночевали — помнишь?
— Да уж помню.
На печи трещина, два кирпича еле висят.
Намазать бы глиной и склеить хорошенько. Глины у речки накопаю. Теплой водой разведу да подклею. Пара пустяков.
Снова снежок повалил. Ласковый, мягкий. Тропинку еле видно. Занесло, да и смеркаться стало.
Раньше полнее речка была. Сейчас не то, обмелела.
На склоне глина.
Да ведь зима же. Как тут глины нароешь? Такие сильные морозы были.
А я-то, дуралей, с лопатой пришел!
В речке меж льдов тонко струится поток. Даже в морозы не вся промерзла, шальная.
Тот берег совсем занесен, а наш крутой, почти что голый.
Славная речка, быстрая.
Летом играет, искрится.
Играет, искрится…
Что ж, пойдем назад, какая тут глина.
Александра Филипповна успела притащить из колодца два ведра воды. Заваривает чай.
Совсем уже стемнело, на часах полшестого.
Всегда на воду и на огонь мог смотреть безотрывно. Вот и сейчас оставил там часа полтора. Совсем старый стал.
К чаю печенье и вафли. Вазочка крыжовника, перетертого с сахаром.
— Яков Никитич приходил. Завтра едет в район. Спрашивал, не надо ли чего.
— Ну а ты?
— Скумбрии попросила, горячего копчения.
— Вот любишь ты эту скумбрию.
— А что же, вкусная. И майонезу к ней.
После чая сажусь под лампу читать.
Обязательно читаю на ночь Писание.
С тех самых пор, как тетки Нади наследники выкидывали хлам, чтобы перевозить избу в другое место. Метили мелом бревна. Мальчишки набежали рыться в барахле, дрались. Мне досталась потертая книжка — Новый Заветъ.
Спрятал, тайком читал, сначала про себя, потом вслух, невольно смягчая окончания тревожных слов непривычными твердыми знаками.
Через год уже знал почти наизусть, в книгу едва заглядывал. Да что там книга — живые картины видел, улавливал голоса. Дрожал, плакал, и все втихую, признаваться боялся. Потом в семинарии все удивлялись, как я мог произносить целые главы подряд.
А сейчас вот тыкаюсь, словно слепой, ничего в голову не идет.
…кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник…
Проговариваю губами, возвращаюсь назад.
Буквы, как те клопы, разбегаются.
Вот, не забыть бы!
Завтра же надо будет попросить у Якова Никитича отравы, он обещал дать, и в бане хорошенько их потравить. Давно пора. Совсем уже допекли, ползают по полкам, кусают. И ведь нигде нет, а в бане — на тебе, завелись…
Ползают по полкам, кусают… Ох, отойди от меня, сатана!
…и если я не творю дел Отца моего, не верьте мне…
С грехом пополам дочитываю главу и начинаю сначала.
Второй раз идет легче, пока не сразу истерлось из памяти.