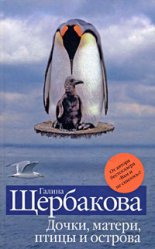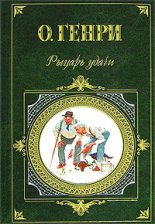Плохие слова (сборник) Гайдук Борис

— Еще не поздно передумать, — упивался властью Гога. — Для многих эта задача может оказаться не по силам.
Я постарался не отводить взгляда, но у меня не получилось.
— Давайте позовем Павлушу, — вырвалось у меня.
— Что? Зачем нам Павлуша?
— Понимаешь, Гога, — заволновался я. — Павлуша обязательно что-нибудь пронюхает и нас сдаст. А если мы возьмем его с собой…
— Он сразу нас застучит!
— Как же застучит, если он будет вместе с нами? Самого себя, что ли?
— Класс! — одобрил Гога. — Как будто мы берем Павлушу в плен! Это ты здорово придумал.
Я загордился. Вышло неожиданно круто. Хотя вспомнил я про Павлушу из самых низких соображений. Гога, конечно, самый главный, быть его другом почетно. Зато Павлушины родители не вылезают из загранки, у Павлуши всегда есть жвачка, маленькие пластмассовые рейнджеры и диковинные бутылочные пробки. Нет, Павлуша тоже нужен, хотя, конечно, не так, как Гога.
И потом, пусть лучше нас сдаст этот мамин сынок, чем кто-нибудь из своих. А сдадут обязательно. Как это можно — взять и не рассказать о таких вещах Лидии Андреевне? О плохих словах?
Невозможно.
Всей толпой мы направились к оробевшему Павлуше.
— Павлуша, — вкрадчиво сказал Гога. — Хочешь, чтобы я тоже тебя простил?
Павлуша втянул голову в плечи и молча кивнул.
— Тогда слушай внимательно… — Гога изложил свой план.
Увидев, как округляются Павлушины глаза, я тут же пожалел о своей затее.
Кажется, Павлуша готов заложить нас прямо сейчас. Но, может быть, это к лучшему? Испытание не состоится, и все останется по-прежнему.
— Павлуша, мы берем только самых достойных, — догадался сказать я. — Ты последний, кого мы приглашаем.
Павлуша заколебался. Его никогда не брали в компанию. Даже жвачка и фломастеры почти не помогали.
Гога воспринял мои слова как изощренную хитрость и украдкой подмигнул. Я многозначительно кивнул. Я чувствовал, как становлюсь не просто одним из Гогиных друзей, а лучшим, почти равным.
— Ладно, — пролепетал Павлуша.
Мы направились к беседке, на всякий случай пропустив Павлушу вперед. Тот затравленно оглядывался на нас и Лидию Андреевну.
— Здесь, — остановился Гога. — Прятаться не будем, а то начнут искать. Пусть нас видят, оттуда все равно ничего не слышно.
Испытание усложнилось. Мне стало не по себе.
Лысый облизывал губы и настороженно смотрел на Гогу.
Павлуша стоял опустив голову.
— Ну? — зловеще сказал Гога. — Кто начнет?
Все молчали. Сказавший первое слово будет считаться виновнее других, это ясно как белый день.
— Каждый мог отказаться, — нагнетал обстановку Гога. — Но теперь уже поздно.
— А… ты точно уверен, что нас не будет слышно? — промямлил Батон.
Гога даже не взглянул на него.
— Так, Павлуша! Ты первый.
Еле живой Павлуша поднял глаза. Отличный ход. Я еще больше порадовался тому, что мы взяли Павлушу.
— Жо… жопа…
— Что? — фыркнул Гога. — Ты бы еще «попа» сказал. Ладно, что с тебя взять.
— Следующий.
Хитрый Павлуша! За «жопу» ему ничего страшного не будет. Это сообразили и остальные.
— Сука! — выпалил Батон.
— Говно! — быстро сделал свой ход Лысый.
Я замешкался и мысленно попросил помощи у Гоги.
— Гондон, — с достоинством сказал Гога и сразу же уточнил: — Штопаный гондон.
Теперь все смотрели только на меня. Как на грех, все слова, кроме самых плохих, повылетали из головы. Но самые плохие еще никто не говорил, нельзя и мне.
Прошло несколько секунд.
Я чувствовал, что моя растерянность начинает выглядеть трусостью. Я оставался единственным, кто ничего не сказал.
Лысый чуть сместился и оказался у меня за спиной. Я залился краской. Еще несколько секунд, и будет поздно. Нужно решиться.
— Блядь, — сказал я упавшим голосом.
Увильнуть не получилось, «блядь», как ни крути, одно из пяти самых плохих слов. Хотя и не самое страшное из них. Есть и похуже. Посмотрим.
Гога уважительно кивнул.
— Пидо… расы!
— Вонючие ублюдки!
— Гадские рожи.
Гога почувствовал, что пора задать верный тон, и, выждав паузу, веско произнес:
— Ебаная пизда.
Вот оно! Теперь нам всем точно конец.
Или еще нет?
Если вдруг броситься бежать прямо сейчас, схватить Лидию Андреевну за руку и успеть сказать хотя бы несколько слов первым? Пока не прибегут доносить остальные. А что? Батон толстый, бегает слабо. Павлуша вообще не бегает. Лысый примерно как я. Гога догнать может, но, пока он сообразит, у меня будет преимущество. Только Гога не побежит доносить. Лидия Андреевна очень добрая, она нас всех простит. Кроме, может быть, Гоги. Она увидит, как мне стыдно, как я хочу исправиться. И я не подведу ее, я обязательно исправлюсь. Но Гоге тогда конец. И моей дружбе с ним тоже.
Что делать?
— Хуета, — тихо и твердо сказал Павлуша.
Все! Поздно. Если уж Павлуша отважился на такое, значит, нельзя. Можно сколько угодно заискивать перед Гогой, но нельзя быть слабее Павлуши. Но каков тихоня! Сказать такое слово! Одним из первых! Теперь мы все в одной лодке. И лодка эта уже висит над водопадом.
— Говно собачье!
— Конская залупа!
— Сраный веник!
Слова упали как тяжелые гири.
Я содрогнулся. Голова пошла кругом.
Лодка с ревом полетела в пропасть.
— В рот вас всех ебать! — сказал я решительно.
Гога показал мне большой палец.
Свобода! Волшебная, страшная воля! Будь что будет!
Оказалось, что Лысый умеет ругаться длинно и красиво. Батон выражался коротко, зато громко и почему-то все время смотрел на меня. Даже Павлуша, хотя и стоял весь красный, слова произносил отчетливо. А Гога!
Бросивший вызов самой Лидии Андреевне, всей непобедимой армии родителей и воспитателей, Гога был прекрасен. Я был счастлив оказаться одним из тех, кого он увлек за собой, видеть его пылающее лицо и пылать вместе с ним.
— Ебаный карась!
— Блядская натура!
— Сука драная!
Я судорожно вспоминал все плохие слова, слышанные во дворе, в парке и общественном транспорте, а вспомнив, отчаянно, без колебаний, бросал их в круг.
Кто-то из детей позвал Гогу, он не обратил на это внимания. Лидия Андреевна начала посматривать в нашу сторону.
Мы сомкнулись плотнее и стали говорить тише. Я чувствовал дыхание друзей, сердце колотилось, страшные запретные слова жгли мне лицо.
Вскоре слова стали повторяться, но мы продолжали их говорить. На целом свете в эти минуты не было слов прекраснее и мужественнее.
«Это буду не я», — стал твердить я про себя. Теперь пусть кто угодно нас предаст, только не я. Вернее, не я и не Гога. Пусть это будет Павлуша.
Только не я! Даже если Лидия Андреевна узнает и сама меня спросит, я смогу ей солгать. Теперь у меня есть на это силы. Даже если признаются все остальные. Даже если бы меня поймали фашисты и стали пытать. Это буду не я. Я почти задыхался от переполнивших меня верности и чести.
— Пизденыш малолетний.
— Отсоси у дохлого ежа.
— Хуй моржовый.
Гога почувствовал, что страсти утихают.
— Ладно, хватит. Это все уже было. Новое что-нибудь есть?
— Есть, — сказал, помявшись, Павлуша и мгновенно стал центром внимания.
Что может быть нового после сказанных многопудовых слов, от которых, казалось, все еще звенит и вибрирует утренний воздух?
— Ленин — сука! — в полной тишине выговорил Павлуша. — Подлая тварь!
Мы застыли, пораженные громом.
Лодка расшиблась о камни. Взорвались пороховые бочки. Все матросы погибли.
— Что? Что? Дедушка Ленин? — залепетал Батон.
— Да, — подтвердил Павлуша с видом осужденного на казнь.
— Мы так не договаривались? — Лысый сделал шаг назад.
— Тихо! Всем стоять! — скомандовал Гога. — Павлуша, ты… ты… Ты просто мужчина. Ленин — подлая тварь. Ну-ка, все повторите это! Быстро!
— Ленин — подлая тварь, — нестройным эхом откликнулись мы.
Лысый вернулся обратно. А что ему оставалось делать? Он ведь тоже это сказал.
Какое-то время все молчали, переживая переворот в сознании. Кажется, запретов не осталось совсем.
— Павлуша! — торжественно сказал Гога. — Ты мой друг на всю жизнь. Ты мне больше чем друг. Ты мне теперь как брат.
— Спасибо, Гога, — прошептал Павлуша трясущимися губами.
— Слышали? Павлуша теперь не сопляк и не трус. С этого дня он с нами.
Счастливый Павлуша захлюпал носом.
— А можно мне тогда попросить? Гога, Батон… ребята! Не зовите меня больше Павлушей. Меня даже родители так не зовут… только бабушка. Пожалуйста, а?
Так оно и было. Два года назад Павлуша получил свое прозвище с легкой бабушкиной руки.
— А как тогда тебя звать?
— Не знаю… Паша… может быть?
— Паша. Все слышали? Его зовут Паша!
Павлуша заплакал.
— Крепись, брат мой! — обнял его Гога. — Я знаю, тебе пришлось нелегко. Но ты справишься, я уверен.
Павлуша заревел в полный голос.
Мы столпились, закрыв его от посторонних глаз.
— Держись… Паша! — произнес я Павлушино новое имя и сам затрепетал от смутного прикосновения к чему-то сакральному и индейскому.
— Паша, ты ведь мужик, хватит распускать сопли! — подхватил Гога.
Павлуша совладал с собой и размазал слезы по щекам.
— Вот ведь какая хуйня, — всхлипнул он.
Мы ахнули. Гога заревел от восторга. Вот это да!
Павлуша заслужил право быть с нами и не просто с нами, а рядом с Гогой. И Гога герой. Настоящий вожак. В шесть секунд взял ситуацию под контроль, каждого поставил на место. А ведь рядом с ним вполне мог быть я, а оказался Павлуша… Паша.
А я слабак и гнусная тварь. Собирался бежать, рассказывать все Лидии Андреевне. Ничтожество. Только по чистой случайности я стою здесь, в кругу настоящих мужчин, а не реву, уткнувшись в колени Лидии Андреевны.
Да, но потом было сто раз повторенное «это буду не я». И это действительно буду не я. Может быть, я тоже смогу. У меня тоже есть что сказать.
— Я тоже хочу кое-что сказать, — невольно подражая Гогиной интонации, произнес я.
Друзья посмотрели на меня с испугом. Что еще? Все здание миропорядка и так лежит в руинах. Что еще можно преступить?
— Говори, — сказал Гога и напряженно прищурился.
Я понял, что могу на него положиться.
— Я знаю, что мои родители делают… это. Ну, ебутся.
Меня едва не вырвало от звука собственных слов.
Зачем? Зачем?
От меня заметно отстранились.
— Ты уверен? — осторожно спросил Батон.
Зачем? Мама, папа, простите меня!
— Да, — Хуже мне не было никогда в жизни. — И твои тоже. Все взрослые…
Горло перехватило. Батон раскрыл рот, не зная, плакать ему или ударить меня.
Растерялся даже Гога.
— И что в этом такого? — как ни в чем не бывало, спросил Павлуша. — Ты думал, тебя в «Детском мире» купили?
Лысый заржал как лошадь. Батон тоже сделал вид, что ему смешно.
Гога посмотрел на Павлушу с настоящим уважением.
Я остолбенел.
Моя страшная тайна оказалась пустышкой. Мой ужас и стыд превратились в комедию. Ничтожный Павлуша оказался в сто раз умнее и взрослее меня. А я… просто жалкий клоун.
— Да нет, — забормотал я. — Я знаю, откуда я… появился. Я только хотел…
Чего я хотел?
Зачем?
— Об этом в следующий раз, — остановил меня Гога. — Надо разбегаться, а то на нас уже все смотрят.
— Давайте поклянемся, — предложил Павлуша. — Что никто не выдаст… друга.
Гога вытянул вперед руку ладонью вниз и сказал:
— Клянусь. Буду последним козлом, если выдам.
— Клянусь.
— Клянемся.
— Никому ни слова!
— Ни слова.
Мы разошлись, но вскоре снова оказались все вместе, теперь уже возле шведских стенок. Оттуда мы свысока смотрели на остальных детей, не имеющих понятия об истинных человеческих ценностях. Находящихся в плену иллюзий и послушных чужой воле.
«Вот что значит настоящая дружба, — определил я для себя, — а все, что мы знали до сих пор, глупые детские игры».
Не выдать друга казалось довольно просто. Теперь даже Лидия Андреевна не сможет одолеть нас пятерых.
Это буду не я, упивался я своей клятвой.
Мушкетеры тоже были детьми.
С этого дня мы стали неразлучны.
За неделю мы добились того, что вся группа усвоила новое Пашино имя.
Когда нас никто не видел, мы говорили плохие слова, словно обмениваясь паролем. Мы говорили и о других вещах. О том, что все взрослые постоянно ебутся и с этим нам придется как-то мириться. Может быть, даже в этом и нет ничего плохого. Еще мы говорили, что Ирка Хапилова, хотя и считалась девочкой Гоги, на самом деле любит Пашу и даже тайком по-прежнему зовет его Павлушей. И таковы, похоже, все женщины. Но мужчины не должны ссориться из-за этого, и Гога достойно отступил, оставив Ирку Паше.
Однажды вечером мы все вместе убежали от родителей, пошли в парк и, трясясь от страха, бродили по темным аллеям до полуночи, пока нас не загребла милиция.
Гога пробовал курить, остальным не понравилось.
Трое из нас попали в один класс. Пашу, несмотря на все наши мольбы, родители устроили в английскую школу. Гога быстро перевелся в спортшколу, но поблизости. С Батоном и Лысым мы дружили до третьего класса. Потом Лысый уехал жить в другой район, а с Батоном мы как-то разошлись.
И только лет тридцать спустя я случайно узнал, что о плохих словах Лысый рассказал Лидии Андреевне уже на следующий день, а Батон через неделю. Оба они, оказывается, во время клятвы держали за спиной пальцы крестиком. Я пальцы крестиком не держал, но мне тоже гордиться нечем: я открылся Лидии Андреевне в день выпуска из садика. Она тогда говорила, что мы должны быть честными, добрыми, уважать себя и других, хорошо учиться в школе, любить родину и прочее. Некоторые дети заплакали, боязливое чувство неведомой, новой, без Лидии Андреевны, жизни поднялось и задрожало во мне. Наши клятвы показались мне глупым и мелким обманом, который ни в коем случае нельзя взять с собой в новую, почти уже настоящую жизнь.
И после линейки я все рассказал.
Лидия Андреевна не ругала меня. Многое из того, что она говорила мне в ответ, я тогда не понял, хотя запомнил почти слово в слово. Она сказала, что одни дети взрослеют быстрее, другие медленнее и что скоро ее помощь будет нам совсем не нужна. И еще она категорически запретила мне рассказывать о моем доносе ребятам.
«Категорически. Это последнее, что ты должен для меня сделать».
Наверное, так же категорически она запретила Батону и Лысому, потому что они тоже молчали как рыбы, молчали все это время.
Молчал и благородный Павлуша, хотя все узнал почти тогда же: его бабушка дружила с Лидией Андреевной, и он случайно подслушал их разговор.
Бедный Павлуша! Наверное, он первый из нас понял, как слабы люди и непроста жизнь.
Мы нарушили свою клятву, и судьба развела нас. Мушкетерами стали не все, очень скоро оказалось, что это никому не нужно. Мы были детьми, а потом выросли.
Только один Гога, кажется, так ни о чем и не узнал. Говорят, что его последние слова были: «Да пошли вы…»
Падая в любовь
И тогда они поняли, что не могут жить друг без друга, ни одной минуты и ни одной секунды.
Обессиленные, они лежали, слипшись телами, и дышали друг другу в губы.
Сна почти не было уже неизвестно сколько суток, вместо него приходило тягучее парящее забытье; если засыпала она, он немного отстранялся и смотрел на нее со стороны, пока она не открывала глаза и не тянулась к нему; она же нежно гладила его волосы, и он улыбался во сне.
Учеба в школе и институте, друзья и родители, новости политики и спорта, день и ночь, страны и цивилизации, времена года и фазы луны, дикие и домашние животные, мотоциклы и велосипеды, федеральные и местные власти — все это осталось там, за тяжелыми, плотно задернутыми шторами, а внутри ничего этого не было.
Вскоре он точно знал, сколько на ее теле больших и маленьких родинок, а она начала различать оттенки запахов его кожи. Они произнесли все слова любви на всех известных им языках, забыли их, и произнесли снова, и снова забыли. Они перепробовали разные позы и разные игры и вернулись к самым простым, находя друг друга, как левая рука находит в темноте правую. Само время то нависало над ними огромными дрожащими секундами, то бросалось бежать, и тогда дни неслись один за другим.
Когда он уходил от нее в туалет, она плакала, несколько раз ходила вместе с ним, но он стеснялся, и тогда она стояла за дверью, держась за ручку, и ждала его, чтобы к постели идти вместе.
Иногда они выбирались на кухню, чтобы приготовить и съесть какой-нибудь еды. Не размораживая, они сварили бройлерного цыпленка, съели макароны с сыром и кетчупом, толсто чистили и варили картошку, делали яичницу. В конце концов они вылили на подсоленный хлеб растительное масло, а остаток хлеба съели просто так. Когда казалось, что еда кончилась, в кухонном шкафу нашлись банка зеленого горошка и банка лосося в собственном соку, и это стало их маленьким праздником.
Когда есть точно стало нечего, они, не страдая от голода, обходились несколько дней без пищи. Лишь почувствовав в себе слабость и сердцебиение, она попросила есть, сказав, что иначе может умереть, не до конца подарив ему свой жар и свою нежность. Он нашарил в куртке двести сорок рублей с мелочью, и они решились на вылазку. Их томно перепутавшаяся одежда валялась по всей квартире. Надевая колготки, она не смогла вспомнить, зима сейчас или лето, и решила, что скорее всего — весна или лето, потому что на вешалке висела не дубленка, а джинсовая куртка. Он зажал деньги в кулаке, и они шагнули за порог.
Она прилепилась к нему, обхватив тело обеими руками, а он обнимал ее плечи. Она испуганно шарила под рубашкой, словно пытаясь туда спрятаться, а он прижимал ее к себе; и так они медленно шли, спотыкаясь друг о друга и вызывая недоуменные взгляды прохожих и сердитые сигналы водителей.
В продовольственном магазине они растерянно уставились на заполненные едой витрины, голод вдруг вылез из их животов и подпрыгнул ко рту.
— Чего возьмем? — спросил он, глотая слюну.
— Не важно, — прошептала она. — Но только так, чтобы не готовить. Я не хочу больше ничего варить или жарить. Я хочу только одного…
— Пельменей?
— Пожалуйста, нет. Чего-нибудь… совсем простого.
И тогда он решительно подозвал к себе неряшливую толстую продавщицу и сказал:
— Дайте нам, пожалуйста, четыре килограмма какой-нибудь колбасы и хлеба на все остальные деньги.
— На какие такие остальные деньги? — с подозрением спросила неряшливая толстая продавщица.
— Всего на двести сорок рублей. С мелочью.
Продавщица пробежала пальцами по калькулятору и объявила:
— Хлеба получается одиннадцать батонов. Берете?
Он в отчаянии посмотрел на нее, и тогда она пришла ему на помощь:
— Нет. Дайте нам восемь батонов, а на остальные деньги колбасы.
Продавщица плюхнула на весы два увесистых розовых цилиндра, подложила еще маленький кусочек и подала хлеб.
— На двести сорок ровно. Пакет нужен?
— Да, пожалуйста.
— Тогда получается как раз на двести сорок с мелочью.
И продавщица, пожевав губами, сложила еду в пакет.
И они, шарахаясь от машин, бережно понесли колбасу, хлеб и свои расплавленные сердца к дому, к забвению и неге, прочь с этой улицы и от всех этих людей.
Признайся, дорогой читатель, не криви душой, ты ведь теперь ждешь, что они умрут?
Ты опасаешься, что в последней строке они окажутся неизлечимо больны и вот-вот наступят их последние сутки?
Или, прожив в этой квартире все до единой свои прошлые и будущие жизни, они взялись за руки и бестелесно-бестрепетно-безвозвратно шагнули с балкона?
Или, на худой конец, опомнились их родные и близкие, вызвали милицию с вертолетами и пожарных с лестницами, вытащили их из-за тяжелых, плотно задернутых штор и распихали по лечебницам?
Нет, дорогой мой друг, все вышло иначе, хотя и не менее грустно.