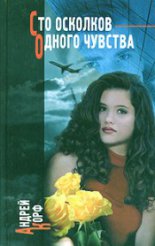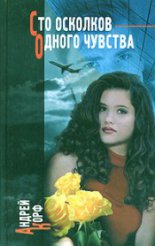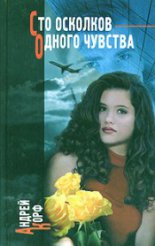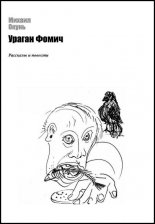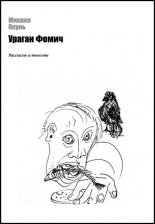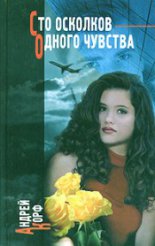Народы и личности в истории. Том 2 Миронов Владимир
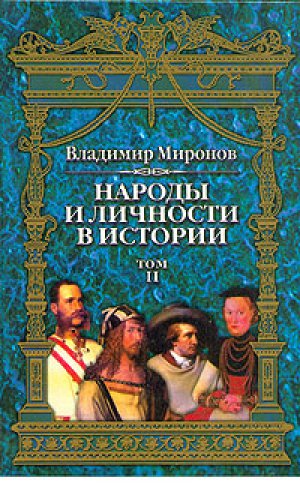
Но почему же тогда мы причисляем Делакруа к «романтикам»? Ведь, в обычной жизни его правильнее отнести бы к «прагматикам». Однако в том и состоит величие настоящего художника или ученого, что тот (в живописи, литературе, музыке, науке и т. д.) зачастую действует вопреки своим меркантильным симпатиям и нуждам. Истина дороже злата всего мира! Взгляните на его полотна. Они все пронизаны яростью и гневом.
Дело не в том, к какому лагерю формально отнести Делакруа (к «романтикам» или «классикам»). Он – классик по манере исполнения и романтик – по темпераменту. Его полотна заполнят романтические герои (янычары, бунтари, сумасшедшие, диктаторы). Возможно, духу нашего времени отвечает картина «Казнь дожа Марино Фальеро на лестнице Великанов». Дож организовал заговор против «олигархов» (тиранической власти Совета Десяти в Венецианской республики). К этой картине он питал слабость. Почему? Может, и сам внутренне ощущал себя заговорщиком?! Показательна и картина «Смерть Сарданапала». Нам кажется символичным это титаническое полотно в 20 кв. метров, навеянное поэзией Байрона. Здесь изображены последние минуты царя Ниневии, враги которого завладели столицей. Оставленный войском и охраной, тиран сгорает в костре, а с ним гибнут его сокровища, жены, рабы, любимые кони. Таков конец всех тиранов.[64]
- Когда невыносимым станет гнет,
- Любой тиран, любая власть падет.[65]
Почитайте дневник Делакруа… Перед нами предстает интереснейшая, духовная личность. Рядом с оценкой живописи идут размышления о философии, затем музыкальные «пассажи» сменяются поэтическими, а психологические зарисовки дополняются дидактическими. В записях от 16 января 1860 г. читаем: «Главная цель Словаря изящных искусств заключается не в том, чтобы развлекать, а в том, чтобы поучать; установить или разъяснить некоторые основные принципы; помочь по мере сил неопытным наметить путь, которому надо следовать; указать подводные камни на опасных или запретных для подлинного вкуса путях, – таково общее направление, которого следует придерживаться. Но где можно найти лучшее приложение принципов, как не на примерах великих мастеров, доведших до совершенства отдельные отрасли искусства? Что может быть поучительнее их ошибок!» В один ряд с созданием картин Делакруа ставил создание ярких и интересных книг, считая это задачей «почетной и ответственной». Такая книга не только становится своего рода «памятником автору», но и способствует просвещению людей.[66]
Романтизму становилось все труднее дышать в удавке, которую набросили на шею истине, свободе и справедливости «реставраторы» в XIX в. Во Франции повторилось то, что уже имело место и в буржуазной Англии… Давид становится политическим эмигрантом после возвращения Бурбонов. Жерико умирает в 1825 г. (перед тем занявшись не свойственным великому художнику делом: стал играть на бирже и пустился в запутанные спекуляции). Перед смертью он будет иступленно повторять: «Я ничего не сделал, совсем ничего». Художник А. Гро, достигнув высот почета и славы при Наполеоне, в 1835 г. покончил с собой. Почему имеет место такая несправедливость? Почему французское правительство так и не приобрело ни одной картины Жерико? Еще молодой художник умирал, окруженный своими непроданными холстами. Во вкусах и настроениях нового времени, времени буржуа, было уже нечто иное, чуждое классицизму и романтизму. Да и толстосумам, занятым дележом имущества, часто наплевать на искусство.
Т. Жерико. Плод «Медузы». 1818–1819.
Время романтиков безвозвратно уходит. На смену им идут прагматики. Они-то во многом и определят главные векторы новейшего времени. И здесь вновь видим Францию, давшую в литературе наиболее яркие образы героев. «Девятнадцатый век блистает французским романом, как шестнадцатый – итальянскими картинами и палаццо» (Г. Манн). Одним из самых ярких писателей стал Оноре де Бальзак (1799–1850). Этот «великанище» еще не вполне раскрыт нами как мыслитель и художник. В его романах ожила история. Вспомним его фразу: «Хорошо написанные исторические романы стоят лучших курсов истории». Это действительно так. Ведь, иной курс мало что скажет уму и сердцу. А Бальзак столь реалистично описал общество, что из его романов можно узнать больше о жизни народа, нежели «из книг всех историков, экономистов, статистиков», вместе взятых. Не случайно его даже будут называть «доктором социальных наук».
Образовательная одиссея Бальзака складывалась не очень удачно… В воспоминаниях брата писателя Л. Сюрвиля описывается, как будущий корифей посещал школу в Туре, а затем и знаменитый Вандомский коллеж. Длительное заточение в их стенах отразилось на молодом человеке не лучшим образом и привело к психологическому срыву. Хотя учеба, наблюдения, чтение бесспорно дали ему некий предварительный материал для его «Человеческой комедии». Подлинной же школой стало для него чтение книг… Он читал буквально все, что попадалось ему под руку (книги по истории, религии, философии, физике). По примеру А. Шенье он попытался сочинять стихи, за что и был прозван поэтом (часто ударяя себя в лоб, он любил повторять: «Здесь кое-что есть!»). Одно время он даже увлекся оккультной философией. Духовный интерес в нем столь силен, что юноша постоянно блуждал в мечтаниях и грезах. К 12 годам его воображение развилось необыкновенно, что вызвало немалое удивление у руководства Вандомского коллежа.
Оноре де Бальзак.
Вот как описывает Сюрвиль эти бальзаковские «университеты»… Каждый год мы неизменно навещали его на пасху и при раздаче наград; но он очень редко удостаивался их и получал больше выговоров, чем похвал в эти дни, которых ждал с таким нетерпением и так радовался им заранее!.. Семь лет оставался он в коллеже, не зная каникул. Воспоминания об этой поре внушили ему первую часть книги «Луи Ламбер». В этой первой части герой сливается с автором, это Бальзак в двух лицах. Жизнь коллежа, мелкие события тех дней, все, что он там пережил и передумал, – все это чистая правда, вплоть до созданного им трактата «О воле», который один из учителей (кстати, названный в романе по имени) сжег, не читая, в порыве ярости, когда Оноре написал его вместо заданного урока. Бальзак сожалел о утраченном сочинении, запечатлевшем состояние его ума.
Когда ему было четырнадцать лет, директор коллежа г-н Марешаль написал матушке, между пасхой и днем раздачи наград, чтобы она как можно скорее приезжала за сыном. Его постиг недуг, он впал в своего рода коматозное состояние, тем более обеспокоившее наставников, что они не видели к тому причин. Мой брат, пишет Л. Сюрвиль, был для них ленивым школьником, и они не понимали, каким умственным перенапряжением могло быть вызвано это заболевание мозга. Оноре стал таким худым и хилым, что походил на сомнамбулу, спящую с открытыми глазами; почти не слышал обращенных к нему речей, не отвечал, когда его спрашивали: «О чем вы думаете? Где вы находитесь?»
Это удивительное состояние, в котором он отдал себе отчет позднее, произошло от чрезмерного прилива идей к голове (если воспользоваться собственным его выражением). Без ведома учителей он прочел значительную часть книг из богатой библиотеки колледжа, состоящей из сочинений ученых монахов-ораторианцев, основателей и собственников этого учебного заведения, где воспитывалось 300 подростков. Каждый день он прятался в укромном уголке и глотал серьезные книги, дававшие развитие его уму в ущерб телу в возрасте, когда следует упражнять телесные силы не менее умственных.[67]
Полагаю, что эта полумонашеская обитель оставила заметный и даже небесполезный след в жизни будущего писателя. Для мудрых и тонких педагогов этот «бальзаковский урок» всегда должен напоминать о чрезвычайной деликатности, тонкости и сложности их божественной миссии. Их кропотливый труд по своей значимости равен труду Всевышнего, а порой и превосходит оный. В конце концов, Господь лишь создал Адама с Евою. Педагог же, делая почти то же самое, имеют возможность превращать сотни и тысячи юных «ангелов» или «демонов» во вполне приличных и достойных людей.
Прошло не так уж много времени и Оноре стал настоящим писателем, каких немного на свете. Кто он таков – романтик или реалист, поэт или прозаик? Нам кажется, что в нем успешно сочетались те и другие начала. Правда, его деловые прожекты чаще всего заканчивались неудачами. Возможно, таков удел великих художников… Ведь, если они станут «делать бизнес», кто же будет заниматься творчеством. Делом всей жизни Бальзака стала изнурительная писательская работа. Он работал днем и ночью, по восемнадцать часов в сутки, спал не больше пяти часов. «Вся моя жизнь, – признавался он в воспоминаниях, – подчинена одному: непрерывному труду, без всякой передышки…».
Франсуа Милле. Сборщики колосьев.
Бальзак сравнивал труд писателя с работой рудокопа, расчищающего завал, или с миссией солдата, штурмующего редуты противника. Таков и должен быть истинный художник. Каторжный труд – это его удел… «Постоянный труд столько же закон искусства, сколь и жизни» («Кузина Бетта»). В «Человеческой комедии» более двух тысяч персонажей, девяносто шесть связанных между собой произведений (из 120 задуманных). Это почти немыслимый для писателя охват жизненной действительности. Труд имеет не только свою географию, но и генеалогию, свою великую судьбу. Ведь, чтобы изобразить на сцене даже социальную бурю, действительно нужны «гиганты, вздымающие волны».[68]
Гениальным был уже сам замысел Бальзака: постараться всесторонне описать историю общества путем наблюдения за отдельными человеческими судьбами… Последуют «Этюды о нравах», «Философские этюды», «Аналитические этюды». С трудом представляешь себе грандиозность и масштабы им задуманного. По мнению Бальзака, для «Этюдов о нравах» потребовалось бы 24 тома, для «Философских этюдов» – 15, а для «Аналитических этюдов» – 9 томов. Общим же итогом этого эпохального труда должно было стать появление то ли современной «библии», то ли всеобщей саги человечества. Он скажет: «Таким образом, человек, общество, человечество будут без повторений описаны, рассмотрены и подвергнуты анализу в произведении, которое явится чем-то вроде «Тысячи и одной ночи» Запада». Трудно было бы яснее выразить суть замысла.[69]
Конечно, как всякий человек, Бальзак не лишен был некоторых слабостей, хотя талант искупал их. Он мечтал о карьере политического деятеля, желал стать директором издательства и надеялся, что «золото потечет рекой». Теоретически он уже давно был самым крупным богачом, а на практике едва сводил концы с концами (не мог выкупить из ломбарда порой даже столовое серебро). Подобно своему герою Рафаэлю из «Шагреневой кожи», он надеялся на то, что не только станет королем вольнодумцев, но и «верховным повелителем тех умственных сил, которые поставляют миру всяких Мирабо, Талейранов, Питтов, Метернихов». Иначе говоря, он хотел бы стать повелителем самой буржуазии! Однако от таких наивных иллюзий пришлось отказаться. Буржуа было наплевать на Бальзака и его планы. Какой он увидел Францию в 1840 году? Такой же как и Англию, страной, поглощенной чисто материальными интересами, страной, где «нет ни патриотизма, ни совести и где власть не обладает силой». То, что происходит повсюду, вызывает у него неприятие и отвращение. Ему всегда было ненавистно это правление посредственности, которое не могло стать для нации достойным примером.[70]
Разве сегодня не актуальны слова великого художника, которыми он, обращаясь к пресыщенной публике, предварял своих «Крестьян» (эту книгу Бальзак считал самой значительной из своих работ): «…Жан-Жак Руссо поставил в заголовке «Новой Элоизы» следующие слова: «Я наблюдал нравы моего времени и напечатал эти письма». Нельзя ли мне, в подражание великому писателю, сказать: «Я изучаю ход моей эпохи и печатаю настоящий труд»? Задача этого исследования… – дать читателю выпуклые изображения главных персонажей крестьянского сословия, забытого столькими писателями в погоне за новыми сюжетами… Мы поэтизировали преступников, мы умилялись палачами, и мы почти обоготворили пролетария!.. Мы хотим открыть глаза не сегодняшнему законодателю, нет, а тому, который завтра придет ему на смену. Не пора ли теперь, когда столько ослепленных писателей охвачено общим демократическим головокружением, изобразить, наконец, того крестьянина, который сделал невозможным применение законов, превратив собственность в нечто не то существующее, не то не существующее?»[71]
Думаю и нынешней аудитории понятен его призыв – постараться объединить силы вокруг идей труда и толкового государственного порядка (к чему он столь истово стремился). Лучше всего эту роль Бальзака, как ни странно, понял Э. Гонкур, сказав, что находит у того «во сто крат больше таланта, чем у Шекспира». Вот что он заносит в свой «Дневник»: «Читал «Крестьян» Бальзака. Никто никогда не рассматривал и не характеризовал Бальзака как государственного деятеля, и тем не менее это, быть может, величайший государственный деятель нашего времени, великий социальный мыслитель, единственный, кто проник в самую глубину нашего недуга, кто сумел увидеть беспорядок, царящий во Франции, начиная с 1789 года, кто за законами разглядел нравы, за словами – дела, за якобы спокойной конкуренцией талантов – анархическую борьбу разнузданных личных интересов, кто видел, что злоупотребления сменились влияниями, привилегии одних – привилегиями других; неравенство перед законом – неравенством перед судьями; он понял всю лживость программы 89-го года, понял, что на смену имени пришли деньги, на смену знати – банкиры и что все завершится коммунизмом, гильотинированием богатств. Удивительная вещь, что только романист, он один постигнул это».[72]
О значении его книг для понимания хода истории хорошо сказал и Ф.Энгельс. В «Человеческой комедии» даны запоминающиеся образы богачей-выскочек, буквально растлевающих и губящих окружающих их людей. «Вокруг этой центральной картины, – писал Энгельс, – Бальзак сосредотачивает всю историю французского общества, из которой я даже в смысле экономических деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов – историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых».[73]
Порой он мечтал о сильной коллективной диктатуре… Наилучшим политическим строем, по его мнению, является строй, который был бы в состоянии породить наибольшую энергию таланта и разума. В следующей фразе заложен очень глубокий смысл: «Если полтора десятка талантливых людей во Франции вступили бы в союз, имея при этом такого главу, который стоил бы Вольтера, то комедия, именуемая конституционным правлением, в основе коей лежит непрестанное возведение на престол какой-нибудь посредственности, живо бы прекратилась».[74] Он был противником комедии демократии.
В то же время это был гигант с душой ребенка… А. Моруа верно заметил, что Бальзак по своей натуре был «великодушен и нежен», а Жорж Санд отмечала, что он «наивен и добр»… Наиболее явственно все эти качества великого писателя проявились, вероятно, в его любви к г-же Эвелине Ганской. После смерти ее престарелого мужа (1841) он надеялся, что его десятилетняя мечта, наконец-то, осуществится и его брак с гордой полячкой, живущей в России, станет явью. Он стремился на Украину, где и жила его обожаемая Ева (ведь она отныне свободна). Стремился, несмотря на власть сурового русского императора, которого он шутливо называл «дядя Тамерлан»… Но против «француза» восстала тетка Розалия (ее можно понять, так как её матери, княгине Любомирской, во Франции в 1794 г. отрубили голову, да и сама она провела несколько недель в тюрьме).
Ему вспомнилась история их знакомства… Однажды к нему из Одессы пришло письмо, подписанное «Чужестранка» (1832), где неизвестная почитательница его таланта выражала писателю свое восхищение тем, как он умеет «угадать душу женщины». Незнакомку потрясли его «Сцены частной жизни». Следует окутанная покровом тайны переписка, и, наконец, их встреча в Невшателе (Швейцария). Красавице-брюнетке было тогда 27 лет, она «подлинный шедевр красоты», сияющей на фоне великолепной швейцарской природы… Конечно, картину свидания несколько подпортил 60-летний муж, похожий на каланчу («окаянный муж все пять дней ни на мгновение не оставлял нас»). Ева нашла Бальзака «сущим дитя» и влюбилась. Женева станет местом их взаимной любви. Девизом же их союза было: «Adoremus in aeternum» («Будем любить друг друга вечно»).
После тех невообразимо прекрасных, чудных мгновений минуло 10 лет. Страсти уж не те, да и заботы жизни наложат отпечаток. Как вернуть былую любовь? Как уверить возлюбленную в крепости и надежности чувств? Проблемы есть и у Ганской. В России на всё нужно разрешение чиновника. Киевская судебная палата отказалась признать действительным завещание ее мужа. Перед той нависла угроза остаться без наследства. Бальзак советует ехать в Санкт-Петербург и умолять русского царя помочь ей. Он даже пишет: «Я стану русским, если вы не возражаете против этого, и приеду просить у царя необходимое разрешение на наш брак. Это не так уж глупо». Видимо, у него самого были все же сомнения на сей счет. Действительно, шло время, их любовь перешла в спокойную и умиротворенную дружбу. Возможно, это был лучший выход для обоих… «Ласки женщины изгоняют Музу и ослабляют яростную, грубую силу труженика» (Бальзак).[75]
- Бедняк и Ротшильд, служка и вельможа,
- Верша свой путь к пределу Бытия, —
- Кто среди роскоши, а кто среди тряпья, —
- Понять должны: один у них Судья…
- Вся наша жизнь – шагреневая кожа,
- Мы щедро платим за крупицу дня![76]
Попытку осмыслить и описать жизнь европейского общества предпринял Эмиль Золя (1840–1902) в 20-томной серии романов «Ругон-Маккары» (история одной семьи). Ему самому пришлось испытать в жизни немало трудностей. Попытка покорить Сорбонну, храм французской науки, не удалась. Понимая важность и значение обучения для будущности, Золя не смог принять косности и ограниченности тогдашней учебной среды. В одном из юношеских писем он сделал откровенное признание: «Без дипломов никого не поощряют. Дипломы – это двери во все профессии. Только дипломы помогают продвигаться по жизни. Если вы, по глупости, владеете этим грозным оружием, вы умница. Если вы талантливы, но факультет не дал вам свидетельства о вашем образовании, вы считаетесь глупцом…». Однако при этом сам Золя все же глубоко сомневался в том, сделает ли его более умным степень бакалавра. Да и что тогда ждет его в будущем – судьба чиновника? «Прочь эту жизнь в конторе! Прочь этот сточный желоб!» – восклицает он. Подобными настроениями, думается, и объясняются его провалы на экзаменах в Париже и Марселе. Хотя то, что в 20 лет у него нет профессии, не прибавляло ему оптимизма.
Позже самообразование даст ему многое из того, чего не дали коллеж или лицей. Автор обширных и ярких полотен о современном обществе познал подлинное отношение капитала к труду и таланту. Одно время он жил среди разорившихся буржуа, бедных студентов и проституток, работал в доках, оказываясь безработным, питался, чем придется. Вероятно, тогда-то он и стал «революционером, сам того не сознавая». Его отец, гражданский инженер, умер, едва перейдя 50-летний рубеж и оставив без помощи жену и сына. Поэтому отношение Э. Золя к любой власти всегда будет прохладным, а порой и даже резко отрицательным. Он прямо говорил: «Народы никогда не понимали завоевателей и следовали за ними только до известного момента, в конце концов они их переставали признавать и свергали».[77] Таковы его социальные симпатии и предпочтения.
Свою литературную карьеру он начинал с изящных новелл «Сказки Нинон» и с романа «Тереза Ракен»… В этих новеллах ощущаются нежность и сострадание к бедным и влюбленным. Героями сборника выступают влюбленные («Фея любви»), добросердечные девушки («Сестра бедных»), принцы («Симплис»). Однако первым серьезным романом станет «Тереза Ракен» (кстати, именно этот роман впервые стал известен и в России, где Золя любили, а Н. К. Михайловский даже называл его «наполовину русским писателем»)… Писатель говорит в предисловии: он ставил своей целью изучить «не характеры, а темпераменты». Тереза и Лоран – «животные в облике человека, вот и все». Представляется, что эпоха буржуазии не могла обойтись без описания этих свойств человеческой личности. Хотя критика обрушилась на роман. Золя писал: «Среди голосов, кричавших: «Автор «Терезы Ракен» – жалкий маньяк, которому доставляют удовольствие порнографические сцены», – я тщетно надеялся услышать голос, который возразил бы: «Да нет, этот писатель – просто исследователь, который хоть и погрузился в гущу человеческой грязи, но погрузился в нее так, как медик погружается в изучение трупа».[78]
В романах Золя представлено «наследственное древо» части общества. Доктор Паскаль из одноименного романа, сравнивая поэтов с учеными, говорит: «Какую гигантскую фреску можно нарисовать, какие можно написать великие человеческие комедии и трагедии на тему о наследственности, которая представляет собой не что иное, как Книгу Бытия семьи, общества, человека»… Ругон-Маккары – это многоликое племя буржуа, сильное и безжалостное, дикое и цивилизованное, просвещенное и тупое, одержимое жаждой власти и наживы, сентиментальное и преступное, пошлое и величественное. Оно строит и разрушает одновременно, порождает и убивает, исцеляет и заражает… Обогащая себя, свои семейства и в целом все же относительно небольшую прослойку слуг и верных сторонников, племя это «ввергает в нищету целый мир маленьких людей», бросает на произвол судьбы миллионы, вполне сознательно обрекает на смерть, войну и голод народы отсталых и покоренных стран. Что представляет собой паразитическая буржуазия, живущая спекуляциями, играющая на бирже, обкрадывающая труженика на каждом шагу? Это – далеко не лучшие «злаки», которые нам дарует матушка-Природа.[79]
Заслуга Золя в том, что он показал повседневную жизнь современного ему общества (во всех ее житейских, бытовых и даже криминальных деталях). В основу его романов лягут так называемые марсельские протоколы, кипы разных документов. Как знать, может и нам в России понадобятся для жизнеописания нашей эпохи криминальные и прокурорские досье (московские протоколы)?! Ведь, слова Г. Манна об идейной основе творчества Золя, применимо и к нашему времени (России): «Спекуляция, важнейшая жизненная функция этого государства, безудержное обогащение, необычайное обилие земных радостей – и первая, и второе, и третье театрально прославлены в представлениях и празднествах, постепенно наводящих на мысли о Вавилоне; и рядом с этой ослепительной толпой ликующих, за нею, еще подавленная ее лучами, – темная, пробуждающаяся, проталкивающаяся вперед масса. Пробуждение массы! Это ведь тоже может быть задачей? Да, именно это! Масса должна пробудиться и для литературы. Подьем массы и устремление ее в будущее – вот то неслыханное, что предстояло сейчас одолеть. Как это было заманчиво своей трудностью! Но не только ею. Эта масса поднималась с идеалами, которые завтра осуществятся. Она была человечеством завтрашнего дня!»[80]
Действительно, познакомившись хотя бы с некоторыми из его романов («Жерминаль», «Труд», «Истина», «Деньги», «Париж»), понимаешь, что имеешь дело с натурализмом особого свойства. Художник видит свою миссию в точной передаче жизни и действительности. Кстати, известно, что Золя принимал самое активное участие и в становлении новой живописи, школы импрессионистов. В статьях («Реалисты Салона», «Мой Салон») он все время подчеркивает: «дух эпохи – это реализм». В выдвинутой им «теории экранов» (классический, романтический, реалистический экраны) он отдавал предпочтение реализму. Золя будет выступать в защиту Курбе, Мане, Моне и Писсарро, а с Сезанном его объединяли годы совместной учебы в коллеже и крепкая дружба.
Политическая же сторона в его творчестве не всегда выражена очень явно. Полагаю, что от художника или писателя требуется все же несколько иное. Он должен говорить правду и только правду! Но этого и боятся нечестные и лживые правители… Золя писал: «Все правительства относятся к литературе с подозрением, так как чувствуют в ней силу, которая ускользает из-под власти. Крупный писатель, крупный художник стесняет их, внушает им страх, ибо он владеет мощным оружием и не желает подчиняться. Они приемлют какую-нибудь картину, роман или драму в качестве приятного развлечения, но трепещут, когда эти произведения выходят за рамки пустячков, которые доставляют удовольствие, дозволенное в семейном кругу, и когда художник, романист, драматург вносят в них оригинальность, говорят правду, страстно волнующую людей».[81]
Однако это вовсе не означает, что того же Золя следует воспринимать упрощенно (как «борца за народ»). Да и как личность Золя неоднозначен. Гонкур, видно, справедливо говорил, что тот любит ныть по любому поводу. Обосновавшись в знаменитом «салоне пяти» (Флобер, И. Тургенев, Доде, Гонкур и Золя), он частенько жаловался собеседникам: «Мне никогда не получить ордена, мне никогда не стать членом Академии, мне никогда не удостоиться тех наград, которые могли бы официально подтвердить мой талант. В глазах публики я навсегда останусь парием». Ему надо бы помнить: тем, кто собрался заклеймить палачей и недругов народа, не стоит ждать от них званий и наград! В 1870 г., когда немцы подходили к Парижу, Золя был среди тех, кто трусливо покинул столицу. Хотя известную бешеную активность он проявил при защите еврея Дрейфуса.
Напомню суть вопроса. В 1894 г. офицер французского генерального штаба капитан Дрейфус обвинен в передаче секретного документа иностранному государству (шпионаж). Дрейфуса был евреем. Его осудили, лишили чина и воинской чести, приговорив к пожизненному заключению. Затем выяснилось, что в деле замешан майор Эстергази, недолюбливавший французов. В его письмах к друзьям были, к примеру, и такие фразы: «Немцы скоро покажут всем этим господам (имеются в виду французы. – Ред.) их настоящее место…», или: «…Если бы сегодня же вечером мне сказали, что я буду убит, находясь во главе улан, рубящих саблями французов, я, несомненно, чувствовал бы себя счастливейшим человеком!» Сразу же после опубликования этих писем в «Фигаро», через три дня, выступает с первой статьей Э. Золя, обвиняя военных в намеренном раскручивании дела Дрейфуса в целях насаждения в армии антисемитских настроений.
Золя обратился к нации и народу Франции с письмом (1898), в котором, в частности, говорилось: «Среди ужасных нравственных волнений, переживаемых нами теперь, в момент, когда общественная совесть как будто задурманилась, я обращаюсь к тебе, Франция, к нации, к Родине!.. Франция, не будь так доверчива: так ты дойдешь до диктатуры! И еще, знаешь ли ты, куда ты идешь? Ты снова возвращаешься к прошедшему, к тому нетерпимому теократическому прошедшему, против которого боролись твои лучшие сыны и, желая окончательно сгубить его, охотно жертвовали своей мыслью и кровью. В настоящее время тактика антисемитизма очень проста. Напрасно старался католицизм подействовать на народ, создавая для этой цели рабочие ассоциации и увеличивая паломничество, – ему уже не удалось больше покорить его себе и вернуть к старому порядку. И вдруг теперь сами обстоятельства содействуют тому, чтобы снова разжечь в народе прежнюю ненависть к евреям, его отравляют этим фанатизмом, который появляется на улицах с криком: «Долой евреев! Смерть евреям!» Какое торжество, если было бы возможно создать религиозную войну! Положим, народ попрежнему не заблуждается. Но разве восстановление средневековой нетерпимости и сжигание евреев в общественных местах не есть возвращение к первоначальной нетерпимости? Итак, отрава найдена! И когда превратят французский народ в фанатика и палача, когда вырвут из сердца его великодушие, его любовь к человеческим правам, завоеванным с таким трудом, тогда уже предоставят господу богу сделать остальное. И некоторые имеют дерзость отрицать эту клерикальную реакцию! Но она замечается всюду – в политике, в искусстве, в прессе, на улице! Сегодня преследуют евреев, завтра дойдет очередь до протестантов. В деревнях уже это началось. Республика переполнена реакционерами всех родов».[82]
Э. Мане. Портрет Эмиля Золя. 1868.
Что ясно из отрывка? Первое. Сто лет тому назад в самой передовой в культурном отношении стране Запада антисемитизм проявил себя вполне открыто и победоносно. Защитники Дрейфуса были наказаны, изгнаны, посажены в тюрьмы или приговорены. Второе. Французское общество (правительство, парламент, армия, суд, большая часть прессы) с редким единодушием встало на сторону антисемитов. Третье. Даже церковь внутренне согласилась с мнением общества. Четвертое. Народ приступил к активному выражению своего отношения к евреям (Золя пишет: «В деревнях уже это началось»). Пятое. Капитан Дрейфус, будучи ложно обвинен в шпионаже, оправдан только через 12 лет (полностью реабилитирован и восстановлен в прежних правах, с сохранением воинского чина в 1906 г.). Шестое. Можно предположить, что были причины, которые и создали столь нетипичную для свободолюбивых французов атмосферу массового антисемитизма в стране. Об этих причинах Золя даже не упоминает (ни слова, ни полслова).
А некоторые лица, настроенных антирусски, и вовсе пытались отыскать корни антисемитизма не во Франции, а… в России: «Преследование против Дрейфуса возбуждается в медовый период франко-русского альянса. В нем высшие милитарные круги Франции получают питательную почву для своих реакционных устремлений. Ведь высшие военные и придворные сферы крепостнического, шовинистического и антисемитского Петербурга не скрывали своего скептического отношения к военной значимости Франции с ее демократическими институтами, с ее евреями, допущенными на командные должности в армии и флоте».[83] Запад частенько валит со своей больной головы на здоровую.
Иероним Босх. Несение креста. Фрагмент.
Среди «летописцев жизни» были и такие, кто ныне уже почти что напрочь забыт читающей публикой. Одним из их представителей новой волны молодых буржуазных циников стал Жюль Жанен (1804–1874), некогда очень популярный в пушкинской России… В зрелом возрасте его удостоят титула академика и не менее громкого звания – «Принц критики». В те времена журналистика и власть прессы были необычным явлением. Газетные писаки еще не считали себя «воспитателями нравов» грядущего поколения.
Нам еще предстоит воочию увидеть, что представляли собой шедшие на смену старым вождям романтизма «молодые прагматики» (в политике, науке, экономике, искусстве). В их прагматизме ощущается горький привкус цианида. Яд давно проник в молодое тело, верша разрушительную и страшную работу. Впрочем, есть еще надежда, что талант все же найдет противоядие. Поколение, чья зрелость пришлась на рубеж столетий, стало свидетелем не только смены властителей, мундиров, вкусов, но и измены мировоззрениям и идеям. Для юношей и девушек, воспитанных в духе философии Просвещения, время, когда «министр, богач, монах, завоеватель в условный срок выходят напоказ», было очень нелегким. Все навыки, идеи, привычки прошлых лет оказались в одночасье, якобы, ненужными, лишними, а порой даже вредными и опасными.
Жанен получил превосходное классическое образование. В его фразах и признаниях больше позы и игры, чем правды, хотя в эпоху «отреставрированных негодяев» устами иных циников глаголет истина. От обширного творческого наследия писателя до нас дошел «Мертвый осел» Часто юношеская проба пера остается в умах потомков. Памяти нации свойственно сохранять образы младые. Книгу эту иногда называют «визитной карточкой французского романтизма». Думается, что Пушкина и Белинского скорее привлекла в его творчестве острота социально-психологического видения общества.
Писателю было 25 лет, когда «Мертвый осел» увидел свет (1829). Несмотря на «раж правдивости», жизнь показала Жанену, что действительность ужасна. Вот, скажем, вчерашние защитники отечества, брошенные на произвол судьбы. В театрах он увидел потрясающую человеческую низость «комедиантов», что окончательно потеряли совесть. Во Дворце правосудия он наблюдал судейских, готовых за деньги оправдать любого преступника. Узрел и дам, занятых сбором пожертвований лишь ради тщеславия. Не менее тяжкое зрелище представляла собой панель со всеми фазами парижской проституции. «В этот час, в семь часов вечера, проституция царит по всему Парижу. В углу на улице бедная женщина выставляет на продажу собственную дочь, у дверей лотерейных заведений даже старые женщины торгуют «счастливым случаем». Поднимите голову: откуда льется весь этот «свет»? Он исходит от домов игры и разврата… В самом низу этой башни мужчина фабрикует фальшивые монеты; в этом темном углу женщина перерезает глотку мужу, ребенок обирает отца. Прислушайтесь: что за ужасный звук? Это тяжелое тело упало с моста в воды Сены, – о горе, быть может, этот утопленник юноша! Итак, от неосознанных чувствований, от беспричинного ужаса несчастный герой рухнул в эту ужасающую правду, которая «начала расползаться все шире, как масляное пятно».[84]
Для нового поколения типичны эклектизм, подлость, конформизм, беспринципность. Они бросили романтизм, предпочтя «школу здравого смысла» ценою подороже. Эти «обыватели с пером» обожали скандальную славу и деньги. Пошлость – их философия, цинизм – их оружие. Оценивая взгляды Жанена, Гонкуры в «Дневнике» приводят якобы сказанную им фразу: «Знаете, как мне удалось продержаться двадцать лет? Я менял свои мнения каждые две недели. Если бы я всегда утверждал одно и то же, меня знали бы наизусть, не читая». В образовательном смысле, как правило, многие из этих писак полные ничтожества. Но это-то как раз и нужно правительству, которое ждет от обслуги не знаний и истины, а покорности и угодливости… Сам Жанен говорил о себе: «Я не знаю ни истории, ни географии…» Сколько таких вот «мертвых ослов» гуляет по коридорам российской власти… Иные не лишены того, что я зову обаянием мерзавца, уставшего от буржуазной жизни, уходящего в оппозицию, доступную в условиях бешеной свободы.
Разумеется, новые поколения собственников тотчас потребовали для себя «нового искусства». Во Франции и Англии на смену ярким и реалистичным полотнам Делакруа, Жерико, Домье, Констебля пришли подражатели и копиисты типа Верне, Делароша, Шеффера и др. Эти художники откровенно и сознательно пошли в услужение капиталу и империи. Если Делакруа написал «Свободу на баррикадах», то уже эпоха Реставрации «обогатила» искусство «Цезарем» А. Ивона, «Римлянами времен упадка» Т. Кутюра, «Взятием Малахова кургана» О. Верне, «Возвращением английских солдат из Индии после подавления восстания» Г. Нила и др. В воздухе явственно запахло декадансом. И все же признаем: у этого буржуазного декаданса была, как мы вскоре убедимся, вполне солидная профессиональная и художественная основа. Тем они, возможно, и интересны.
Можно ли требовать от лавочников и спекулянтов высоких эстетических вкусов?! Если игривая музыка еще как-то доходила до их ушей, то труды писателей и художников оказались отброшены. Эту несправедливость они ощущали отчетливо. Делакруа, узнав о смерти Шопена, запишет в дневник: «Какая потеря! Сколько подлецов живет преспокойно, в то время как угасла такая великая душа!» «Нас расстреливают, но при том обшаривают наши карманы», – говорил Дега о режиме Второй империи и Третьей республики. Научные прихвостни в лице историка Гизо (ставшего вскоре министром) выбросили тогда громкий лозунг: «Обогащайтесь!» (вскоре его подхватил и сам император). Разумеется, в этих условиях в Салон пришли и новые «деятели искусств»… Муза в их понимании подобна базарной торговке. Важно научиться потакать вкусам и запросам «новых буржуа». И надо сказать, что иные из модных художников (Мейсонье, например) получали за свои картины больше, чем Тициан и Рубенс (по 200–300 тысяч франков). У подобного искусства была и философия. На гигантском панно П. Делароша «Художники всех веков» (в Школе изящных искусств) голые девицы раздают награды студентам.[85]
Что же за искусство утвердилось в буржуазной Европе? Обратим свой взор вновь к Франции, ибо она повелительница мод литературных и художественных. Эта великая обольстительница хороша даже своими буржуазными пороками. Поэтому говоря о Западе, мы вынуждены смотреть на состояние культуры через и посредством французской живописи… То, что однажды сказал Ромен Роллан в отношении европейской поэзии и литературы (в «Жане-Кристофе»), вполне применимо и к культуре в целом: «От всей этой поэзии в целом веяло благоуханьем богатой цивилизации, созревавшей в течение долгих веков, – другой такой не было нигде в Европе. Тот, кто вдохнул ее, уже не мог ее забыть. Она привлекала поэтов со всех концов земли. И они становились французскими поэтами, французскими до нетерпимости; и у французского классического искусства не было более ревностных учеников, чем эти англосаксы, эти фламандцы, эти греки».[86]
В самом деле, от французской живописи веяло не столько запахом тлена, сколь odor di bellezza (итал. «запах красоты»). Что пленяет нас в красоте больше, жизнеутверждающее молодое начало или спокойное угасание зрелости и завершенности? Выход на художественную сцену «импрессионистов» (это название появится в 1874 г., в основе его название одной из картин Клода Моне) означал нечто большее, чем появление очередного модного направления. Изменился сам подход художника к жизни, ибо изменился и сам художник. Уже Домье поставил рядом всех тех, кто трудится (прачку и интеллигента, художника и рабочего). На тех же или весьма сходных позициях стояли Курбе, Мане, Дега, Милле. Последний вообще любил повторять: «Я крестьянин, и ничего более». Теодор Руссо относился с неприязнью к городской цивилизации. Даже буржуазные до мозга костей Гонкуры заявляли: «Художники – рабочие и всегда остаются рабочими, в них бродит закваска зависти рабочего человека к высшим классам, хотя они и прикрывают это шуткой… Ведь, есть социализм и без формул и теорий – социализм нравов и склонностей, социализм подспудный, укрывшийся в своей норе, но ведущий оттуда войну с теми, кто первенствует, с их костюмами, воспитанием, вплоть до манер».[87]
Я.А. Баркер. Осязание.
Условно говоря, реализм в живописи и поэзии «возник» в середине XIX в. – в творчестве Курбе, Домье, Бодлера. Затем и у импрессионистов живопись начала говорить «вполне материальным языком»… Гюстав Курбе (1819–1877) и стал глашатаем реалистического искусства. Оно шло на смену классической и романтической школе. Прежде чем говорить о творческой стороне его жизни и деятельности, заметим: интересно и знаменательно то, что едва ли не все главные герои нашего рассказа происходят из буржуазных семей… Вот и Курбе был родом из Орнана, где его отцу, состоятельному землевладельцу, принадлежали поля и виноградники. Что же касается его успехов на ниве просвещения, то они были более чем скромными. Хотя вначале он подавал надежды, вскоре стало ясно, что ни семинария, ни Королевский коллеж в Безансоне, куда его запихнули для изучения философии, не смогли увлечь юношу. Его позиция ясно и четко выражена в письме к родителям: «Меня определили в коллеж насильно, и теперь я там ничего делать не буду. Оставляю коллеж с сожалением, тем более что впереди только год учения. Думаю, что позднее буду раскаиваться. Но в любом случае курса здесь мне не закончить, и мой труд пошел прахом; тут надо делать либо все, либо ничего». Уже в молодые годы стало совершенно ясно, что у юноши есть характер. А характер стоит иного диплома.
Подлинной школой для него станет Париж, где он и учился живописи. Вначале он пишет небольшие картины на романтические сюжеты. Все эти «одалиски», «лелии», «отчаяния» были так сказать пробой пера. Расцвет его живописи последовал между концом 1848-го и серединой 1850 годов, когда появились его знаменитые полотна: «Послеобеденное время в Орнане», «Дробильщики камня», «Похороны в Орнане» и «Возвращение с ярмарки». Все это время он работает, как каторжный. И результаты скоро не преминули сказаться. На Салон 1849 г. он представил семь картин и все они были приняты. А «Послеобеденное время в Орнане» получила вторую золотую медаль и правительство приобрело ее за 1500 франков. Вскоре появятся и «Дробильщики камня». Все это уже крупные картины. Однако они убеждают не размерами, но жизненной правдой и силой. Его дебют и в самом деле «был сокрушителен, как восстание» (Ш. Бодлер).
П. Деларош. Ришелье, везущий арестованных Сен-Мара и де Ту. 1829.
Большой, а тем паче великий художник всегда социален… Вот и картины Курбе сразу привлекли внимание не только своим мастерством, но, если угодно, их «идеологией»… Описывая обстоятельства, побудившие его создать «Дробильщиков камня», он говорит о том глухом внутреннем протесте, что возник у него при виде двух тружеников, являвших собой «законченное олицетворение нищеты». В мире масса таких вот бедолаг, что начинают и заканчивают жизнь за тяжким трудом, на обочине дороги. Хотя сам Курбе вначале вроде и не задавался целью поднимать «социальный вопрос». Но если художник видит вокруг массовое горе и нищету, если народ стонет от голода, как можно живописать одних холеных господ в твидовых пиджаках и фраках?! Поэтому Прудон был во многом прав, называя Курбе подлинно социальным художником, а «Дробильщиков камня» – первой социальной картиной: «Дробильщики камня» – насмешка над нашей индустриализацией, которая ежедневно придумывает замечательные машины… для выполнения… самых разных работ… и не способна освободить человека от самого грубого физического труда…» Еще более точную характеристику тому политическому смыслу, что заложен в картине, давал критик Лемонье: «»Дробильщики камня» вошли в искусство подобно бунтовщикам: камни, которые они разбивали на дорогах, превращались в плитки мостовых, которыми разбивали стекла. Это простой народ, грубый и мозолистый, требующий снова свое право на искусство, так же как и свое право на жизнь».
Гюстав Курбе. Здравствуйте, мсье Курбе! 1854.
Мастер влияет на нравы. О схожести характера труда литератора, художника, педагога говорит оценка Прудоном творчества Курбе. Тот «пользуется своей кистью, как деревенский учитель – линейкой», любая его картина «заключает в себе сатиру и поучение».
Знаменитыми станут и «Похороны в Орнане», где Курбе изобразил местное общество на полотне 3,15 на 6,64 метра. Все местные «корифеи» маленького провинциального городка хотели быть отображенными. Когда же картина была выставлена на суд зрителей, началась подлинная вакханалия. Иные сочли, что их специально показали в карикатурном свете, хотя они на самом деле были таковы. Стали раздаваться упреки в «социализме». Сам Курбе скорее считал ее «похоронами романтизма». В статье он писал: «Смысл реализма в отрицании идеального. «Похороны в Орнане» были в действительности похоронами романтизма. Реализм по существу искусство демократическое».[88]
На Курбе набросились все те, кто привык к слащавой холодности барочных стилей. Напрасно Шанфлери защищал картину, говоря, что в ней «нет и намека на социализм». И даже восклицал: «Горе художникам, пытающимся поучать своими произведениями… Они могут на пять минут польстить толпе, но передают лишь преходящее. К счастью, г-н Курбе не собирался ничего доказывать своими «Похоронами»… Художник пожелал показать нам повседневную жизнь маленького городка… Что же касается пресловутой уродливости орнанских горожан, то она нисколько не утрирована: это уродство провинции, которое следует отличать от уродства Парижа». В том-то и загвоздка. Буржуа полагали, что предстанут на полотне «героями», а художник видел их иначе, ибо ему приходилось «ходить, в толпе, средь шиканья глупцов». Разумеется, перед нами голая и неприкрытая правда искусства. Но, повторяю, она-то как раз почти всегда и социальна![89]
Курбе является тем художником, который особенно интересен зрителю и читателю жизненной философией, позицией, а не перипетией его жизни… Конечно, женщины у него были, с этим у него все в порядке (камелии, розы, бланши, мины и т. д.). Но чувственная сторона может быть оттеснена на второй или даже третий план, ибо и сам он говорил: «Будучи убежден, что всюду на земле есть женщины, считаю излишним брать их с собой». Да и по части верности Бахусу он отнюдь не ангел… Когда директор изящных искусств г-н де Ньюверкерк от имени правительства пригласил его на официальный обед, но посмел потребовать от художника «разбавить вино водой», тот в гневе высмеял «наглеца». В итоге Курбе и его «Похороны в Орнане» с «Мастерской» так и не были допущены в отдел французской живописи на Всемирной выставке изобразительного искусства. Отношения художника с властью становились все более натянутыми. Ходил слух, что, посетив Салон-1853, возмущенный император ударил хлыстом «Купальщиц».
В своих оценках кесарей и «цивилизаторов Европы» Курбе язвителен и беспощаден. Скульптор Клезенже попросил его высказаться по поводу проекта монумента, заказанного Наполеоном III и призванного заменить известный Луксорский обелиск. Тот придирчиво осмотрел композицию, одобренную самим императором, и поинтересовался: «кто эти чудаки, будто сидящие на горшках по углам пьедестала?» Напуганный скульптор робко возразил: «Эти четыре чудака, как ты говоришь, – четыре кесаря, спасители мира: Юлий Цезарь, Карл Великий, его дядя и, наконец, Его Величество!» Аргументация не убедила Курбе. Он заметил: «Вся эта идея мне кажется неудобоваримой, и если ты полагаешь, что эти молодчики спасли мир, то ты также силен в истории и в философии, как и твой император. Я лично считаю, что они его разрушили». Трудно не разделить позицию художника. Кстати, среди его полотен нет ни одного посвященного тем, кого он называл «солдатня Тюильри». Он хотел воплотить в жизнь памятник, названный «Последняя пушка». Не очень повезло и святым отцам. Полотно Курбе «Возвращение с конференции» (1863) изобразит пьяных служителей церкви («подрывная картина»).
Г. Курбе Похороны в Орнане. Фрагмент.
Курбе очень хотел создать школу. С этой целью он основал мастерскую, где пытался разрушить систему образования Школы изящных искусств. Четыре основные заповеди мастерской: «Не делай то, что делаю я. Не делай то, что делают другие. Если сделаешь то, что некогда делал Рафаэль, тебя ждет ничто – самоубийство. Делай то, что видишь, что чувствуешь, что захочешь». В письме-манифесте, адресованном ученикам, Курбе прямо говорит им, что каждый артист должен быть сам себе учителем. Там подчеркивается, что искусство – современно и абсолютно индивидуально. Каждая эпоха может быть понята и воспроизведена только художниками этой же эпохи. Школ не бывает, есть только художники. Сам же Курбе может объяснить другим лишь метод, с помощью которого, по его мнению, можно стать настоящим художником… Увы, пони и быки, которые позировали тем 42 ученикам, что «учились» у него, не могли заменить последним таланта. Тем не менее, Курбе стал главой этой школы и открыл «Павильон реализма».[90]
Курбе – реалист в живописи. Его работы оценила вся молодежь – от Мане и Уистлера до Ренуара и Моне. Уистлер именует его «великим человеком». Писсаро включает это имя в перечень «великих стариков» (Давид, Энгр, Делакруа, Курбе). Его имя написано на знаменах реалистов других стран (Лейбль в Германии и Мункачи в Венгрии). При всей остроте его сюжетов, ни у кого (даже у буржуа и власти) нет сомнений в том, что они имеют дело с великим художником. Его работы ценятся высоко. «Дробильщики камня» куплены за 16 тысяч франков, а «Деревенская нищета» – за 4 тысячи. Однако далеко не всем художникам везло так, как Курбе. Впрочем, со временем и он испытал на себе «пылкую любовь» властей (тюрьму и изгнание). Курбе как-то признал, что «без февральской революции, возможно, моей живописи никогда бы и не увидели» (1868). Поэтому нас вряд ли удивит то, что художник встал на сторону Парижской Коммуны.
Показательным для характеристики идейно-политических воззрений позднего Курбе стал отрывок из черновой рукописи, который мы приводим: «… В век идей коммунизма, в котором мы живем, что может быть более грустным для художника, как не эти ежегодные выставки картин. Что может быть более грустным, чем эти скопления людей, которые смотрят, не видя (будто упали с облаков), и которые думают только о делах. И, однако, это показывается для них, ибо художник при соприкосновении с этим миром денежного мешка развратился и более не выполняет своего назначения. Это не художник кладет отпечаток на публику, наоборот, свет определяет художника, и с таким успехом, что теперь у нас мода заменяет искусство. Но в то же время – что делать в век, который находит утехи лишь в материальной стороне? И поскольку человека оценивают по его богатству, дух согнулся перед деньгами. Художник тоже стал торговцем…»[91]
Если Делакруа, Коро, Курбе родились в богатых семьях, то иной была судьба живописца и графика Жана Франсуа Милле (1814–1875), автора известных «Сборщиц колосьев» (1857). Каково оказаться в Париже сыну простого крестьянина. Он вел повседневную, тяжкую борьбу за место под парижским солнцем. Этот крестьянский Жан Вальжан чувствовал себя тут абсолютно чужим. Чего мог он ожидать от тех, кто позже презрительно будет называть его «Данте деревенщины, Микеланджело мужичья»?! Учеба у блестящего, но холодного Делароша, любимца высшего света, если что-то и дала ему, то лишь в профессиональном отношении. Он как был, так и остался «лесным человеком». Выручал его только Лувр… Как и Делакруа, как многие художники до него и после него, он обретал здесь приют и душевный кров. Лувр заменял ему и родные пейзажи и родительское тепло. «Мне показалось, – писал он об этой «пальмире», – что я нахожусь в давно знакомой стране, в родной семье, где все, на что я смотрел, предстало передо мной как реальность моих видений». Позже Золя, уговаривая Сезанна перебраться в Париж, также уверял, что Париж предоставляет такое преимущество, какого не найти ни в каком другом городе («это музеи, где можно учиться на картинах великих мастеров»).
Необычность, ершистость, отчужденность Милле чувствовал и Делакруа, записав в дневник впечатление от встречи (1853): «Утром ко мне привели Милле. Он говорит о Микеланджело и Библии, являющейся, по его словам, едва ли не единственной книгой, которую он читает. Это объясняет несколько натужливую осанку его крестьян. Впрочем, сам он тоже крестьянин и хвастает этим. Он, видимо, из плеяды или из отряда тех бородатых художников, которые делали революцию 1848 года или по крайней мере аплодировали ей, надеясь, по-видимому, что вместе с имущественным равенством наступит и равенство талантов. Милле как человек все же кажется мне стоящим выше этого уровня, и среди небольшого количества его довольно однообразных работ, какие мне довелось видеть, есть некоторые, проникнутые глубоким, хотя и претенциозным чувством, стремящимся прорваться сквозь его иногда сухую, а иногда смутную манеру».[92]
Девиз его жизни – свобода и правда искусства. Хотя он видел, как многим художникам приходится приспосабливаться, идти на сделки с совестью. Видел, как они угождают свету и сильным мира сего. Ведь, и тогда от мнения министра или банкира зависело очень многое. Они зачастую заказывали «музыку». Но истинный художник не будет «продаваться», не изменит своей «клятве Гиппократа»… Милле не раз повторял: «Меня никто не заставит кланяться! Не заставит писать в угоду парижским гостиным. Крестьянином я родился, крестьянином и умру. Всегда буду стоять на моей родной земле и не отступлю ни на шаг». Так следует понимать Искусство – «стоять на моей родной земле»!
Родина и семья помогли ему выстоять в суровой борьбе. Хотя одной жене художника (П. В. Оно) пришлось заплатить смертью за полуголодную жизнь в нищете, другой (К. Лемэр) – долгими годами невзгод и лишений. Что значим мы, художники, без постоянного и чуткого внимания и заботы любимой женщины. Не случайно такой шедевр как «Собирательницы колосьев» посвящен женщинам и написан в годы самых тяжких испытаний. Это своеобразное «свидетельство о бедности» художника, вынужденного питаться крохами со стола буржуазии… Вот и Милле пишет другу (1859): «Дров у нас осталось дня на два, на три, и мы просто не знаем, что делать, как достать еще. Через месяц жене родить, а у меня ни гроша…» А ведь он уже известный мастер. Вспомним, как другой художник, К. Моне, испытывал безысходную нужду и крайнюю нищету: вынужден был жить почти впроголодь (его и семью тогда спас Ренуар, принеся краюху хлеба). Моне писал (1869): «Положение отчаянное. Продал натюрморт и получил возможность немного поработать. Но, как всегда, вынужден был остановиться – нет красок».
Ж.Ф.Милле. Автопортрет. 1841.
Кому-то, возможно, и покажется странным, что буржуазия постоянно ощущает инстинктивный, животный страх перед людьми труда… Вот и выставленный «Сеятель» (1850) назван прессой «угрозой простолюдина». В чем же эти господа узрели угрозу? А в том, что крестьянин, видите ли, разбрасывает зерна, которые у Милле, якобы, напоминают «картечь». Богачи презрительно назвали живопись художника «нищенским стилем». Со страниц желтой прессы то и дело раздаются истошные полные ненависти вопли, подобные тем, что пришлось однажды услышать Милле со страниц «Фигаро»… Некий журналист, посетивший Салон, так оценил работу художника: «Удалите маленьких детей! вот проходят сборщицы г. Милле. Позади этих трех сборщиц на мрачном горизонте вырисовываются лики народных восстаний и эшафоты 93 года!» Как нам нужны сегодня художники типа Милле, Курбе, Домье, что поднимут свой голос протеста в защиту угнетенного и ограбленного народа. Ибо «сеятели» вновь ограблены и унижены![93]
В восемь лет прибыл в Париж и Оноре Домье (1808–1879), сын поэта и стекольщика. Таким и будет все творчество художника – поэтичным, ясным и прозрачным, как самое лучшее и чистое в мире стекло… В его лице страна обрела блистательного графика, мастера воинствующей сатиры. Его шаржи станут мощным и разящим оружием против плутократов, тиранов, империалистов. Этого великого сына Франции отличали, помимо его незаурядного таланта, две черты – огромная любовь к простому народу и ненависть к его угнетателям и эксплуататорам. Поводом для карикатур Домье были самые различные слои общества, однако особо доставалось тем, кто непосредственно стоял во главе государства (королю Луи-Филиппу и президенту Тьеру). Июльская революция 1830 г. сделала из журналиста Тьера заметную фигуру в политическом «зверинце». Поэтому в серии гравюр в «Карикатюр» он является главным объектом сатиры. В народе Тьера называли по-разному: «Маленький Никудышник», «Карманный депутат», «Директор карликовой труппы» и т. д. и т. п. В «Законодательном чреве» это наиярчайшая фигура. Одна из лучших карикатур Тьера, выполненная Домье – «Матереубийца» (Тьер наносит удар дубинкой прессе). Даже Бисмарк называл президента не иначе как «Адольф Первый».
Домье любил повторять: «Надо принадлежать своему времени»… Под его кистью оживал огромный, суетливый, прожорливый Париж… Одна за другой появляются серии ярких литографий: «Парижские переживания», «Наброски», «Парижские музыканты», «Парижские типы», «Супружеские нравы», «Купальщики». В его видении оказываются и достижения технического прогресса. Тогда уже появились железные дороги. Луи Дагер, декоратор Гранд-Опера, открыл способ механического изображения природы с помощью камеры-обскуры и специально обработанных пластинок. Домье говорит о новом искусстве: оно «все изображает, но ничего не выражает». И даже рисует поклонника дагерротипии, сопровождая литографию надписью: «Терпение – добродетель ослов».
Оноре Домье. Любопытные. 1839.
Одним из первых Домье понял, сколь страшными могут стать «орудия прогресса». Однажды он изобразил изобретателя «игольчатого ружья», средства массового убийства. Тот уподоблен чудовищу (отвратительное сочетание маньяка и палача), победоносно озирающему поле, покрытое сотнями мертвецов. После опубликования литографии Домье получил письмо Мишле: «Великолепно, мой дорогой, великолепно! «Изобретатель игольчатого ружья!» Никогда Вы еще не делали ничего более великого и более своеобразного. Жму Вашу руку. Ж. М.» Он ненавидел войну и, как мог, старался уберечь людей от ее страшных объятий. Вот Европа небрежно балансирует на дымящейся, готовой взорваться бомбе. Вот женщина, олицетворяющая собой мир, проглатывает огромный клинок. Вот бог войны Марс пирует за столом или храпит на мешках с золотом (на заводах Рура тогда отливались новые пушки Круппа, ознаменовавшие «прогресс»).[94]
Мастер физиономического портрета, он старался отразить все слабости и пороки несовершенной человеческой натуры… Ненавидя мир условностей, презирая напыщенных буржуа, он высмеивал даже их науку. Вместо того чтобы говорить на злобу дня, та предпочитала прятаться в тени античных драпировок. Классика (столь им любимая) превращалась в товар в гостиных разбогатевших нуворишей. Домье создаст одну из самых едких и веселых своих серий («Древняя история»). В пятидесяти литографиях предстают «герои» нового времени. Все они уродливы, сами того не понимая… Костлявый Нарцисс, упиваясь своим отражением в воде, подобен смерти. Вот кентавр Харон, обряженный в ночной колпак, учит грамоте рахитичного буржуазного недоноска. «Прекрасная» Галатея напоминает перезревшую старую шлюху, нюхающую табак.
Особенно силен Домье в политических и социальных карикатурах. Недаром Бальзак скажет о нем: «У этого парня под кожей мускулы Микеланджело». Для него не прошла даром школа сатиры «Шаривари» (журнал основан в 1832 г.), где он проработал долгие годы. На страницах издания явился и образ Робера Макера («Сто один Робер Макер»), тип нового жулика. Тот пережил свое время и триумфально обосновался с тех пор во многих странах земного шара. Кто таков Макер? Он многолик и неуловим. Встречается среди недобросовестных финансистов, жуликоватых политиков, подлейших и беспринципных журналистов, продажных юристов и судейских, генералов и чиновников, обделывающих ловко свои «дела» под надежной защитой жалкого лилипута-президента… Стоит привести монолог «героев», что был опубликован в «Карикатюране» вместе с рисунками Домье (20 августа 1836 г.)… Подлые актеришки (Робер Макер и Бертран) размышляют о том, как бы им получше да половчее устроиться при нынешнем режиме.
В книге Р. Эсколье «Оноре Домье» приведены их незатейливые, но, надо признаться, более чем современные рассуждения: «– Бертран, я обожаю деловую жизнь, – говорит ему Макер, – хочешь, откроем банк, но, знаешь, настоящий банк! Капитал: сто миллионов, сто миллионов миллиардов акций. А потом – мы накроем Французский банк, накроем банкиров и банкистов, сиречь мошенников, накроем весь мир! – Да, – отвечает Бертран, – но вот только полиция… Но Робер с презрением обрезает его: – До чего же ты глуп! Кто посмеет арестовать миллионеров!..» Франция тогда только-только вступала в период коренной буржуазной «перестройки»… Эти запоминающиеся и яркие образы Домье, видимо, наш читатель согласится, и поныне преспокойно разгуливают повсюду.[95]
Позавидуем Франции, у которой в сложнейший период истории нашлись великие и бесстрашные художники… Гоген прав, сказав по случаю столетия его рождения: «Домье изваял иронию»… Кстати говоря, нелишне напомнить, что это Домье мужественно вышел на баррикады с оружием в руках, отстаивая свои республиканские взгляды в дни Июльской революции (вместе с Дюма, Давидом д`Анже и другими). А в 1832 г. он же был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за карикатуру «Гаргантюа». Так что, как видите, и в самом распрекрасном «демократическом обществе» журналисты и карикатуристы порой не минуют тюрем (если они, конечно, не жалкие трусы и дерзнут выступить против тиранов или толстосумов)… Как вспоминал один из современников, описывая церемонию арестованных «узников совести» в тюрьме Сент-Пелажи: «Сюда спускались все республиканцы, исповедовавшие идеи равенства, радуясь возможности поклониться своему знамени. Становились как попало и, вспоминая былые времена, хором повторяли вдохновенные стихи наших революционных поэтов… Затем пели другие гимны свободы. Сколь гордо, возвышенно, прекрасно звучали они! Разгорались патриотические чувства, заставляя живее биться сердце, возвышая душу». Полтора века спустя у других «узников совести» (в России) не будет ни совести ни чести, да и камеры свои они сменят на доходные места. Этому художнику («бичевателю зла») посвятит свой стих Бодлер.
- Художник мудрый пред тобой,
- Сатир пронзительных создатель.
- Он учит каждого, читатель,
- Смеяться над самим собой.
- Его насмешка не проста.
- Он с прозорливостью великой
- Бичует Зло со всею кликой,
- И в этом – сердца красота.
- Он без гримас, он не смеется,
- Как Мефистофель и Мельмот.
- Их желчь огнем Алекто жжет,
- А в нас лишь холод остается.
- Их смех – он никому не впрок,
- Он пуст, верней, бесчеловечен.
- Его же смех лучист, сердечен,
- И добр, и весел, и широк.[96]
Перед огромным талантом Домье преклонялись Дега и Мане… В собрании картин у Дега насчитывалось 1800 его литографий. Когда Домье умер (февраль 1879 года), его прах вскоре перенесли на кладбище Пер-Лашез, где покоились любимые им Коро и Добиньи, и где некогда вели последний бой коммунары. Подобно Курбе, он остался верен идеям Коммуны. Отказался он и принять орден Почетного легиона из рук палачей своего народа. Художник, в отличие от иных продажных господ, заслужил ту скромную, но величественную надпись, что можно узреть на каменной кладбищенской плите: «Здесь покоится Домье. Человек доброго сердца. Великий художник, великий гражданин».
Оноре Домье. Ничего не скажешь, это я… 1864.
Искусство импрессионистов – это своего рода вторая волна романтизма в европейской культуре. Хотя для нас они, безусловно, уже «старые мастера», по праву обитающие среди плеяды величайших живописцев прошлого. И все-таки это искусство новое, новое как по стилю и манере, так и по содержанию… Давайте вспомним, что или кто прежде взирали на нас с полотен. В портретном ряду там были преимущественно фигуры из мифологии или древней истории (герои, библейские персонажи, кардиналы, короли, дамы света, инфанты). Позже появились торговцы, воины, кавалеры, врачи, бюргеры и состоятельные ремесленники. И лишь изредка в картинах появлялись люди из народа.
С появлением импрессионистов в живопись пришли мятежники (не случайно их выставка в 1874 г. так и будет названа – «Выставка мятежников»). Художники повернулись лицом к простому народу. Для них он куда более интересный предмет осмысления, созерцания, анализа и даже откровенного восхищения, чем светские шалопаи или сильные мира сего. В пейзаже они были ближе к реальной живой природе. Своим последующим названием течение обязано картине К.Моне «Восход солнца» или «Впечатление» (франц. impression). Появление этой картины вызвало у критика журнала «Шаривари» приступ отторжения. Он бросил презрительные слова: «Эти пятна были созданы тем же способом, что и при покраске гранитных опор фонтанов. Пиф! Паф! Бах! Шлеп! Расступись! Это неслыханно, это ужасно!» Главным в новой манере были отнюдь не световые гаммы, пятна или игра теней. Важную особенность творчества импрессионистов выразил Л. Вентури, сказав, что эти художники по-своему способствовали признанию человеческого достоинства обездоленных классов. Они выбирали самые простые мотивы, предпочтя «розам и дворцам капусту и хижины». Итак, вместо королей и президентов – хижины?![97]
Импрессионисты – это романтики в реалистических одеждах. В этой связи понятно, почему между ними и романтиками первой волны установились такие дружеские и родственные связи. При желании можно узреть схожие сюжеты и настроения в картинах у Мане, Дега, Милле с Ватто и Пуссеном, а у Писсаро, Моне и Ренуара с Коро и Констеблем. Ведь, именно Констебль и Коро первыми стали писать этюды на пленэре, пытаясь показать природу «такой, какой видит ее непредубежденный человек». Разумеется, все импрессионисты боготворили Делакруа, ставшего для них «явлением Христа». Тот был их оплотом, их знаменем, их манифестом. Этот художник был едва ли не единственным, кто не предал старые идеи. Он и через 20–30 лет не стал отказываться от убеждений своей молодости. И это когда предательство и переход в стан обслуги торговцев и спекулянтов стали почти повсеместным явлением… Ш. Делеклюз отмечал в дневнике (1828): «Делакруа – единственный, кто продолжает упорствовать в своих странных идеях».[98]
Стоит ли удивляться, что импрессионисты, по сути дела, – его «дети»… Мане просит разрешения скопировать «Ладью Данте». Ренуар сккажет, что для него в юности «Делакруа был Лувром». Милле пришел к нему на поклон, как к патриарху. Фантен-Латур в картине «В честь Делакруа» (1864) изобразил у портрета умершего Делакруа – Бодлера, Мане, Уистлера… Выученик «школы Энгра» Дега копирует его картины и собирает его полотна, словно это его собственные картины (у него было 60 картин, этюдов, акварелей и рисунков Делакруа). Поль Синьяк, отмечая его роль ведущего теоретика и практика романтизма, пишет книгу «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму».[99]
Если Делакруа – их духовный отец, то Поль Дюран-Рюэль – отец «плотский»… Кто же это такой? Французский Третьяков или Мамонтов… Знаменательно это потрясающее сходство историй, культур, судеб, идей, революций, художественных течений двух стран. Разве Великая Французская революция не породила Великую Октябрьскую социалистическую революцию?! Разве большевики не взросли в той колыбели, которую «качали» Фурье, Сен-Симон, Робеспьер, Марат и Бланки?! Да и судьбы русских художников-«передвижников» очень напоминают судьбы французских импрессионистов.
Клод Моне. Пляж в Сент-Адресс. 1867.
Воздадим должное той части буржуазии, которая сердцем и душой принадлежит все же к прогрессивному классу. Деньги для нее не главное. Они умны и могут оценить культурный и цивилизационный процесс в целом (это справедливо в отношении лучших из них). Вспомним, что практически едва ли не все крупные мыслители, толковые и дельные реформаторы, выдающиеся писатели, художники, музыканты, ученые свое происхождение вели от этих корней. Как бы мы порой не бичевали, не костили, не рубили «буржуа», будем помнить, что бичуем и проклинаем мы зачастую лишь самих себя.
Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) в юности мечтал стать миссионером или офицером, а в итоге обрел писчебумажную лавку и стал коммерсантом. Вначале он питал глубокое «отвращение к торговле». Сдав экзамены на звание бакалавра, он был принят в Сен-Сирскую школу (1851). Болезнь помешала военной карьере. Это обстоятельство сыграло в будущем на руку искусству… Поль вынужден был заняться торговыми делами. Дела шли и раньше неплохо, если бы не революция (1848). Кредит был подорван и разразилась паника. Вскоре однако ситуация изменилась и торговля картинами вновь стала выгодным вложением денег… Всякое искусство должно иметь материальную опору в качестве источника своего творчества и существования… Увы, без римских пап не было бы Рафаэля, без Медичи не смог бы существовать Микеланджело, без испанских монархов не явились бы на свет Колумб и Гойя, без русских царей не было бы великолепия двух столиц, а без денежных субсидий и щедрой помощи меценатов не было бы и красоты.
О. Ренуар. Поль Дюран-Рюэль. 1910
В 1865 г., когда умер его отец (писчебумажная лавка которого превратилась в галерею), у Поля была солидная фирма по художественному бизнесу (покупка и продажа картин). Он скупает полотна Коро, Руссо, Милле, Курбе, Домье, Добиньи и др. Еще до того как любители оценили таких великих мастеров как Гойя, Веласкес, Греко, поздний Рембрандт, он стал активно приобретать их картины. Купил Дюран-Рюэль и коллекцию принца Наполеона. Затем он основал ряд художественных журналов. Этот предприниматель знал в своей жизни взлеты и падения, что, конечно же, абсолютно неизбежно. К тому же, ему приходилось иметь дело с такой тонкой материей как живопись. Этот вид искусства более чем что-либо еще нуждается в тонких и чутких знатоках. Вкусы широкой публики всегда нуждаются в «шлифовке», а то и в самой элементарной «формовке».
Поэтому столь важное место занимали и занимают в жизни любого высокоразвитого общества просвещенные и богатые люди. К таковым, бесспорно, принадлежал П. Дюран-Рюэль, что вел нелегкую битву в массовом общественном и художественном сознании, утверждая идеи «реалистов» и «романтиков»… Кстати, он всегда считал именно их подлинно великими мастерами (Коро, Делакруа, Курбе, Милле, Руссо). Когда открылась большая Всемирная выставка (1855), где, наряду с Энгром, Верне, Руссо и другими, были выставлены работы Делакруа, торговец был потрясен гением этого художника. Он вспоминал: «Это была полная победа живого искусства над искусством академическим. Я до сих пор помню, какое впечатление произвели на меня создания великого мастера, собранные в этом зале. Они окончательно открыли мне глаза и укрепили меня в убеждении, что, может быть, и я сумею в своей скромной сфере сослужить кое-какую службу подлинным людям искусства, способствуя тому, чтобы публика поняла их и полюбила». Итак, он решил стать своего рода «учителем» и «воспитателем вкусов» общества.
Как только буржуа узрел в картинах «товар», в нем сразу же ожил природный инстинкт торговца и дельца. Подобно хорошей гончей собаке, преследующей дичь, тот почувствовал – дело пахнет большими деньгами. К. Писсарро в одном из своих писем к сыну четко выразил суть их мотивации (1896): «Ты совершенно прав, говоря, что искусство не нужно публике, но я думаю, что совершенно то же самое и в Англии и везде. Деньги – это все… Надо, мой милый, принимать вещи, как они есть, да еще уступать обстоятельствам, иначе будет еще труднее. Мы уже прошли сквозь все это, мы помним, с каким презрением все эти глупцы относились к нам, когда мы пытались выбраться из затруднений. И когда случайно найдешь человека, который будет тебя эксплуатировать, значит, тебе здорово повезло! Или же надо быть таким же ловким, как маршаны».[100]
Буржуазия даже из воздуха делает товар… А уж о произведениях искусства и говорить не приходится. Динамика роста цен на произведения искусства и в самом деле потрясает. За копию «Собирательниц колосьев», как пишет Дюран-Рюэль, некто Сансье заплатил «бедному Милле» всего 40 франков. За работу этого же художника «Женщина с лампой» Дюран-Рюэль платит 16 000 франков (а спустя годы эта картина будет продана в Америке за 400 000 франков). И все же скажем слова признательности этому торговцу картинами, что в тяжелые минуты жизни пришел на выручку талантам мирового значения. Вряд ли он, конечно, «в течение всей своей жизни» думал скорее об интересах других людей, нежели своих собственных. Но для искусства важнее итог его трудов. А он весьма впечатляющ. Кстати, после смерти маршана (1922) Моне, единственный из великих импрессионистов, тогда еще остававшихся в живых, писал Жозефу Дюран-Рюэлю: «Я всегда буду помнить, чем мои друзья и я сам обязаны вашему незабвенному отцу».[101]
Усилия его дают плоды… Выставки собранных им работ художников (в Париже, Лондоне, Брюсселе, Нью-Йорке) вызвали немалый шум, хотя до устойчивого интереса к полотнам импрессионистов было еще очень далеко. Он стал «своим» среди отверженных художников. В воспоминаниях Ж. Ренуара (сына художника) о нем сказано с теплотой и признательностью: «В наших разговорах постоянно всплывало имя Поля Дюран-Рюэля. «Папаша Дюран» не боялся риска; «папаша Дюран» великий путешественник; «папаша Дюран» ханжа. Все это Ренуар подтверждал. «Нам был нужен реакционер, чтобы отстаивать нашу живопись, которую «салонники» называли революционной. Его, во всяком случае, не стали бы расстреливать заодно с коммунарами!» Однако чаще всего он говорил: «Папаша Дюран – славный старик!» Вспоминая выставку в Нью-Йорке, он также заметил: «Мы, может быть, обязаны американцам тем, что не умерли с голоду».[102]
Показательно и письмо Дега, в котором тот, обращаясь к Дюрану, говорит (1884): «Сударь, Не откажите выдать немного денег моей прислуге – она явится к Вам. Сегодня утром она переслала мне налоговое извещение. Правда, больше половины налогов я уже заплатил, но государство, по-видимому, намерено немедленно взыскать остальное. На это хватит 50 фр., но если можете, дайте 100, чтобы ей было на что жить. Я оставил ей очень мало, а мне придется здесь несколько задержаться – тут так красиво. Ну, этой зимой я засыплю Вас картинами, а Вы, со своей стороны, засыплете меня деньгами…»[103]
У импрессионистов был свой глава, идеолог и «крестный отец». Если французская буржуазия захотела бы поставить в живописи овеществленный автограф, то, вероятнее всего, она бы поручила это сделать Эдуарду Мане (1832–1883). Среди предков Мане – судьи, прокуроры, казначеи, юристы, мэры, владельцы поместий и администраторы. Семейство Мане располагало 25 тысячами франков в год, что для того времени было вполне солидной суммой, означавшей, что Мане – это «типичные средние буржуа».
Среда, в которой рос Мане, может быть названа «культурной» (педагоги, переводчики), хотя жизнь юноши не назовешь разнообразной. Учеба не принесла ему удовлетворения (любил историю и гимнастику). Его записали «на рисунок». И здесь свершилась метаморфоза. Юноша увлекся этим занятием (по рисунку у него «очень хорошо»). Шли годы, когда он вдруг решил поступить в Мореходную школу. В этом видится желание уйти от ненавистной «школы». Последовало путешествие на торговом судне в Бразилию (Рио-де-Жанейро). Талант «художника» оказался там весьма кстати. Ибо прежде чем продавать сыры несчастным бразильцам, тем с помощью краски, содержавшей свинец, вернули их аппетитный вид. Все же это путешествие было очень романтичным – колибри, орхидеи, негритянки, люэс… Вспоминаются слова Шатобриана, сказанные им в адрес Парни: «все, что ему требовалось, – это южное небо, источник, пальма и женщина».
…Отец, выслушав страстные мольбы сына, без устали твердящего о стремлении заняться живописью, мудро решает: «Да будет так! Следуй своему призванию. Изучай искусство»… Мане поступает на обучение к Кутюру, самородку, убежденному в своей непревзойденности. У него он научится трудиться и быть искренним. Посещает свободную «академию» Сюисса. Строптивый характер юноши то и дело дает о себе знать. Его не устраивает и манера письма учителя. Кутюр, вспылив, говорит: «Если сомневаешься в достоинствах учителя, проще подыскать другого». Эпоха была скандальной и тревожной. Франция беременна революцией (1848). Юношу больше волнует иная беременность (его возлюбленной Сюзанны). Чтобы как-то утешить сына, отец дал ему деньги на путешествие в Италию. Здесь Эдгар Мане копирует все, что видит из работ великих мастеров прошлого (рафаэлевские «Станцы», фрески Фра Анджелико в Сан-Марко, «Венеру Урбинскую» Тициана). Наброски эти естественны, как сама жизнь. Живопись должна быть подвижной. Тут совсем иной подход, нежели у классиков и романтиков. Уже тогда он пришел к выводу, что «в искусстве следует всегда принадлежать своему времени».
Ивон Адольф. Человек нового времени. Наполеон III вручает барону Осману декрет.
Он восхищается Делакруа, копирует его, но при этом его не оставляет чувство некоего внутреннего протеста. Великолепен, что и говорить, но от него веет холодком: «Это не Делакруа холоден, это его доктрина обледенела…» Не смущайтесь противоречивыми оценками. Великие мастера часто воспринимают творчество соперника с едва скрытой неприязнью. Что поделаешь, конкуренция! Так, когда Делакруа все же выбрали в Академию, его вечный соперник Энгр с ужасом воскликнул: «Да это же волк в овчарне!»
В Париже открыта Всемирная выставка (1855). В специальном дворце предложено показать работы по искусству художникам разных стран (5 тысяч произведений). То было время, когда буржуазия проявляла творческую, конструктивную жилку. Барон Осман (префект департамента Сены) прокладывал новые улицы, разбивал скверы, перестраивал кварталы. Прелестные женщины, разодетые в золото, драгоценности и меха, заполнили собой центральные улицы Парижа. Богачи охотнее заплатят содержанкам (дамам полусвета), нежели ученым и художникам, но и тут заметны кое-какие позитивные сдвиги.
Выставка даст толчок становлению нового жанра в живописи. Закономерно, что американский искусствовед Дж. Ревалд начнет впоследствии с нее и свою книгу «История импрессионизма». С другой стороны, есть свидетельства и иного рода. Скажем, Т. Торе в «Новых тенденциях искусства» твердо заявит: «Всемирная выставка 1855 года окончательно освятила великих художников романтической школы. Романтизм в живописи, как и романтизм в литературе, одержал триумф в общественном мнении. Отныне с этим покончено. Тот, кто победил, жизнеспособен». Очевидно, что речь шла о рубеже эпох.
Событием в жизни Мане стала его встреча с Ш. Бодлером (1858). Это были родственные натуры (ему – 26, Бодлеру – 37), сразу же почувствовавшие влечение. Бодлер видел, что под «гримом» художника таится талант, даже гений. Он сразу же поверил в будущее Мане, говоря о нем так: «Этот человек будет живописцем, тем настоящим живописцем, который сумеет ухватить в современной жизни эпическую сторону; он заставит нас увидеть и понять, как мы велики и поэтичны в своих галстуках и лакированных ботинках».
Этот вердикт знаменателен. Поэт понял, что в искусстве происходит смена стилей и подходов к изображению действительности. В итоге, на смену богам Энгра, кирасирам и маршалам Гро, античным богам, великим поэтам и страдальцам Делакруа должны вскоре прийти иные герои – в буржуазных котелках, галстуках и лакированных штиблетах. Пора кончать со всеми этими ходячими скелетами, мумиями, солдатней в доспехах или без них. Хватит уж лицезреть одни только пыльные исторические сюжеты. Нужно показать реальную жизнь – во всей ее простоте, открытости, естестве и порочности. Видимо, не без влияния Бодлера (с которым они просиживают дни и ночи в маленьких ресторанчиках) Мане пишет «Любителя абсента». И надеется покорить картиной Салон и своего учителя Кутюра. Кутюр действительно поражен, но – вульгарностью сюжета… «Друг мой, – говорит он, – я вижу только пьяницу – и создал эту гнусность художник».[104]
Э. Мане. Портрет родителей. 1860.
Но жизнь на каждом шагу заставляет нас сталкиваться с бесчисленными гнусностями. Разве в ней не переплетены теснейшим образом добро и зло?! Разве в реальных судьбах Бодлера и Мане счастье и любовь не шли нога в ногу с трагедией и ненавистью?! Разве экзотика и невинность не соприкасаются с прозой и пороком?! Их обоих преследуют «последствия» жарких любовных ночей в Бразилии и на островах Маврикии и Бурбон… Что поделаешь, за бездумные увлечения молодости надо платить. Вот и «цветы зла» надолго (иногда на всю оставшуюся жизнь) сохранят свой приторно-сладковатый аромат.
- Распутник! В этих тучах рваных
- Есть сходство с жребием твоим.
- В каких же ты смертельных ранах,
- Каким отчаяньем томим?
- – О днях неведомых и странных
- Мой жадный бред ненасытим, —
- Я не Овидий в чуждых странах,
- Я не оплакиваю Рим.
- Но в рваных тучах, в их тревоге
- Я поневоле узнаю
- И гордость, и печаль свою. —
- Пускай, как траурные дроги,
- Они влекутся в тот же ад,
- В котором я погибнуть рад…[105]
С его именем закончился один период и начался другой («до Мане» и «после Мане»). Художник дал важнейший импульс к развитию нового искусства в живописи и гравюре. Он стал не столько «Домье своего времени» (Кутюр), сколь своего рода «французским Лютером в живописи»… Мане выставляется в Салоне 1861 г., после чего о нем все начинают говорить как о реалисте новейшего образца, как о «парижском испанце», связанным таинственной нитью с искусством Гойя («Испанский балет», «Лола из Валенсии»). Бодлер скажет об этой картине: «Лола – драгоценность, где розовый с черным в неожиданной прелести нам предстает». Переломным в судьбе художника стал 1863 год.
На Салон 1863 г. жюри приняло 988, исключив 2800 произведений. Это вызвало возмущение художников. Наполеон III, играя роль арбитра (Наполеон I изрек: «В Италии с художниками дело обстоит плохо. У нас во Франции есть лучшие») разрешил выставиться всем желающим. Так появился «Салон отвергнутых». Впрочем, свобода напугала иных и многие, боясь мести чиновников и академиков, забрали работы. Однако горстка смельчаков не испугалась и выставилась. Пресса вначале обозвала их «Салоном парий» и «выставкой комедиантов»… Но атмосфера скандала лишь усиливала интерес толпы.
Мане выставил в Салоне картину «Завтрак на траве», «Лола», «Махо»… Толпа была вне себя от возмущения. Казалось бы, буржуа должны были с восторгом воспринять обнаженную женскую фигуру среди одетых мужчин (на пленэре). Присущие им фальш и лицемерие повергли Мане в шок. Логика их поразительна. В бордель сходить и удовлетворить свои низменные инстинкты – это, как мы видим, у них в порядке вещей, но вот ловить их на содеянном!? Какой кошмар. Но все же признали наличие в картине блеска, вдохновения, пьянящей сочности. Сюжет картины был заимствован у Рафаэля («Суд Париса»). Ею восхищаются многие французы – К. Моне, П. Сезанн, Ф. Базиль, Э. Золя.
Поэт Шарль Бодлер.
Наконец, Мане пишет знаменитую «Олимпию»… Моделью для нее стала любимая натурщица, Викторина Меран (1863). О боже, что пришлось испытать художнику! Дамы норовились проткнуть картину зонтиками, мужчины грозили ей тростями, пресса выливала на нее ушаты грязи. Некий Канталуб из «Гранд журнал» обозвал Олимпию «самкой гориллы, сделанной из каучука» и посоветовал женщинам, ожидающим ребенка, воздержаться от лицезрения картины. Вкус интеллигенции был избалован Венерами, а тут, господи прости мя – уличная девка… Во Дворце промышленности «посетители толпятся, словно в морге, перед смердящей, как труп, «Олимпией»» (П. Сен-Виктор). Просто чудо, что полотно не порвали в клочья. Служителей раз двадцать едва не сбивали с ног. Картину специально перевесили, чтобы ее труднее было разглядеть. Ничего не помогало. Публика словно обезумела и валила валом на вернисаж. Все желали получше и поближе разглядеть «прелести этой Венеры meretrix» (блудницы)… Полагаю, что Мане отдавал себе отчет в том, что обывателю как раз и необходима эта «срамота», «мощь отвратных секретов общества», из которого он и готов сделать себе идолище пустоты и экстаза.
Право же, иной общественный скандал для художника иной раз сто крат дороже ордена Почетного легиона, а, возможно, даже и Нобелевской премии… Не без зависти Дега бросает мастеру: «Вот вы и знамениты, как Гарибальди». Мане, однако же, заметно нервничает и переживает. Бодлер успокаивает его, доказывает, что в первую очередь гениям достаются злоба и оскорбления: «Вы что, талантливее Шатобриана или Вагнера?» Интересно то, что к нему, который веровал лишь в живопись, чувствуют влечение люди разных течений и вкусов – от Готье до Бодлера, от Золя до Малларме, от Дега до Ренуара. Все они и в самом деле могли бы составить некую скульптурную группу в духе композиции «Триумф Мане», о чем и писал поэт П. Валери: «Вокруг Мане появились бы облики Дега, Моне, Базиля, Ренуара и элегантной, странной Моризо; каждый – весьма не похожий на остальных манерой видеть, приемами ремесла, складом натуры; все – не похожие на него. Моне – единственный по чувствительности своей сетчатки, высочайший аналитик света, так сказать – мастер спектра; Дега – весь во власти интеллекта, жестко добивающийся формы (а равно и грации) суровостью, безжалостной самокритикой..; Ренуар – сама чувственность и сама непосредственность, посвятивший себя женщинам и плодам: общим была у них только вера в Мане да страсть к живописи… Но в этой академической и триумфальной композиции должна была бы, со всей непременностью, найти себе место еще и совершенно иная группа, – группа других знаменитых людей… Это – группа писателей. В ней, несомненно, оказались бы Шанфлери, Готье, Дюранти, Гюисманс… Но прежде всего: Шарль Бодлер, Эмиль Золя, Стефан Малларме…»[106]
К слову сказать, тот романтический дух, который пробудился во Франции в период с 1830 по 1838 гг. одновременно дал выход и такому значимому в истории европейского искусства феномену как «миф об Испании». В творениях Гюго, Мериме, Альфреда де Мюссе («Эрнани», «Театр Клары Гасуль», «Рассказы об Испании и Италии») эта прекрасная страна воспринималась через полотна таких величайших мастеров как Рибера, Мурилльо, Веласкес, Сурбаран, Гойя и другие. Между Францией и Испанией во второй половине XIX в. установились прочные культурные связи. Это особенно заметно в творчестве Э. Делакруа («Саломея»), Э. Мане («Лола из Валенсии»), Курбе и Доре.[107]
Э. Мане. Лола из Валенсии. 1862.
Творческое наследие Мане огромно: сюда входит более 400 живописных произведений, свыше 100 акварелей, 85 пастелей, почти 100 офортов и литографий. Слава к нему пришла слишком поздно. Даже ценившие и глубоко понимавшие его творчество не всегда отдавали себе полный отчет в величии таланта Мане… Когда в день открытия Салона 1883 г. разнеслась весть, что Мане умер, все та же толпа, что поносила его, молча обнажила голову. Дега выразил, видно, общую мысль: «Мы не знали, как он велик!» Художнику Клоду Моне удалось собрать 20 тысяч франков, чтобы подарить «Олимпию» Франции… Только в 1907 г. многострадальная картина, по указанию премьер-министра Клемансо (друга К. Моне), заняла подобающее ей место в Лувре. Хорошо еще, что во Франции к тому времени появились просвещенные и культурные премьер-министры.[108]
То письмо, что отправил Клод Моне к министру образования Франции (7 февраля 1890 г.), в высшей степени показательно с точки зрения оценок компетентности и ответственности государственной власти. «Господин министр! Имею честь от имени группы подписавшихся предложить в дар государству «Олимпию» Мане. Споры, предметом которых являлись картины Мане, враждебные чувства, которые они вызывали, в настоящее время утихли. Но если бы снова была объявлена война против подобной индивидуальности, мы были бы не менее убеждены в значении творчества Мане и в его окончательном торжестве… Вот почему нам показалось недопустимым, чтобы подобное творчество не было представлено в наших национальных коллекциях, чтобы мастер не имел входа туда, куда уже допущены ученики. Кроме того, мы с беспокойством наблюдаем непрестанное движение художественного рынка, ту конкуренцию в закупках, которую нам оказывает Америка, уход, который легко предвидеть, на другой континент стольких произведений искусства, являющихся радостью и гордостью Франции».[109]
Не надо преувеличивать меру «культурности», «патриотичности», «демократичности» министров образования, премьер-министров, президентов… Так, когда художник Дега стал развивать перед Клемансо (сидя с ним в фойе Оперы) свои демократические убеждения, тот вылил на него «ушат презрения». «В другой раз, встретив Клемансо в Опере, Дега сказал ему, что был в этот день в Палате: «В продолжение всего заседания я не мог, – заметил он, – оторвать глаз от маленькой боковой двери. Мне все время казалось, что она вот-вот откроется и в зал войдет придунайский крестьянин». – «Ну что вы, мсье Дега, мы бы не дали ему слова…» – скажет Клемансо.[110] Такова суть буржуазной культуры.
Мастера импрессионизма и постимпрессионизма явились сразу, словно выводок грибов после проливных дождей (это же говорил некогда Герцен, кажется, в отношении русских декабристов)… Может показаться, что «дождь революций», пролившихся на землю Франции в 1789–1848 гг., пропитал землю каким-то особо благодатным составом. Уж не была ли то человеческая кровь! Писсаро – 1830, Дега – 1834, Сезанн – 1839, Сислей – 1839, Моне – 1840, Роден – 1840, Ренуар – 1841, Гоген – 1848, Ван Гог – 1853, Сера – 1859, Тулуз-Лотрек – 1864… Заметим, что вулкан, выплеснувший эту «лаву» во Франции, означал, что центр европейского искусства уже переместился тогда из Рима в Париж.
Некоторые знатоки называют «старейшим импрессионистом» Камиля Писсарро (1830–1903). Оценки критикой творчества и роли художников всегда, разумеется, крайне субъективны… Скажем, Ф. Фенеон (1886), полагал, что в могучей кучке ведущее место принадлежит отнюдь не Эдуарду Мане, «гибкому и театральному». Главные перемены в манере и стиле произошли благодаря Камилю Писсарро, Дега, Ренуару, особенно Клоду Моне. «Они были главарями революции, он же (Э. Мане) был ее глашатаем».[111]
Эдуар Мане. Олимпия. 1863.
Камиль-Жакоб Писсарро (1830–1903) родился на Антильских островах (Сен-Тома). Возможно, романтическое место заставило сына торговца скобяными товарами обратить свой взор к живописи. Закончив коллеж, он до 1852 г. безропотно служил отцу на поприще торговли (занимаясь одновременно живописью). Затем взбунтовался и вместе с датским художником Ф. Мельби уехал в Венесуэлу (вспомним, что и Мане «сбежал» в Бразилию). Там он рисует пальмы, дома, горы, матросов, негров, женщин. Говорят, что его устремления были несколько иными, чем у Гогена, сбежавшего из Парижа на острова Полинезии. Мы же подчеркнем, что нельзя недооценивать того влияния, которое окажут на многих мастеров нового жанра буйство цветов и красок экзотических стран… По возвращении художник некоторое время учился в Школе изящных искусств, хотя и был несколько разочарован академическими методами преподавания. В 1859 г. он впервые послал в Салон свою картину. Его учителями можно считать Коро, Курбе, Мане.
К тому времени он перебрался во Францию (Париж, затем Понтуаз). Жизнь была трудной. Женитьба на простой крестьянской девушке (горничной) поссорила его с отцом. Папаша-буржуа вознегодовал по поводу «неравного брака» и лишил сына ежемесячного пансиона. Живопись стала единственным пристанищем. Писсарро знакомится с Ренуаром и Сислеем, оказывается в Лондоне вместе с К. Моне, где изучает Тернера (позже он посоветует сыну «учиться, глядя на картины Тернера»), дружит с Сезанном.
Мы видим, что искусство импрессионистов, и в первую очередь их «вождей», вовсе не являлось сугубо замкнутым, так сказать чисто французским. Критики резонно отмечают: «Если свести воедино всех тех, у кого учился Писсарро – это немецкие пейзажисты дюссельдорфской школы, фрацузские барбизонцы, Коро и Курбе, английские пейзажисты, – и прибавить сюда те черты голландского влияния, которые Клод Моне наследовал от Йонкинда, то придется признать, что двое главных зачинателей импрессионизма опирались на достижения всех ветвей европейской пейзажной живописи XIX века».
Писсарро можно назвать «певцом Парижа», как и Моне с Ренуаром. Их всех влечет не только пейзаж, но и рукотворная природа больших городов. Клод Моне пишет серию «Руанских соборов». Если для Моне пленэр был все же главным источником вдохновения, то Писсарро (особенно поздний) скорее был увлечен жизнью города, изображая уголки старого Руана («Руан. Мост Боэльдье»). Затем он пишет картины рынков, парков, садов, бульваров, площадей («Оперный проезд», «Сад Тюильри», «Вид Сены»). Постепенно Писсарро стал зарабатывать «немного больше, чем только на жизнь», но гораздо позже Дега, Моне и Ренуара (все эти трое станут богатыми и вполне обеспеченными).
Художник вошел в Клуб социального искусства (1889), где шли споры о необходимости создания искусства для народа, о том, что художник не должен уединяться в башне из слоновой кости… Взгляды участников этих собраний родственны взглядам членов кружка английского социалиста У. Морриса… Писсарро и Синьяк также считали, что художник обязан просвещать массы. Нам же кажутся столь же важными и человеческие качества художника. Это о них позже с восторгом и восхищением напишет Ж. Леконт («Основатель импрессионизма, Камиль Писсарро»): «Великий Писсарро был – и остался таким до конца – очень молод душой и умом и своей верой в будущее; он любил быть окруженным молодыми. Не принуждая себя к этому, он был снисходителен к промахам, ошибкам и преувеличениям молодежи… Проницательный и справедливый в оценке произведений искусства и людей и знающий, чего стоит творческое усилие, Камиль Писсарро был необыкновенно доброжелателен, особенно к молодым художникам… Никогда я не слышал, чтобы он смеялся над какой-нибудь неудавшейся попыткой; он никогда не говорил плохо о художнике в отсутствии его, он говорил о нем, только когда он был тут… Не поступаясь истиной, он старался похвалить за достоинства, чтобы придать мужества молодым творцам, подбодрить их. Чтобы помочь избавиться от недостатков и убедить в искренности своего суждения, он высказывал очень сдержанно и деликатно сомнение в том, что ему казалось ошибочным… В нем все было благородно – мысли, чувства, характер. Никогда он не произносил горьких слов или слов зависти и мелочной злобы. Несправедливое отношение, жертвой которого он долгое время был, только усиливало в нем стремление к справедливости. Бедняк, с трудом содержавший семью, он находил возможность делать добро – для него это было совершенно естественно – и помогать другим не только подбадривающим словом, но и делом. Несмотря на трудности, с которыми в течение сорока лет он боролся с помощью своей самой лучшей и самой мужественной из жен, этот философ-патриарх, мудрый, улыбающийся, был счастлив потому, что он мог свободно заниматься живописью – своей мечтой, и потому, что он спокойно жил, созерцая и изучая природу, источник великих радостей».[112]
Есть художники, которым достаточно видеть «источник великих радостей» в искусстве. Как правило, они стараются избегать света, шумных встреч, застолий, раутов, шумихи в прессе и даже в салонах. В их мировоззрении есть нечто от мысли Ф. Тютчева: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои». Таков Эдгар Дега (1834–1917), рожденный в семье парижского банкира. Трудно сказать, что сделало его столь замкнутым и отчужденным. Известно только, что он не писал статей и не вел дневник, как Делакруа, не знал долгих бесед с учениками, как Энгр, не выступал с декларациями и уж тем более не принимал участие в деятельности и борьбе Парижской Коммуны, как Курбе. Ему не посвящали исследований, не брали у него интервью. После Столетней выставки 1900 г. он вообще скрылся от глаз публики. Называть его «затворником» было бы неверно. В нем скорее жил скептик и философ, «индивидуалист и отщепенец». Он желал, подобно Растиньяку, покорить Париж и весь мир, живя в уединении и оставаясь забытым. Как он однажды признался: «Я хотел бы быть знаменитым и неизвестным». Думается, что эта позиция была обусловлена стремлением видеть и подмечать то, чего не видят другие.
Никто так не знал Парижа, как он, никто не владел линией столь совершенно, никто не мог схватить с такой точностью движения балерин. Как он достиг такого мастерства? Копируя старых мастеров (Веласкеса, Рубенса, Пуссена, Гирландайо, Гольбейна). Однако его истинным кумиром станет Энгр, «фанатик рисунка», о котором он же сам с восхищением скажет: «Вот художник, который мог бы посвятить всю свою жизнь тому только, чтобы нарисовать одну женскую руку!» Тот советовал ему «рисовать контуры». Даже в «Молодых спартанках, борющихся со спартанцами» (1860) виден облик девушек парижских кварталов. В 1862 г. Дега знакомится с Мане (они сошлись в Лувре у картины Веласкеса, где познакомились и подружились). В их стилях есть некая интимная теплота, как и между Дега, Мане и Ренуаром. Дега рисует «Нищенку», входит в группу «Независимых» или «отверженных», будучи художником абсолютно современным.
К. Писсаро. Площадь Французского театра в Париже. 1898.
Оставив университет и выдержав битву с отцом, он весь отдался живописи улиц и характеров… Принятая им личная программа (1859) звучала так: «Претворять академические штудии в этюды, запечатлевающие современные чувства. Рисовать любые предметы обихода, находящиеся в употреблении, неразрывно связанные с жизнью современных людей, мужчин или женщин: например, только что снятые корсеты, еще сохраняющие форму тела, и т. д.». В его списке – булочные, дымы, вуали, похороны, музыканты, балерины, ночные кафе… Да, это была настоящая, подлинная, повседневная жизнь города, в котором «сходятся почти все стороны цивилизации» (П. Валери). Гонкуры отмечают как характерную черту Дега то, что, рисуя картины современности, он остановил свой выбор на прачках и танцовщицах. Танцовщицы и прачки порой интереснее иных лордов, министров или парламентариев. Гонкур пишет: «Своеобразный тип этот Дега – болезненный, невротический, с воспалением глаз столь сильным, что он опасается потерять зрение, но именно благодаря этому – человек в высшей степени чувствительный, улавливающий самую сокровенную суть вещей. Я не встречал еще художника, который, воспроизводя современную жизнь, лучше схватывал бы ее дух».[113]
То, что он сделал, было подлинной революцией в живописи. Дега в корне менял перспективу. Справедливы слова Ренуара, характеризующие творчество этого художника: «Дега был… прозорлив. Возможно, что он держался дикобразом, чтобы спрятать свою подлинную доброту. Не скрывался ли за черным сюртуком, твердым крахмальным воротничком и цилиндром самый революционный художник во всей новой живописи?»[114]
Вы скажете: «Но можно ли подсматривать жизнь из-за кулис, находясь за столиком кафе или ресторана? Где же тут высокое искусство? Чему здесь можно научиться?!» Конечно же, если вы лишены такта, если вас занимают одни лишь скандалы, если круг ваших слюнявых интересов не выходит за границы новостей «желтой прессы», ограничиваясь «грязным бельем» знаменитостей, вы – конченый человек и ничтожество. Но взор подлинного художника проникает в души людей всюду. Тогда перед нами и возникает шедевр («В кафе. Абсент», 1876)… Л. Н. Толстой, посетивший Францию, восхищался Марселем и его культурой (1860). В кафе и на улицах он увидел настоящий народ («ловкий, умный, общительный, свободномыслящий, истинно цивилизованный»). Отвечая на вопрос, где же француз обрел все эти качества, он тогда ответил: «Француз обучается не в школе, где господствует нелепая система преподавания, а в гуще самой жизни. Он читает газеты, романы (в том числе романы Александра Дюма), посещает музеи, театры, кафе, танцзалы». К примеру, в двух крупнейших марсельских кафе ежедневно бывало около 25 тысяч человек (тогда в городе проживало всего 250 тысяч). И русский писатель делает отсюда вывод, что марсельцы пополняют свое образование, «подобно тому, как в амфитеатрах пополняли свое образование греки и римляне». Он утверждал с присущим ему максимализмом: «Вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем», записав в «Дневник»: «Школа – не в школах, а в журналах и кафе».[115] И великие не застрахованы от глупости.
Э. Дега. В кафе. Абсент. 1876.
В кафе Гербуа собиралась группа импрессионистов (Мане, Ренуар, Моне, Сислей, Базиль, Роден, Дега). Мане прославил «Бар в Фоли-Бержер», а Тулуз-Лотрек – «Мулен Руж». Дега наблюдал эти «классы жизни» в событиях и сценках на улицах, в театре, цирке или на ипподроме. Кто-то сказал, что в чисто художественном смысле он не видел большой разницы между грациозной лошадью и прелестной женщиной. И то и другое, согласитесь, очаровательно. Не случайно загадочный Восток всегда пленяли восхитительные чада Природы – женщины и лошади. Когда мы смотрим у Дега на лошадей в картине «Проездка лошадей перед скачками» или натуралистические сцены «работы» балерин, мы понимаем, что и тут мы имеем дело с «обнаженной правдой» жизни.
Конечно, у балета, как у всякого искусства, есть и поэтическая сторона. Подлинная правда этих воздушных созданий является в миг их звездного торжества, творчества балерины, когда она, подобно белокрылой чайке, парит над сценой пред восхищенным залом. Но без адского труда не было бы сказочной феерии («Танцкласс Меранта», 1872; «Звезда», 1876). Можно сказать, что Дега по-своему, в реалистичной манере, воспел красоту французских женщин. Поэтому критики и считают его наиболее «французским мастером» из плеяды 70-х годов. Он соединил романтизм с реализмом, дав толчок новому творчеству. У него каким-то непостижимым образом даже служанки, циркачки, натурщицы, модистки и танцовщицы превращаются в некую «Юнону своего Олимпа».
В очерке Я. Тугендхольда, посвященном искусству Дега и написанном почти сразу же после смерти мастера, подведен итог его творчеству: «Дега был слишком большим индивидуалистом, чтобы породить школу в прямом смысле этого слова… Но от него пошли и Тулуз-Лотрек, этот «жестокий талант», бытописец ночного и бульварного Парижа, и Вюйар с его мещанскими интерьерами, и Боннар с его будуарной наготой. Несомненное воздействие оказал Дега и на заострение выразительности Винцента ван Гога, Матисса, ван Донгена; едва ли также без влияния Дега создались бы и такие реалистические перлы скульптуры, как трепещущие жизнью обнаженные фигуры Родена»… Наконец, вовсе не будет натяжкой сближение с Дега и такого мастера, как Пабло Пикассо.[116]
Становление нового жанра всегда идет трудно… Вначале импрессионистов, как уже отмечалось, не выставляли. Что еще хуже – их почти не замечали и не покупали (Моне, Ренуара, Сислея, Писсарро и других). Дюран-Рюэль не раз отмечал эту печальную особенность вкусов публики. Его даже упрекали: «Как можете вы, вы, кто один из первых оценил школу 1830 г., расхваливать нам теперь картины, в которых нет и намека на художественность?» Широкая публика если и готова признать талант, то только после его смерти. Хотя и смерть не всегда открывает ворота славе. Дюран-Рюэль пишет: «Так было с Делакруа, Коро, Домье, Бари, Милле, Руссо, Мане и всеми великими художниками минувшего столетия, так останется и впредь, пока мода будет определяться снизу, а не сверху, как это было в старину, когда вкусы диктовались просвещенной верхушкой».[117]
Вкусы надо воспитывать. Ведь даже обладающие вкусом и пониманием искусства, увы, порой демонстрируют поразительную близорукость. Э. Гонкур позволил себе в отношении великих и вдохновенных художников употребить нелестный эпитет – «мазилка-импрессионист» (1889). В его «Дневнике» мы находим и такое признание: «…С Мане, чьи приемы заимствованы у Гойи, с Мане и его последователями умерла живопись маслом, то есть та благоуханная, прелестная своей незамутненной прозрачностью живопись, образец которой «Женщина в соломенной шляпке» Рубенса».[118]
И это говорит образованнейший человек, сетующий на «упадок интеллекта и художественного вкуса у высших классов»… Высшие классы как раз и представляют собой порой рассадник мерзости и низкого вкуса! И даже Освальд Шпенглер, умело скрывающий за своей «всемирностью» узкий мирок европейского буржуа, не смог нас убедить в ничтожности импрессионистов, якобы, составляющих лишь «эпизод в живописи». Нет, это не «иллюзия большой живописной культуры», но настоящая и высокая культура.
Э. Дега. Звезда, или Танцовщица на сцене. 1878.
Впрочем, и Шпенглер вынужден тут же опровергать самого себя, соотнеся мастеров с самыми видными представителями европейской науки, культуры и искусства (хотя несправедливо лишает их полотна чувства и чувственности). Он пишет в «Закате Европы»: «Импрессионизм возвратился на земную поверхность из сфер бетховенской музыки и кантовских звездных пространств. Его пространство познано, а не пережито, увидено, а не узрено; в нем царит настроение, а не судьба; Курбе и Мане передают в своих ландшафтах механический объект физики, а не прочувствованный мир пасторальной музыки. То, что Руссо в трагически-метких выражениях возвещал как возвращение к природе, находит свое осуществление в этом умирающем искусстве… Опасное искусство, педантичное, холодное, больное, расчитанное на переутонченные нервы, но научное до крайности, энергичное во всем, что касается преодоления технических препон, программно заостренное: настоящая драма сатиров, составляющая параллель к великой масляной живописи от Леонардо до Рембрандта. Только в Париже Бодлера могло оно прижиться… Пленэристы, истые горожане, переняли у холоднейших испанцев и голландцев, Веласкеса, Гойи, Гоббема и Франса Халса, музыку пространства, чтобы перевести ее – с помощью английских пейзажистов, а позже и японцев, интеллектуальных и высокоцивилизованных умов, – в эмпирическое и естественнонаучное. Таково различие между переживанием природы и наукой о природе; между сердцем и головой, между верой и знанием».[119] Таковы были ощущения этого немца из высших элитарных кругов.
Это-то обстоятельство как раз и заставляет нас решительно потребовать от хваленых «высших классов», наливающихся жиром, словно каплуны на вертеле (в соку своих бесчестных капиталов), открывать дорогу талантам из народа… Там и только там обитают лучшие и самые яркие таланты! К их числу мы отнесем и Огюста Ренуара (1841–1919), художника радостного, светлого, поэтичного. Сын портного, он считал большой жизненной удачей то, что его деда усыновил сапожник. Люди труда стоят у него впереди всей сановной своры. Он восклицал: «Подумать только, что я мог родиться в интеллектуальной семье! Пришлось бы потратить годы на то, чтобы освободиться от ложных представлений и видеть вещи такими, какими они есть, да еще руки ничего не умели бы делать!» А когда ему пытались, было, доказать, что Наполеон – гениальный человек, он парировал тем, что это же можно сказать про крестьянку, делающую хороший сыр.[120]
Дж. Уистлер. Каприз в пурпурном и золотом. 1864.
Ренуар начал свой путь к живописи с 13 лет зарабатывая себе на хлеб насущный, расписывая фарфор. Затем фабрика закрылась. Он пошел учиться в мастерскую Глейра. Там он изучал модели, внимал учителю, захаживал в Школу изящных искусств. Ведь, если французская поговорка гласит: «Только в Школе изящных искусств и есть настоящее искусство», то надо знать, чему там учат… Картины он писал «в светлой гамме», ибо таково было его видение. Художник ощущал потребности своего времени. Его пытались напугать тем, что он может стать «вторым Делакруа». Но такая оценка звучала скорее как похвала (позже, приехав с Доде в Шанроз, где похоронен великий художник, он сорвет розу с могилы Делакруа, как память юности). Жизнь трудна, как и у всех его коллег. Преследуют долги, нет денег на марки и на краски. Он признается в письме к Базилю: «Мы едим не каждый день, но, несмотря на это, я счастлив, потому что, когда дело касается работы, Моне – превосходная компания». А в кругу друзей и голод не страшен.
В жизни этого художника были и удивительные приключения… Однажды находясь на пленэре в лесу Фонтенбло, он узрел какого-то изможденного незнакомца. Тот обратился к нему с просьбой: «Умоляю вас, дайте кусок хлеба, я умираю с голоду!» Это был преследуемый полицией Наполеона журналист-республиканец Рауль Риго. Тот уже двое суток бродил затравленно. Ренуар помог ему укрыться, а затем его переправили в Англию… Прошло несколько лет… Однажды Ренуар возвращался в Париж (незадолго перед концом Коммуны). Сам он был далек от политических битв и, как обычно, устроился с мольбертом на берегах Сены… То были суровые и жестокие дни. Коммунары приняли его за шпиона, отправив в мэрию, где круглые сутки дежурил «расстрельный взвод». И вот Ренуара уже ведут к месту казни… Вдруг, он видит старого знакомого («беглеца»). Тот опоясан трехцветным шарфом и окружен свитой. Им оказался знаменитый Рауль Риго, прокурор Коммуны, известный своей фразой: «Мне некогда думать о законности – я делаю революцию!» К счастью, он узнал Ренуара, сжал его в объятиях, и, представив возбужденной толпе, приказал своим национальным гвардейцам: «Марсельезу в честь гражданина Ренуара!» Всегда возможны самые неожиданные повороты нашей судьбы…[121]
Полотна Ренуара будут стоять в одном ряду с самыми громкими именами в истории мировой живописи (Тициан, Рафаэль, Рубенс, Гойя, Рембрандт). Нужно ли говорить, что критики приняли его вначале очень холодно?! Глядя на прелестные образы женщин в «Купальщице», «Обнаженной», «Портрете актрисы Жанны Самари», «Танцовщице», «Инженю», «Мадемуазель Легран», «Площадь Пигаль», понимаем, сколь восхитителен и неповторим этот художник. Но почему именно ему, а не другим значительным талантам его круга удалось создать обобщенный образ «Мадемуазель Франция XIX века»?
Видимо, он тоньше остальных чувствовал волшебство женщин, этих воительниц любви, прелестных сабинянок, жаждущих вечного преклонения и похищения. Он умел наслаждаться, как они, быть радостными и мужественными, как они, тонко чувствовать, как они. Золотоволосая Деде стала моделью для более чем ста картин и эскизов Ренуара в последние годы его жизни. Он страстно любил жизнь. Знаменательно и признание Огюста Ренуара, касающееся секрета его искусства: «В искусстве необходимо еще нечто, секрет чего не откроет никакой профессор… тонкость, очарование, а это надо иметь в себе самом». Его француженка – это Венера Милосская, пришедшая к нам с улицы.[122]
- О тело женское, ты – солнце и прохлада,
- Услада ночи и опора дня,
- Источник вечный счастья для меня,
- Единственно желанная награда![123]
Ренуар немало времени проводил, как и многие парижане, на островах на середине Сены, где обычно занимались греблей или плаванием. В той части острова Шату, что ныне называется Островом импрессионистов, частенько бывал и Ренуан. Здесь же, в ресторане «Фурнез», он напишет свою картину «Завтрак гребцов» (1880). Его влекли на этот остров красоты природы и прелестные женские лица. Он даже говорил: «Вы в любое время найдете меня у Фурнеза. Там больше прекрасных созданий, чем я могу написать». Здесь он встретил двадцатилетнюю Алин Шариго, крестьянскую Венеру, что через 10 лет стала его женой, несмотря на то, что была моложе художника на 18 лет. Женщины его любили и в том было его великое счастье… Ренуан изобразил жену на картине «Завтрак гребцов» задолго до начала романа. В те времена картины художников-импрессионистов ценились не очень-то высоко, хотя у него была громкая слава. К нему с почтением относились даже местные бандиты. Но денег это, увы, не приносило. О том, какова участь художника, свидетельствует и такой факт. Ренуар решил подарить пейзаж «Завтрак гребцов» чете Фурнезов, заметив, что «никому он не нужен». Те успокоили его: «Нам надо что-нибудь повесить на стену, чтобы скрыть пятна от сырости».[124]
Франция тем и великолепна, что она даже в плебее умеет воспитать любовь к прекрасному… Вот и замечательному скульптору Огюсту Родену (1840–1917) не смогло помешать на пути его восхождения к славе и то, что он жил в районе сплошных трущоб, населенных в основном плебсом и проститутками. Единственным человеком в семье, кто умел хоть как-то писать, была тетя Тереза, в прошлом натурщица (один из художником и научил ее грамоте). Огюст Роден стал скульптором, вопреки мнению глупцов и силе обстоятельств. Вот что значит крепкая натура. В школе его, поймав за рисунком, каждый раз били линейкой по пальцам так, что он неделю не мог взять в руки карандаш. Однако рисование стало делом его жизни. Судьба словно нарочно испытывала его на прочность. Три года поступал он в Школу изящных искусств (на скульптурное отделение). И трижды его проваливали. В третий раз дряхлая бездарность в лице профессора Школы произнесла вердикт, упавший на Огюста словно нож гильотины. В экзаменационном листе рядом с именем «Огюст Роден» было записано: «Принять невозможно. Совершенно лишен способностей. Не имеет представления о том, что от него требуется. Дальнейшие экзамены будут потерей времени. По способности сорок первый в экзаменационном списке». Ему категорически запретили принимать участие в экзаменах.[125]
Толковые учителя должны всегда помнить, что в их руках может оказаться судьба будущего великого мыслителя, ученого, писателя, инженера, художника, врача, артиста. Воспитывая и обучая детей, учителя во многом определяют и последующую судьбу детей. Пусть же они хоть иногда задумаются над тем, что скажут о них их подопечные.
О. Ренуар. Завтрак гребцов. 1881.
Тут возможны два варианта. Дети, повзрослев, тепло вспомнят ее (его), подобно великой итальянской актрисе Элеоноре Дузе (школьники презирали дочку «комедиантов», и единственным другом и собеседником для нее стала учительница), или же о нем (о ней) сохранят тяжкие воспоминания. Так было с французским художником А. Марке, для которого подлинной пыткой стали уроки, школьные перемены и общение с учителем. Он даже в старости вспоминал годы проведенные там с отвращением. В 60 лет при любом упоминании о школе его охватывало чувство ненависти. О своем учителе он позднее говорил так: «Перед лицом этого человека я познал жажду убийства»… Тот любил разглагольствовать с важным видом о пустяках. При этом считал себя пупом Земли, а всех учеников – ослами и лоботрясами… «Из-за него я в двадцать лет готов был взорвать все на свете», – честно признавался Марке. Возможно, каждому учителю нужно почаще вспоминать сакраментальную фразу-напутствие великого Гиппократа: «Не навреди!»[126]
Вернемся к О. Родену, ушедшему в монастырь… В его стенах мудрый отец Эймар, увидев несомненный талант, посоветовал Родену оставить монастырь и служить богу своим творчеством. Действительно, разве талант не есть частица Всевышнего, дарованная нам для выполнения какой-то очень важной работы среди смертных! Повезло ему и с учителем Лекоком (Малой школой). Роден оказался в одном кругу с теми, кто вошел в группу «отверженных». Он решает представить в Салон бунтарей одну из его работ.
О. Роден. Человек со сломанным носом. 1864.
Единственный натурщик, который был ему по карману – это бродяга Биби. Он позировал за тарелку супа и стакан вина. В тот Салон Роден не попал, но работа продолжалась. Работая без отдыха 48 часов, он завершил свой труд – «Человека со сломанным носом» (1864). Вложил туда всю свою душу. Такого лица не видывали в скульптуре. В его чертах, как бы в смытом, сдавленном лике, он запечатлел муки и страдания. Салон 1864 года отверг бюст (якобы, из-за гротескности образа). Это было в конечном счете не так уж и важно. Полагаю, что с этим Сократом трущоб и родился великий скульптор Роден!
Скульптор понял смысл своего назначения на этой земле. Он словно говорит: «Наша работа – это наша жизнь, и мы должны оставить в мире свой след, даже если мир и не подозревает о нашем существовании». Теперь осталось найти высшие ориентиры. Чтобы достичь мастерства, нужны гениальные учителя. Таковыми были для него Рембрандт и Микеланджело. Наконец, Роден смог позволить себе путешествие по Европе (Бельгия, Голландия, Швейцария, Италия). Создав «Побежденного» (1876), он словно вернул времена античности. Но и в Бельгии буржуазная публика, словно слепой крот, не желала видеть всего величия таланта мастера. Салон брюссельский ничем не отличался от салона французского. И там и тут насмешки, оскорбления. Что же за ничтожество представляет собой буржуазный обыватель!? Сам абсолютно ни на что дельное не способный, он выбрал своей профессией, своим хобби искусство оскорблений и попрания талантов. Скульптура переехала в Париж. Вакханалия повторилась с точностью до деталей. Родена обвиняют в вульгарности, непристойности: «Какая похоть! Автор, должно быть, сошел с ума!» или: «Бронзовый век» – это изображение гермафродита». И опять эти полуживотные во фраках, считающие себя воплощением культуры и образованности, устраивают давку и массовку вокруг его работ – и хулят, хулят, хулят! Жюри Салона убирает скульптуру. И что же? «Бронзовый век» вскоре стал общепризнанным шедевром в мире.
Прошло не так уж много лет… Появились великолепные работы Родена – «Иоанн Креститель» (1878), «Данаида» и «Поцелуй» (1886), «Граждане Кале» (1884–1886), «Мысль» (1886), «Рука бога» (1897–1898), памятник Бальзаку (1897), портрет Гюго (1897), многие другие. Парижане станут говорить: ах, надо бы его посмотреть. Роден – «наш новый Гюго». Даже министры что-то стали соображать. Министр просвещения, осмотрев «Врата ада», заявил, что это «творение французского патриота». Президент республики, вспомнив молодость, иначе взирал уже и на роденовские любовные пары.
Коренной поворот в мнении общества о творчестве Родена произошел на всемирной выставке 1900 г. Павильон его работ посетили русский царь Николай II и принц Уэльский. Копенгаген купил его скульптуры и отвел им целый зал. Музей в Филадельфии приобрел «Мысль», а чикагский музей – «Поцелуй». Музеи Будапешта, Дрездена, Праги, Лондона устроили настоящие «побоища» из-за скульптур Родена. Даже находящаяся в состоянии войны с Францией Германия (правда, лишь на следующий день после смерти художника) заявит: «Хотя Огюст Роден, величайший из французских скульпторов, и родился во Франции, он, как Шекспир и Микеланджело, принадлежит также и Германии».
Пираньи буржуазии тем не менее не могли отказать себе в удовольствии вновь наброситься на Родена – теперь уже на «Мыслителя» (1904). Сторонники Школы изящных искусств, вкупе с членами Института и Академии, не постыдились назвать эту работу «чудовищем, обезьяно-человеком». Начинаешь понимать, почему он неохотно работал над «Вратами ада» (1880–1917)… Вся его жизнь, видимо, и была этими «вратами ада», что открывались и закрывались при каждом очередном дуновении ветра общественного мнения. Понятно и то, отчего только после смерти Родена Французская Академия приобщила его к сонму «бессмертных». Жалкие фарисеи, они всегда ждут гибели великих, надеясь, словно шакалы, урвать если не кус вечности, то хотя бы часть их плоти. Впрочем, культурный мир, в целом, довольно быстро понял, какого гиганта он потерял.[127]
О. Ренуар. Обнаженная. 1876.
Видимо, Прудон был прав, опасаясь дурного влияния академий… Он говорил: «Больше всего художникам вредит солидарность незавидных талантов, кумовство и интриги, которых сама академия служит выражением (особенно Французская академия искусств и нравственных наук). Трудно решить, что более пагубно для искусства: покровительство ли правительства или эти стеснения школы и академии? Я отрицаю всякую профессуру и консерватории (страшное слово); я бы хотел только свободного обучения, свободных учеников и свободных учителей».[128] Конечно, этот призыв довольно нелеп. Наука, культура, искусства, вообщем-то, не приемлют безотцовщины. Стране, где они предоставлены сами себе, грозит полное одичание и гибель. Другое дело, что академический титул еще не означает, что боги сделали тебя художником, ученым. Во Франции немало тех, кто, подобно герою романа Доде, бездарному историку Леонару Астье-Рею («Бессмертный», 1888), стремились попасть в академики через приемную президента. А сколько деятелей искусств раболепно готово было обслуживать его причуды и капризы. Французская Академия по части непристойности деяний иных ее лидеров временами вполне могла бы соперничать с бесстыдством самых вульгарных особ из Мулен Ружа.
Судьба французского живописца и графика Анри Тулуз-Лотрека (1864–1901) словно свидетельствует: гигантом можно стать, даже оставаясь карликом. Жизнь его подтвердила не только суетность земного, но и то, что потомкам обязательно приходится рано или поздно платить за грехи своих родителей. Все отвечают за всех! Анри оказался без вины виноватым. Предки (графы и виконты, чьи имена вошли в многовековую историю Франции) славились своей энергией, необузданностью, дебошами и распутством. В их постелях перебывали представители всех классов и слоей… Один из Лотреков как-то даже заявил герцогине де ла Тремуй: «Гражданка герцогиня, не надо смешивать любовь с постелью». Граф Альфонс (любитель лошадей и хорошей кухни) женился на кузине. Итогом их кровосмешения стал Анри, которого в детстве звали не иначе как «маленькое сокровище»… Мальчик учился превосходно (в 1874 г. по четырем предметам получил первую премию, по другим – похвальные грамоты), но, увы, так и остался «малышом».
В течение всей последующей борьбы он старался удержать ощущение ускользавшей жизни (с ее чувствами, красками, ароматом)… Страшнее всего было презрение семьи. Властные и богатые уже по своей натуре всегда жестоки. Они и в детях хотят видеть лишь подобие, воплощение своих идей и замыслов. И горе ребенку, если он разрушит хрустальный замок их мечты. О, разумеется, они будут кормить, давать кров и деньги. Но никакой любви и понимания от них не ждите. Ладно бы, если дело ограничивалось тем, что граф передал право первородства младшей сестре Анри, но он старался уязвить и убить сына полнейшим неверием в его талант… После смерти сына демонстративно называл его полотна «топорной работой» и «ученическими этюдами». Когда же (с выставки произведений Лотрека в 1907 г.) был создан комитет по установлению памятника художнику, граф Альфонс писал председателю комитета о том, что «его сын не обладал талантом» и что он будет «из всех сил бороться против осуществления этого проекта». Какая же бездна жестокости и тщеславия сокрыта в этой чванливой знати. Какое бессердечие движет ею, если она не может простить отпрыскам даже собственных грехов.[129]
Путь Тулуз-Лотрека в живописи отмечен глубоким проникновением в мир и ощущения человека низов. Ведь, именно среди них он обычно находил куда больше сострадания и понимания. Простой человек чаще и ближе встречается с горем. А Лотрек знал, что это такое. Отец его «предал», школа не интересовала, женщины были пока недоступны. Живопись стала его единственным и верным другом. Учился он везде, где только мог, у всех (даже у японцев, пленивших его своими гравюрами). Великие мастера прошлого, правда, казались ему несколько отрешенными от жизни… Постепенно его собственная жизнь налаживалась благодаря матушке и дяде Шарлю, которые делали все, чтобы поддержать его. В то время проходят выставки импрессионистов. Несомненно, он посещал их, так как обычно любил бывать на всевозможных выставках, в клубах, на ипподромах и т. п. Кто же из них повлиял на него? Полагаю, что Дега он был обязан больше, чем кому-либо из импрессионистов. Тот сумел привлечь его внимание к яркому миру кабаре, театра, цирка. Видевшие картины этих мастеров наверняка отметили заметное сходство сюжетов или даже образов. Но образы Лотрека грубее, чувственнее, заземленнее.
О. Роден. Иоанн Креститель. 1878.
«Танцовщицы, жокеи, прачки, модистки привлекают его внимание вслед за Дега. Однако при очевидной близости темы и образы Лотрека нельзя назвать совпадающими с образно-тематическим кругом Дега. Образы Лотрека находятся как бы в сниженной степени социального и морального бытия. У Дега мы видим балерин Гранд Опера, у Лотрека – эстрадных танцовщиц кабаре и кафе-концертов. Дега показывает танец сценами репетиций или представлений классического балета, Лотрек – эстрадными «номерами» или общедоступными танцульками публичных балов, где наряду с профессиональными танцорами лихо отплясывают разношерстные посетители. Там, где Дега, трактуя психологическую ситуацию, покажет разобщенную пару из среды нищей богемы («Абсент»), Лотрек изобразит с разоблачающей остротой циничное сообщество сутенера и проститутки («Со своей милой»). Портреты Дега представляют людей из среды аристократии, богатой буржуазии или интеллигентов одного круга с художником. Лотрек начинает самостоятельное творчество решительным переходом к изображению моделей из низших социальных слоев. Наряду с профессиональными натурщицами он запечатлевает прачек, служанок, проституток, проявляя особый интерес к приметам простонародности».[130]
Местом привязанностей художника, а затем и «коронации» станет парижский Монмартр, обитель богемы и низов, куда он вскоре переселился. «Что такое Монмартр? Ничего. А чем он должен быть? Всем»… Он и станет «всем» для Тулуз-Лотрека. Тот проводил время в кабаре «Ша-Нуар» или в «Мулен-де-ла-Галетт». Сюда стекались со всего Парижа любители выпить и потанцевать. Плясали, спорили, сплетничали, смеялись, творили (молодые поэты и художники). Владелец кабаре «Ша-Нуар» Сали, сын фабриканта спиртных напитков, оказался ловким малым. Он сумел потрафить вкусам богемы, затронув тайную жилу ее мечтаний. Большой зал, где гуляли непризнанные поэты и художники, он с неким вызовом назвал «Институтом». Артистической молодежи тут прислуживали официанты в костюмах академиков, купленных по дешевке у старьевщика.
Какая это была восхитительная ярмарка низменных инстинктов и убогих нравов буржуазии. Особенно ликовал и веселился Лотрек, когда на месте псевдоаристократического «Ша-Нуара» (с его «графьями», «их высочествами» и «прынцами») возникло «кабаре низов» – «Мирлитон». Здесь людей, все события и вещи называли своими именами… Шлюха была шлюхой, вор – вором, харя – харей. (Вспомним, что и Ван Гог однажды скажет: «Когда я пишу крестьянок, я хочу чтобы это были крестьянки, и по тем же соображениям, когда я пишу шлюх, я хочу чтобы они походили на шлюх»). Новый хозяин кабаре (Брюан) быстро смекнул, что нужно пресыщенной буржуазии, у которой всего уже вдоволь (денег и власти). Ей еще безумно хотелось, чтобы ее оскорбляли! У входа появилась вывеска-реклама: «В «Мирлитон» ходят те, кто любит, чтобы их оскорбляли».
С эстрады знатных тупиц и воров осыпали насмешками… И они были в полнейшем восторге. Исполнявший дерзкие куплеты А. Брюан говорил: «Я мщу им, понося их, обращаясь с ними хуже, чем с собаками. Они хохочут до слез, думая, что я шучу, а на самом деле, когда я вспоминаю о прошлом, о пережитых унижениях, о грязи, которую мне пришлось увидеть, все это подступает у меня к горлу и выливается на них потоком ругани». Эти же чувства испытал и Лотрек. Он лихорадочно набрасывал сюжет за сюжетом… Когда он появлялся в кабаре, злой на язык, но, по сути, добрый и отзывчивый Брюан командовал залу: «Тише, господа! Пришел великий художник Тулуз-Лотрек…»
Конечно, чтобы талантливо воспевать эту «сладкую жизнь», художник должен быть готов и сам испить «чашу наслаждений», которая, увы и ах, не имеет ничего общего с чашей святого причастия. Между образом жизни ученого и художника такая же разница, как между образом танцовщицы-вакханки Ла Гулю и пресвятой девой Марией. Хотя чего в жизни не бывает (ведь, некая Валадон, натурщица, которую Дега назвал «страшной Марией», находилась с Лотреком в интимных отношениях). Лотреку в его служении искусству порой мешал (или и помогал?) алкоголь. Он одним из первых в стране освоил искусство приготовления коктелей… Анри обожал потчевать гостей из своего бара, готовя порой редкостное пойло… Возможно, он отдавал себе отчет в порочности и гибельности этой своей привычки, когда писал композицию «Никчемные» (1891), где изобразил пару друзей (совершенно отупевших и разложившихся под влиянием алкоголя).
Лотрек верен своей теме: «Бал в Мулен-де-ла-Галетт» (1889), «Танец в Мулен Руж» (1890), «Мулен Руж». Ла Гулю» (1891), «Жана Авриль» (1893), «Салон» (1894), «Туалет» (1896), «Клоунесса» (1896). Возможно, он ощущал какую-то внутреннюю, тайную связь между собственным уродством и уродством буржуазного общества. Разве не оно мириадами бацилл ежедневно заражает и растлевает человеческую плоть! Это косвенно признала даже буржуазная газета «Тан», необычно похвалив художника: «Дорогой наш друг Тулуз Лотрек, вы циничны и суровы по отношению к роду человеческому… Вы воспеваете отбросы общества, обнажая все его язвы»… Стоит добавить, что в те годы бичевание пороков общества становилось даже модным. Все старались что есть сил «обнажать жестокую реальность». Дюма, с легкой руки которого в литературу и впорхнула дама полусвета, теперь уже готов «сокрушить адюльтер». Бичуют разврат Золя и Гонкуры.
Лотрека превозносят анархисты. Их бомбы то и дело взрываются в парижских гостиных, ресторанах, казармах, в помещениях администрации, в церкви (в Лионе анархист убил президента Карно за то, что тот отказался помиловать восставших против режима). Они писали в «Пер Пенар» (1893) о его работах: «Вот у кого хватает смелости, черт побери! В его рисунках, как и в его красках, все откровенно. Огромные черные, белые, красные пятна, упрощенные формы – вот его оружие. Точно, как никто другой, он сумел передать тупые морды буржуа, изобразить слюнявых девок, которые лижутся с ними только ради того, чтобы побольше выжать из них денег. Ла Гулю, «королева радости», «Японский диван» и два, посвященных кабаку Брюана, – вот и все плакаты Лотрека, но они потрясают своей дерзостью, силой, злой насмешкой, от них, как от чумы, шарахаются всякие кретины, которым подавай розовый сироп!» Заглянувший на его персональную выставку Дега вынужден признать: «Да, Лотрек, чувствуется, что вы мастак!»
А. де Тулуз-Лотрек. Марсель Лендер в оперетте «Хильперик». 1895.
После осмотра его картин писатель и критик Жюль Ренар отмечает в «Дневнике» (1894): «Лотрек показывает нам свои этюды небезызвестных «домов», свои юношеские работы: он сразу начал писать смело и неаппетитно. Мне кажется, что больше всего его интересует искусство. Не уверен, что все, что он делает, хорошо, знаю одно, что он любит редкостное, что он настоящий художник. Пусть Лотрек-коротышка величает трость «моей палочкой» и, безусловно, страдает из-за своего маленького роста, – это тонко чувствующий человек, и он заслужил свой талант».[131] Величина таланта не зависит от роста.
Замечательный художник, вошедший в плеяду мастеров постимпрессионизма, к несчастью кончил жизнь белой горячкой, пребыванием в психиатрической лечебнице, изнурительными болезнями… В последний период своей жизни он пытался работать, будучи членом жюри секции плаката, принимал участие во Всемирной выставке 1900 года. Его даже хотели наградить орденом Почетного легиона (для чего познакомили с неким министром). Лотрек дерзко бросил ему в лицо: «А вы представляете себе, господин министр, каково я буду выглядеть с орденской ленточкой, когда приду писать в бордель?» И рассмеялся… Он вновь начал пить и кончил параличом. Лотреку было всего 37 лет (как умершим в этом же возрасте Рафаэлю и Ватто). Так ушел из жизни этот Рафаэль кабаре и путан, жалкий калека и уродец, чья живопись тем не менее была прекрасной.[132]
Всего 37 лет прожил и другой великий художник – Винсент Ван Гог (1853–1890). Родом он из семьи пастора. Среди его предков были священники, ремесленники, военные или торговцы картинами. Хотя один из них в XVII в. был главным казначеем Нидерландской унии, а другой генеральным консулом в Бразилии. Среди потомков отца – три поколения золотопрядильщиков (от них их гениальный предок, возможно, и унаследовал редкостное владение золотым цветом, столь ярко воплощенным в «Подсолнухах»). Возможно, было бы справедливее (с точки зрения роли наций в цивилизации и культуре) отнести разговор о Ван-Гоге в раздел Голландии. Однако учитывая, что речь идет о живописи постимпрессионизма, куда входят Лотрек, Ван Гог, Гоген и Сезанн, составляющим как бы единое целое, оставим его искусству Франции. Художник всегда чем-то напоминает бродяг. Поэтому и их картины, частицы их душ, столь широко разбросаны по всему миру. Когда же в нем пробудилась эта волшебная художественная жилка? Возможно, когда он стоял перед собранием картин его дяди, открывшими ему волшебный мир. Кто знает?! Известно, что продавцом картин он стал в силу семейной традиции. В самом начале эта работа ему понравилась. Гаагу сменил Лондон, где он познакомился с английскими мастерами. Натура Ван Гога такова, что он часто говорил своим хозяевам все, что он о них думал. Однажды взял и брякнул: «торговля произведениями искусства – всего лишь форма организованного грабежа» (хозяева возмутились и уволили его).
Мятежный дух не давал ему жить спокойно. В душе бродили неосознанные порывы к бескорыстному служению человечеству. Он цитировал Ренана: «Чтобы жить и трудиться для человечества, надо умереть для себя». Уж не это ли толкнуло его на пасторскую стезю? Он, вдруг, решил стать проповедником Евангелия в угольном бассейне. Но его слишком страстная вера стала причиной болезни, уложив его в постель. Продавца книг из Винсента также не вышло. Тогда семейный совет решил отослать его в Амстердам, учиться на богослова. Целый год он штудирует книги, с упоением поглощая библию, Гомера, Диккенса, Мишле. Будучи принят в миссионерскую школу, мыслями он так далек от тех сухих проповедей, что произносят церковники. Вся их велоречивая болтовня часто напоминает ему бесплодную смоковницу. Разве их жалкие утешения нужны нуждающемуся труженику и голодному угольщику? Винсент отправляется в Боринаж, центр добычи угля на юге Бельгии (1878). Когда на шахте Аграпп произошел взрыв и многие погибли, Винсент был один из первых, кто пришел на помощь несчастным раненым (он даже выходил одного безнадежного шахтера, дежуря у его изголовья днем и ночью). В нем уже проснулся не только великий художник («передо мной воскресший Христос»).
А. де Тулуз-Лотрек. Со своей милой. 1891.
Возможно, и в нем самом была частичка Христа… Он неутомимо помогал больным и сирым, когда в районе разразилась эпидемия тифа, отдавая беднякам то немногое, что у него было. После катастрофы на шахте он схватился с владельцами. Те назвали его безумцем. В книге А. Перрюшо так описан этот конфликт: «Весь дрожа от негодования, «пастор Винсент» решительным шагом направился в дирекцию шахты и потребовал, чтобы во имя братства людей, во имя простой справедливости были приняты срочные меры охраны труда. От этого зависит здоровье, сплошь и рядом даже жизнь тружеников подземного мира. Хозяева ответили на его требования издевательским смехом и бранью. Винсент настаивал, бушевал. «Господин Винсент, – крикнули ему, – если вы не оставите нас в покое, мы упрячем вас в сумасшедший дом!» «Сумасшедший» – снова выползло, издевательски ухмыляясь, это гнусное слово. Сумасшедший – ну конечно же! Только безумец может посягнуть на хозяйскую прибыль ради ненужных усовершенствований! Только безумец может потребовать отказа от столь выгодных условий – ведь из каждых 100 франков, вырученных за уголь, выданный на гора, акционеры получат чистыми 39. Достаточно сопоставить эти цифры, и безумие Винсента Ван Гога станет очевидным».[133] Великие мастера Европы всегда в жесточайшем конфликте с буржуазией.
Стало ясно – ни торговцем, ни учителем, ни проповедником ему не быть. У него иное предназначение – стать художником. Его все время тянет в родные места. Голландия, как он говорит, «страна картин». Вскоре он совершает паломничество во французскую провинцию Па-де-Кале, где находилась мастерская высоко ценимого им художника Бретона. Этот поход стал для него прорывом в живопись. Тут он обрел уверенность, что наконец-то и ему улыбнется удача. В 1880 г., когда Ван Гогу было 27 лет, он сделал окончательный выбор. Художник напомнил нам святого Луку, покровителя художников (символом того был терпеливый вол). Ван Гог старается как можно скорее «стать хозяином своего карандаша». Он рисует углекопов, откатчиков, женщин рабочих поселков, рисует «людей из бездны», которая, увы, так хорошо ему знакома… После его возвращения отец, видя в нем лишь неудачника и закоренелого бездельника, выгоняет его из дома (1881). Но он не сдается. Работа и обучение продолжаются. У кого учился Ван Гог? У соотечественников (мастеров гаагской школы), но более у Рембрандта, Милле, Домье, Делакруа. Пылкость и страстность его натуры побуждают во многом чувствовать себя духовным братом романтиков Монтичелли и Делакруа. Полотна импрессионистов ему пока неведомы. Фирма Гупиль, где он когда-то работал, их полотен не приобретала. Обучаться мастерству непосредственно ему пришлось у художника-традиционалиста А. Мауве. Тот поддержал молодого человека, хотя вначале и посчитал его «пустоцветом».
В живописи Ван Гог был реалистом. Свое кредо он выразил словами: «Я хочу, чтобы все мы стали рыбаками в том море, которое называется океаном реальности». Его отличало упорство в достижении цели. А это главное в судьбе любой творческой и дерзкой личности, выброшенной в жизнь, словно челн в разъяренное море. Судьба безжалостно швыряла его. Поэтому работы несут отпечаток этой жестокой борьбы – «Старый морской волк» (1883), «Вдова» (1882), «Шахтер» (1881), «Землекоп» (1882), «Одинокий старик» (1882). Чувствуя свою покинутость и одиночество, он взял в дом уличную женщину с двумя детьми, на которой собирался жениться. Дома его укоряли: «Ты не зарабатываешь денег», и вскоре выставили за дверь. Винсент порвал с семьей и отказался от своей доли наследства. Главной темой его творчества был труд. Крестьяне на полотнах Ван Гога сажают картофель или едят (едят, как работают: угрюмо и сосредоточенно). Любил рисовать он и старую обувь, дороги, кладбища, церкви. Так, ведь, таков путь бедняков в этом мире. Винсент часто говорил: живи он в 1848 г., он обязательно был бы на баррикадах, среди восставших («Существует старое общество, которое, на мой взгляд, погибнет по своей вине, и есть новое, которое уже родилось, растет и будет развиваться»).[134]
Достаточно сложным было и его отношение к современному обществу… С одной стороны, он терпеть не мог всю эту лживую и лицемерную буржуазную интеллигенцию. Она, видите ли, считает себя «цивилизованной»? Чушь… Ван Гог убежден, что «все эти цивилизованные люди рухнут и будут словно ужасающей молнией уничтожены революцией, войной и банкротством прогнившего государства». Внутренний социальный протест требует от него встать на сторону униженных и ограбленных. Однако, с другой стороны, он все же понимал, что мир его мыслей и чувств несравненно богаче мирка какого-нибудь шахтера или крестьянина. «Я часто думаю, – писал он, – что крестьяне представляют собой особый мир, во многих отношениях выше цивилизованного. Во многих, но не во всех, – что они знают, например, об искусстве и о ряде других вещей?»
Совсем отвергнуть каноны общества он не мог, поступив в Академию, где сдружился с Тулуз Лотреком. Обоих раздражает царящая тут атмосфера. Ван Гог возмущается: «В здешней мастерской учат писать так же, как и учат жить – подделываясь под правду и интригуя». Вместе с Тулуз-Лотреком они покидают этот «храм древностей». В 1887 г. в Париже он знакомится и с Гогеном, увидев в нем отражение своих надежд и идеалов.
Это обстоятельство породило в нем дружеские чувства к Гогену. Встреча двух великих мастеров в Арле, куда переехал Винсент, ознаменовала собой важный этап их творчества. Ван Гог и раньше мечтал о коммунах художников, где бы они могли работать вместе. Он желал убежать прочь от всех этих обывателей, именующих себя «культурными людьми» и уединиться для творчества. Наконец-то, Гоген приехал… Вначале все шло прекрасно. Они интенсивно работают. Вечером отправляются в кафе или в дом терпимости («ночные прогулки в целях гигиены»). Гоген ведет хозяйство и обучает друга своей манере. Ван Гог внутренне протестует, ибо классический стиль его не может удовлетворить. Да и Гоген вскоре начинает понимать, что между ними лежит пропасть: «Мы с Винсентом на все смотрим по-разному и вообще и в особенности в вопросах живописи. Он восхищается Домье, Добиньи, Зиемом и великим Руссо – то есть всеми теми, кого я не воспринимаю. Зато он презирает Энгра, Рафаэля, Дега – всех тех, кем восхищаюсь я». Уже и Арль не радует Гогена («самая жалкая дыра на Юге»). Винсент с ужасом начинает понимать, что в лице Гогена он обрел не друга, а врага! Впрочем, пока Гоген все же пишет его портрет, взглянув на который Винсент глухо скажет: «Да, это я, но только впавший в безумие». Вечером в кафе он швырнет в друга стакан с абсентом, а затем бросится на Гогена с бритвой. В ужасе от содеянного Ван Гог отрежет себе мочку уха. Разум покинул его. Буржуазная печать тогда впервые упомянула имя художника (1888).[135]
Ван Гог. Автопортрет. 1887.
И все же именно 1888 г. стал во многом определяющим для его творчества. Ван Гог создал в этом году, пожалуй, самые известные полотна: «Подъемный мост около Арля», «Автопортрет», «Море и лодки в Сен-Мари», «Портрет старика крестьянина», «Долина Кро», «Ночное кафе в Арле», «Больничный сад в Арле», «Подсолнухи», «Красные виноградники в Арле», «После дождя» и др. В этих картинах ощущается страстная любовь к людям. Однажды он скажет: «Самое художественное – это любовь к людям». В его пейзажах и портретах несется бешеная лавина красок. Кажется, встреча с Гогеном действительно пробудила дремавший в нем вулкан. Видимо, и тот ощущал трагическое родство натур и характеров: «Один из нас вулкан, другой тоже весь клокочет, только внутри».
Как скажет уже в XX в. один из русских поклонников Ван Гога в своем стихотворении, посвященном этому художнику («Цветы в зеленой вазе»):
- Подсолнух. Розы. Хризантемы.
- Итак, зеленый пьедестал.
- Дальнейшее развитье темы —
- Как симфонический кристалл.[136]
Кем был Винсент Ван Гог? Иные называли его бродягой, отшельником, безумцем, заключенным. Возможно, что тот действительно ощущал в себе частицу того или другого («Прогулка заключенных», 1890). Ясно и то, что он видел вокруг себя незримую железную стену, через которую ему вряд ли удастся пробиться. Иначе бы не выстрелил себе в сердце. Нельзя жить в обществе и быть полностью свободным от него. Его щупальцы рано или поздно достанут тебя. Самоубийство Ван Гога не было простой случайностью. Безумие зрело в нем, наливалось отвратительной желчью. Мысли о самоубийстве посещали его и раньше, при столкновении с мерзкой жизнью. В одном из писем он признавался: «Видишь ли, дружище, беда в том, что Джотто и Чимабуэ, а также Гольбейн и Ван Эйк жили в обществе, похожем, так сказать, на обелиск, в обществе, так архитектонически расчитанном и возведенном, что каждый индивидуум был в нем отдельным камнем, а все вместе они поддерживали друг друга и составляли одно монументальное целое… Мы же пребываем в состоянии полного хаоса и анархии…» Этот «звездный скиталец» все чаще смотрел в небо, как в бездну, ожидая конца мучений («Звездная ночь», 1889). Воронье уже начинало кружить над его несжатым полем («культурное общество» при жизни самого Ван Гога соизволило приобрести лишь одну из 800–900 картин)…
Художники рассматриваемого круга обретали пристанище в Париже и во Франции. Но был мастер, не удовлетворившийся знакомыми пейзажами. Он устремился в поисках далекой и «пленительной земли» (Таити). Им стал Поль Гоген (1848–1903), блестяще владевший не только кистью, но и пером. Судьба его представляется вдвойне интересной, поскольку он оказался своеобразным посланником в иной мир, иную цивилизацию. До сих пор мы не сталкивались еще с художником (писателем), который бы столь решительно порвал с культурной Европы, предпочтя ей мир Азии. Что же искал там Гоген?
О причинах этого на первый взгляд странного поступка мало что могут поведать внешние события его жизни (ученик штурмана, воинская повинность, работа на бирже, расклейщик афиш). Жизнь складывалась трудно. Женитьба и нищета ее усугубили. Каков главный мотив поворота в жизни? Об этом повествует автобиографическая книга художника («Ной Ноа»), где речь идет о пребывании Гогена на Таити (1891–1893). Как бы от второго лица говорится о его жизни и творчестве, объясняется интерес к Таити: «Он торопился прийти, страстно и, однако, с некоторым страхом стремясь увидеть новые творения Поля Гогена, его таитянские работы, плод трехлетнего труда и мечтаний там, на Острове, – и из осторожности он на всякий случай, даже на случай, если ничего не поймет (отсюда и страх), долгое время накладывал узду на свое воображение, чтобы от всевозможных предположений, неосновательных и нескромных, не увяла заранее его радость; он пришел с открытой душой, с непредубежденным взором, и вот теперь, перед этим праздником юности и солнца, с фонами, тревожащими даже в своей ясности, он стоял изумленный, ослепленный всем этим великолепием, странным и безмятежным, простым и совершенным, где нет больше ничего от нашего Запада».[137]
Оказавшись на островах, удаленных на многие мили от Европы, он отмечает, что лишь на природе можно уйти «от европейской суеты и морали». Он с удовлетворением констатирует: «Цивилизация мало-помалу выходит из меня. Я постигаю природу». Поближе познакомившись с островитянами, Гоген отмечает такие их качества как достоинство, независимость, гуманность, честность. Эти люди вызывают у него гораздо более положительные ассоциации, чем лживые и фальшивые европейцы. За этим, казалось бы, романтическим порывом стояли и материальные причины. Зимой 1885/86 года он узнал воочию, что такое жестокая нужда (холод и голод). Нужда страшно мешала работать, а «разум заходил в тупик». В Париже и больших городах в то время борьба за кусок хлеба занимала «три четверти вашего времени и половину энергии». В этих условиях Гоген вспоминал свои юношеские путешествия в Южную Америку и подумывал о том, чтобы стать «землевладельцем в Океании». В 1887 г. он отправился в Панаму и на Мартинику, где написал около дюжины картин. Свою роль в его таитянской эпопее сыграла семья Ван Гогов. Винсент убеждал его, что будущее принадлежит тропикам: «они еще никем не использованы, а этих глупых покупателей картин нужно расшевелить новыми мотивами». Тео Ван Гог также надеялся, что сможет вскоре продавать картины Гогена.[138]
Ван Гог. Прогулка заключенных. 1890.
Нужно ли давать характеристику картинам Гогена? Их лучше один раз увидеть, чем давать им словесные (в любом случае бесцветные в сравнении с его живописью) описания. Тем более, что наш русский читатель имеет великолепнейшую возможность увидеть некоторые из его картин: «Женщина с цветком» (1891), «Беседа» (1891), «А ты ревнуешь?» (1892), «Дух умерших» (1892), «Таитянские пасторали» (1893) и некоторые другие в музеях России. Возможно, имеется смысл обратиться к признанному мастеру рассказа, каким является английский писатель С. Моэм. Известно, что это он посвятил художнику роман «Луна и грош». Вот как описывает Моэм в романе натюрморт работы Стрикленда (Гогена): «Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек… Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-глазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскресавшей в памяти смутные видения Римской империи Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей, – но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории Земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их – значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли нежданными опасностями и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога».[139] Этот великолепный «анонс» английского писателя вполне мог бы стать вступлением и приобщением любого к творчеству Гогена.
П. Гоген. Почему ты ревнуешь? 1892.
Художник Гоген обладал и глубоким видением мира. Сегодня особенно важно знать, а что же понимали под словом «демократия» в конце XIX-начале XX веков подлинные, великие мастера культуры (а не клоуны от искусства). Напомню, кстати, что предки Гогена по материнской линии принадлежали к старой арагонской знати, некогда поселившейся в Перу и занимавший там видные посты (в доме дона Пио и прошли детские годы Гогена). Предки же с отцовской стороны принадлежали к кругу средней буржуазии.
О своей исповеди он сказал:»Эти размышления – зеркало моего «я». Гоген пишет: «Да здравствует демократия! Нет ничего лучше ее… Но я ценю возвышенное, прекрасное, утонченное, мне по душе старинный девиз «Noblesse oblige». Мне нравятся учтивость и даже куртуазность Луи XIV. Выходит, я (инстинктивно, сам не зная почему) аристократ – поскольку я художник. Искусство существует для меньшинства, значит, оно должно быть аристократичным. Между прочим, аристократы – единственные, кто опекал искусство, под их эгидой были созданы великие произведения. Что ими руководило – безочетный ли порыв, долг или тщеславие – роли не играет. Короли и папы обращались с художниками почти как с равными. Демократы, банкиры, министры и критики изображают опекунов, но ничего не опекают. Напротив, они торгуются, словно покупатели на рыбном рынке. А вы еще хотите, чтобы художник был республиканцем! Вот и все мои политические взгляды. Я считаю, что каждый член общества вправе жить и рассчитывать на жизненный уровень, отвечающий его труду. Художник не может прокормиться. Значит, общество организовано скверно, даже преступно. Кто-нибудь возразит, что от произведений художника нет пользы. Рабочий, фабрикант – любой, кто делает для общества что-то, имеющее денежную ценность, обогащает нацию. То ценное, что он создал, остается и после его смерти. Чего никак нельзя сказать о меняле. Скажем, сто франков обращаются в разную валюту. Усилиями менялы деньги переходят из рук в руки, потом оседают в его кармане. Нация по-прежнему имеет сто франков, ни сантима больше. Художник же сродни рабочему. Если он создал картину, которая стоит десять франков, нация стала на десять франков богаче. А его называют бесполезным существом! Бог мой, что за калькуляция!» Таково понимание ложной (истинной) демократии.[140]
Поворотным пунктом в истории живописи стал 1886 г. На смену импрессионизму шел неоимпрессионизм. Мы не хотим злоупотреблять профессиональными дефинициями. Они вряд ли расскажут нечто новое читателю. Заметим лишь, что неоимпрессионистов отличали большая «математическая строгость», большая систематичность и упорядоченность поиска. К неоимпрессионистам мы относим прежде всего Сера, Синьяка (и примкнувшего к ним Писсарро). Наиболее важным в их поисках была попытка осуществить синтез «с помощью методов, основанных на достижениях науки». Они развивали в живописи технику так называемого разделения, пользовались приемами оптического смешения тонов и цветов, заимствуя многое у Делакруа или у импрессионистов.
П. Синьяк (1863–1935) писал: «Было бы нелепо упрекать импрессионистов в том, что они пренебрегали этими задачами, ведь их целью было передать зрелище и гармонию природы именно в том виде, в каком они им являлись, без всякой заботы об упорядочении или аранжировке. «Импрессионист садится на берегу реки и пишет то, что находится перед ним», – говорит их критик Теодор Дюре. И они доказали, что таким способом можно сделать чудеса. Неоимпрессионист, следуя советам Делакруа, не начнет холст, не решив заранее, как и что на нем разместить. Руководствуясь традицией и знанием, он будет компоновать картину согласно своему замыслу…. Произведение импрессиониста будет, вероятно, более гармонично, чем произведение импрессиониста, потому что благодаря постоянному соблюдению контраста все подробности в картине неоимпрессиониста гармоничны, а благодаря обдуманной композиции и эстетическому языку красок в ней будет и общая гармония и духовная гармония, о которой импрессионисты не заботились. Мы не собираемся сравнивать заслуги этих двух поколений художников: ведь импрессионисты – мастера законченные, славная работа которых завершена и признана; а неоимпрессионисты еще не вышли из периода поисков и понимают, сколько им еще нужно сделать… Неоимпрессионизм, который ищет полной чистоты и гармонии, является логическим следствием импрессионизма. Приверженцы новой техники только соединили, упорядочили и развили искания своих предшественников».[141]
П. Гоген. Куда идешь? 1890.
Представляется, что это течение интересно не только своими техническим новаторством, но и идеями. В работах этой группы появились первые черты поп-культуры. Заметную роль здесь сыграл художник Жорж Сера (1859–1891). Едва научившись рисовать, он обнаружил тягу к живописи и к научному поиску. Похоже, никто после Леонардо не пытался соединить в одном порыве живопись и научные знания… Обучаясь в муниципальной школе рисунка, юноша штудирует «Грамматику искусства рисунка» Шарля Блана (академика). Иные из его идей и привлекли внимание Жоржа. «Цвету, подчиненному четким правилам, можно обучаться, как музыке, – пишет Блан. – Именно благодаря тому, что Эжен Делакруа познал эти законы, глубоко их изучил, сперва интуитивно угадав, он стал одним из величайших колористов современности». Столь простая и очевидная мысль тем не менее глубоко поразила молодого человека. Не означает ли это, что и живопись нужно тщательно изучать и исследовать так, как исследуют под микроскопом микробы или ткани растений? Ведь и там и тут мы имеем дело с материей. Искусство также строится по своим непреложным законам. Их нужно изучать тщательно и кропотливо! Отсюда девиз: «Изображаю не только то, что вижу, но и то, что знаю».
Возможно, сыграло роль и то, что Сера обучался в Школе изящных искусств у немца Анри Лемана. Немцы уже по своей природе аналитики. Они буквально все готовы разложить по полочкам. Леман всячески приветствовал увлечение юноши теорией. Сера роется в библиотеке, время от времени выуживая из ее недр то одно, то другое сокровище… И однажды натыкается на фолиант известного ученого М. Шевреля, изобретателя стеарина. Тому в то время было 92 года. Он возглавлял Музей естественной истории (а заодно заведовал красильным отделом на мануфактуре Гобеленов). Ученый, стремясь «придать красильному делу основания, коих оно было лишено» (завидная и достойная цель), знал все или почти все о красках. Вот этот-то труд Шевреля и дал Сера ключевые элементы для его теории. Художник понял, что с помощью науки можно поколдовать и над цветом. В нем проснулся древний алхимик, страстно желавший открыть секрет изготовления золота. «Золотом» в его понимании были картины. Дело в точном определении баланса цветов. Кажется, Делакруа был прав, говоря: «Дайте мне уличную грязь, и я сделаю из нее плоть женщины самого восхитительного оттенка». Разве не так поступали и Мане, Ренуар, Дега? Разве Золя не штудировал науку перед тем как писать свои натуралистические романы («Введение в изучение экспериментальной медицины» К. Бернара)! Разве великий Флобер не восклицал: «Чем дальше уйдет искусство, тем более научным оно станет. Литература будет все больше принимать образ науки»?!
Наука должна сказать веское слово и в искусстве живописи. Сегодня уже недостаточно заявлять устами К. Моне, что, дескать, писать можно только по наитию, выражая сгусток эмоций, выплескивая потоки чувств («Я пишу, как птица поет»). Свое «пенье» художник должен обязательно проверять «гармонией чисел». Одним словом, вывод очевиден и ясен: «В искусстве все должно быть сознательным». Даже службу в армии он воспринял как сознательный и разумный акт… Французы не отсиживались трусливо дома, не уклонялись от выполнения своего долга. Вспомним, что во время войны 1870 г. Мане служит в национальной гвардии вместе с Мессонье, Дега был артиллеристом, Ренуар – кирасиром, а Базиль, автор картины «Мастерская художника», был убит.
В 1863 г. как протест против необъективности академиков и «культурных кругов» возникнет «Салон отверженных». В 1874 г. импрессионисты показали свою первую групповую выставку. Минуло десять лет – и вновь, иному поколению художников не дают ходу. Сера пытается выставить свою картину «Купанье в Аньере» в бараках Тюильри (1884). А устроители выставки отправляют 6-метровое полотно в буфет… Схожая судьба постигла и «Гранд-Жатт», которую сочли «египетской фантазией». В который раз публика презрительно плюет в художника словечками типа «шарлатан» и им подобными. Морщился и Верхарн, посетивший эту выставку… Защита пришла со стороны журналиста Фенеона, который терпеть не мог слащавых маэстро школ и вообще всех академий.