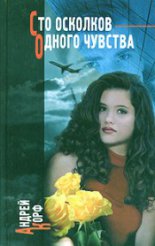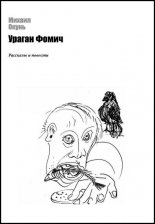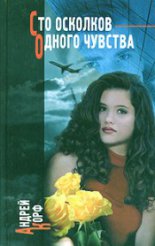Война с Востока. Книга об афганском походе Проханов Александр
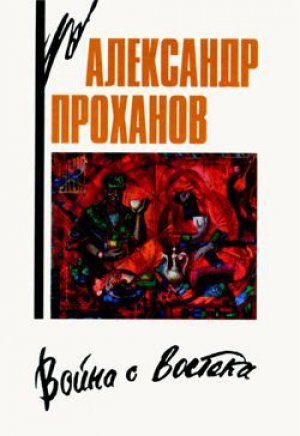
Татьянушкин положил свою большую ладонь на влажный лоб человека, осторожно, нежно провел по седым волосам:
– Коля, держись!.. Сам тебя в Москву отвезу!.. Мы еще в Рыбинск с тобой скатаем, окуньков потаскаем!..
Осторожно, на цыпочках отошел от кровати, и лицо его было беззащитным и нежным, а глаза, минуту назад стальные и жесткие, вдруг наполнились синевой.
Калмыков обходил палаты, разыскивая Расулова. Нашел его в полутемном углу коридора на высоком хромированном ложе, среди флаконов, штативов и трубок.
Расулов лежал на приподнятом, с рычагами и винтами, одре, голый, раскинув ноги. Его пах был перебинтован, а ляжки и часть живота желтели от йода и запекшейся сукрови. Черные усы неопрятно топорщились, щеки поросли щетиной, а глаза крутились в глазницах, словно убегали от безумных видений.
Рядом сидела его подруга, розовощекая, тонколицая, держала руку на его голой груди. На ее пальце голубел перстенек, подарок Расулова.
– Командир! – Расулов увидел Калмыкова, потянулся к нему. – Все сделал, как надо, командир!.. Взял зенитки!.. Шел первый!.. Они мне хозяйство отстрелили!.. Из зениток по мне, как по самолету!.. Сделал, что мог, командир!..
Он пытался подняться, стряхивал с себя руку с голубым перстеньком, но страшная тяжесть прижимала его к одру. Он вращал глазами, топорщил усы и плакал:
– Что я буду делать теперь, командир!.. Лучше бы в башку мне попало!.. Лучше бы мозги мне выбили!.. Какя буду жить, командир!..
Он рыдал от боли, от позора, от бессилия. Сестра гладила его по бурлящей груди и беззвучно плакала.
Вся его неистовая энергия и страсть, его отвага и лихость, его песни, попойки, любовницы, – все было отбито стальным сердечником, вырвано с корнем. Осталась дыра, набитая бинтами и кровью.
– Уйди ты от меня! – гнал он сестру. – Уйди, говорю!.. Лучше дай мне яду!.. Глядеть на тебя не могу!..
Она гладила его, тихо рыдала. Калмыков перехватил его сухую горячую руку:
– Расулов, ты самый лучший мужик из всех, кого я встречал! Ты самый лучший, Расулов!
Ушел, не умея утешить ротного, боясь, что и сам разрыдается.
Глава двадцать пятая
Он помнил, как бабушка целыми днями сидела в маленьком креслице, в стоптанных шлепанцах, с белой поникшей головой. Не спала, а дремала, думала бесконечную думу. Он боялся ее потревожить, тихо подходил, накрывал ей ноги пледом, смотрел, как колышется от дыхания ее кофта, как на стене над ее головой вдруг загорается бледное пятно зимнего солнца и шерстинки ковра, красные линялые маки начинают пламенеть. Она открывала глаза, вздыхала. Он спрашивал: «Бабушка, о чем ты все думаешь?» «Так, – отвечала она. – Вспоминаю. Жизнь свою вспоминаю». И опять погружалась в дремоту, уходила от него в другое пространство, где была молода, где окружали ее родные счастливые лица, синели далекие горы, стелилась раздольная степь, катилась по тракту коляска и жених сжимал ей под шалью руку.
Он старался угадать ее думу. Знал – когда-нибудь, если суждено ему дожить до старости, вот так же, слабый и дряхлый, будет сидеть в уголке. В его сонной, дремлющей голове будут тянуться и путаться непрерывные воспоминания, картины странствий, лица любимых и близких и бабушка в низеньком креслице, под ковром с красными маками, в пятне прозрачного солнца.
Они приехали на виллу. Высокая, в два роста стена. Железные вмурованные ворота. Прорезь, в которую смотрит зрачок или дуло. Рыкающая, рвущаяся на цепи собака.
Вошли во двор, где стыли заскорузлые виноградные лозы, темнело корявое безлистое дерево и стояла «тойота» – ветровое стекло было в лучистых трещинах вокруг пулевого отверстия.
На крыльце у порога была навалена обувь, грязные липкие ботинки, то ли в извести, то ли в нефти. Их хозяева, босые, в носках, содрав с себя рубахи, откинув в углы автоматы, пистолетные кобуры, сидели в гостиной вокруг низкого стола и пили водку.
Голые мускулистые спины, затылки, загривки, потные нагретые лица, груды закопченного, захватанного железа – вот что увидел Калмыков, войдя в гостиную, где собрались участники штурма, бравшие объекты в разных концах города.
– Мусульманский батальон подвалил!.. Двигай сюда, мужики! Стаканы берите! – Здоровенный детина, губастый, длинноногий, похожий на лошака, пустил их за стол, налил в стаканы водку, мокрый, глянцевитый, с прилипшей челкой на лбу. – Закусь хреновая!.. Сейчас поднесут!.. Ну, за встречу, мужики!.. Зато, что живы!..
Калмыков расстегивался, сдирал с себя грязную робу. Уселся среди полуголых горячих людей. Взял налитый стакан и ровными большими глотками выпил, чувствуя, как проливается внутрь горькая толстая струя, надеясь, что она превратится в огонь, а этот огонь выжжет, вытопит из плоти весь нагар минувшей ночи, разум, где скопились уродливые комья видений, очистится, станет пустым и стерильным.
Он выпил, не закусывая. Глядел на мокрые от водки губы, на ходящие кадыки, небритые щеки людей, желавших, как и он, смыть водкой копоть ночных пожаров.
Водка омыла пищевод, но не вызвала огня, а была уничтожена тяжелыми негорючими ядами, блуждавшими в крови.
– Давай, мужики, сами себе наливайте!.. Закусь хреновая!.. Орешки эти козьи!..
Калмыков налил себе снова до краев и выпил, булькая, вливая в себя прозрачную мерзость, ожидая, что будет ею отравлен, перестанут метаться в глазах видения горящих машин, оторванных рук, пробиваемых пулями тел. Сгинет длинный жирный труп, облитый бензином. Но водка утекла как в прорву, не вызвала опьянения, а только обострила зрение – он видел капельки пота на близком лошадином лице, грязный воротничок на рубахе Татьянушкина и вдали у стены на камине каменные пепельницы из драгоценных лазуритов и яшм.
– Я смотрю, они ходят как вареные, спят на ходу!.. Ну, думаю, маткин берег, сейчас влуплю! Прицеливаюсь и сквозь куст как шарахну! Прямо в башню!.. Как кастрюля лопнула!.. И башка у одного отлетела! Ей-Богу, отлетела, как мячик!..
– А я ищу, где колодец!.. Где-то здесь был!.. Днем видел, а ночью не видно!.. А патруль ходит, глазеет!.. Ну, думаю, хана! Не найду!.. Смотрю, да вот же он, снежком припорошен!.. Крышку ломиком – раз! Вниз спрыгнул, взрывчатку на кабель!.. Подпалили!.. Две гранаты с газом – херак!.. И пошел!.. Слышу сзади – херак, херак!.. И дым!.. Ну, думаю, порядок, всей связи хана!..
– А эти козлы, повстанцы! «Все как один придем! Готовьте для нас автоматы!»… Суки, ни один не пришел! Вот они, автоматы, нетронутые. Не хотят за свою власть умирать! Хотят власть из наших рук получить! Козлы вонючие!..
– А эти наверху, живой груз, как пальба началась, заперлись в комнатах! Ждут, чья возьмет. Догадываются, если мы дело провалим, я их перестреляю, как голубей!.. А как все сладилось, утром из посольства приехали, поздравили их, увезли. Я вижу, счастливые! Не верят, что царями стали!
– У меня в группе двоих убило! Одному глаз выбило! Да ты знаешь его, из Омска, на саксофоне играл!
– А у меня сапог пулей прошило!.. Как она прошла, не пойму! По голенищу и край подошвы отрезала!.. А нога-то цела, вот она!..
Калмыков пил водку, стакан за стаканом, вяло заедая орешками, все надеясь, что взорвется в его голове бесшумная прозрачная вспышка и в ней исчезнут черно-красные ночные пожары, глянцевитая наледь, по которой скользила лестница, и колонна Дворца, о которую брызнула близкая пуля.
Но видения убыстрялись, сливались с другими, о которых гудели, не слушая друг друга, непьянеющие потные люди.
– А ведь нас, мужики, укокошат! – сказал Татьянушкин, растягивая в волчьей улыбке рот, долго, длинно всасывая воздух. – Слишком много знаем, чтобы дальше жить!
Все умолкли, воспаленно задышали, оглядываясь вокруг, словно ждали: сквозь окна и двери просунутся стволы пулеметов и откроют огонь.
– Главному конец!.. – Татьянушкин длинно улыбался, барабанил ладонями по столу, так что прыгали стаканы, бутылки, кожура земляных орехов. – Главному конец!.. – Его руки колотили по столу, выбивая дикую дрожь. – Главному конец!.. – Он дышал, улыбался, по-волчьи растягивал губы, и лицо его было безумным.
Все молча смотрели, как он улыбается, слушали его костяную деревянную дробь.
Снаружи взревела собака, громыхнули ворота, послышался шорох шин. Дверь отворилась, и в холл вошел генерал. Он был строен, сух, с морщинистым, в мелких трещинах и надколах лицом. Его афганская форма из тонкого сукна была гладко выглажена. Начищенные туфли блестели. Он оглядел застолье внимательным зорким взглядом – беспорядок и грязь, комья сброшенной одежды, груды автоматов и гранат.
Люди, увидав генерала, вскочили из-за стола, принялись набрасывать на себя рубахи. Татьянушкин, в котором сорвалось с тормозов и пошло вразнос невидимое колесо, замер. На горле у него взбухла синяя жила, на скулах выдавились желваки. Он шарил по груди, отыскивая на рубахе пуговицу, и руки его ходили ходуном.
– Прошу садиться! – сказал генерал, сделав слабый взмах рукой, и Калмыков успел разглядеть его чистые подстриженные ногти.
– Поздравляю вас с успешным завершением операции. От имени командования благодарю всех!
Кто-то вытянулся по стойке «смирно». Кто-то скомканно и невнятно прохрипел: «Служим Советскому Союзу». Татьянушкин шарил трясущимися пальцами по груди, отыскивал и не находил пуговицу. Калмыков вспомнил эту руку, сжимающую цевье автомата, хватавшую канистру с бензином.
– Операция проведена на самом высоком уровне, – продолжал генерал. – Подавлены и ликвидированы очаги сопротивления при численном превосходстве противника. Безукоризненно осуществлено блокирование главного объекта. – Генерал повернулся к Калмыкову: – Уверен, эта операция сохранится в истории спецназа как классическая. Она будет изучаться, войдет в методические разработки. Сообщаю, вас вызывает на доклад в Москву министр обороны. Из первых уст хочет узнать о ходе операции. Все участники, живые, раненые и убитые, будут представлены к высоким боевым наградам!
Он умолк, устало вглядывался в лица людей, которых посылал в бой и которые, выполнив приказ, вернулись из боя. Калмыкова удивило его обращение: «Все участники, живые, раненые и убитые», словно те, кто был мертв, тоже стояли здесь по стойке «смирно» и выслушивали его поздравления.
– Я узнал, что врач Николай Николаевич погиб, – сказал генерал. – Приехал к нему за таблетками и узнал, что погиб. Жаль! – Он тронул рукой грудь в области сердца, и Калмыков не мог угадать, был ли это жест солидарности и ему жаль погибшего доктора, или у генерала болело сердце, ему не хватало таблеток и он жалел, что не может их взять у доктора.
– Товарищ генерал, присядьте с нами! – пригласил кто-то его. – Вот здесь чисто, товарищ генерал!
– Нет, благодарю, отдыхайте! – ответил генерал, озирая беспорядок и разгром в гостиной, не желая оставаться среди этого беспорядка, мешать усталым и пьяным, выполнившим его волю людям. Прощал им грязь, вонь, неопрятную пьянку.
Повернулся и вышел. Прошуршали колеса машины.
Татьянушкин продолжал хватать пальцами неприкрытую, в красных пятнах грудь. Лицо его, бледное, невидящее, с белыми бельмами глаз, с побледневшим хрящеватым носом, было в мелких конвульсиях. Он нащупал ворот, рванул, выдирая из ткани длинный лоскут. Потянулся раскрытой пятерней к стакану, схватил и метнул в стену, рассыпая колючие брызги. Двинулся, шатаясь, к камину, схватил узорную пепельницу, шмякнул под ноги, дробя на мелкие цветные осколки. Смел с камина медные сосуды, бубенцы, литого болванчика, швырнул с грохотом на пол. Подцепил узорную резную табуретку и ударом в стену превратил ее в щепы.
Он шел по гостиной с пустыми глазами, с открытым ртом, из которого падала пена, и громил и рушил все на своем пути.
Двое бросились к нему, повисли на руках, крутили локти за спиной, а он вырывался, хрипел, двигал взбесившимися мускулами и костями, и из груди его излетали стоны и вой.
Калмыков подскочил, схватил его голову, сжал виски. Заглядывал в его белые глаза, тряс, бил по щекам, приводя в чувство:
– Перестань!.. Ну их всех!.. Перестань, тебе говорю!.. Татьянушкин приходил в себя. Конвульсии спускались сквозь шею
и грудь в трясущийся живот, в ноги, в землю, в преисподнюю, откуда вышли. Он смотрел на Калмыкова прозревшими бледно-синими глазами. Упал ему лицом на грудь, слабо всхлипывая:
– Как же мы, брат, с тобой!.. Брат ты мой, как же мы так!..
Калмыков гладил его макушку, затылок. Прижимал к себе, чувствуя щекой его быстрые теплые слезы.
Глава двадцать шестая
От бабушки в детстве он слышал рассказы о своей далекой исчезнувшей родне. Эти родовые предания волновали его, как сказки, в которых присутствовал он сам, еще не родившийся. Прадед, ямщик, разъездами по степным вольным трактам сколотил состояние, купил в городе каменный дом. Деньги, все, что имел, отдал в ссуду соседу, без расписки, под честное слово, а тот исчез.
Прадед не находил себе места, винил, что поверил на слово ненадежному человеку, разорился, пустил семью по миру. Жена видела, как мается муж, готов наложить на себя руки. Ночью запалила лампу, поставила самовар, разбудила детей, одела и привела к столу. Сказала: «Отец, все в руках Божьих. А мы и с нищенской сумой проживем». Они пили чай в ночи, дружные, любящие, готовые на совместные тяготы и лишения. Беда миновала – сосед вернул деньги.
Через три поколения, из уст в уста, передавался этот рассказ о семейном ночном чаепитии. Керосиновая лампа. Медный сияющий самовар. Бурлящий кипяток из крана. Вздыхает, дует на блюдце бородатый широколобый человек. И множество детских глаз смотрят, как он пьет чай из блюдца.
На аэродроме среди солнечных белесых холмов, сверкающих белых хребтов стоял батальон, готовый к погрузке. Ротные шеренги, бруски «бэтээров» и «бээмдэ», грузовые машины. Серые, с недвижными винтами транспорты опустили аппарели. На лицах людей, на ромбах брони был сверкающий отсвет снегов. Кабул вдалеке туманился солнечной дымкой, переливался, разноцветно мерцал.
Калмыков стоял на бетоне перед расстеленными плащ-палатками, на которых лежали убитые.
Переодетые в форму спецназа, в синих запекшихся ранах, черных синяках и ожогах, в затверделой сукрови, в заледенелой мутнопрозрачной слизи. Их приоткрытые, с белеющими зубами рты, остекленелые, раздвинувшие веки глаза, всклокоченные волосы, сложенные на животах руки делали их незнакомыми, неузнаваемыми. Те, кого прежде знал Калмыков, помнил их голос, румянец, быстрые движения, готовность исполнить его команду, теперь лежали чужие, и на их искаженных лицах было отвращение к нему, Калмыкову.
Он шел вдоль брезентовых полотнищ, на которых лежали убитые.
Начальник штаба Файзулин поднял изумленные брови, скосил свое круглое, с проступившей щетиной лицо, словно не желал смотреть на Калмыкова, пославшего его на смерть. Калмыков вспомнил, как, вернувшись из отпуска, Файзулин, посвежевший, загорелый, рассказывал ему, как с женой и детьми собирали малину и варили варенье.
Солдат Амиров, истерзанный взрывом мины, с выбитыми глазами, был худ, изломан, одно плечо выше другого, синеватая тонкая шея вытянута, как у задушенной птицы. Калмыков вспомнил бег по осенней пустыне, обморок Амирова, его блуждающие глаза, словно в предчувствии будущего страшного взрыва.
Сержант Шарипов, и в смерти громадный, с одной рукой, лежащей на могучей груди, с ледяным колтуном слипшихся черных волос. Он казался беззащитным и о чем-то просящим, и Калмыков вспомнил перламутровое утро, голубой арык в крутящихся воронках, и Шарипов бурлил, клокотал, наполнял арык своими мускулами, розовой спиной, гулким смехом и гоготом.
Убитые – оператор, прожженный кумулятивной струей, ротный старшина, напоровшийся на короткую очередь, санинструктор, не успевший вколоть себе ампулу, погибший от болевого шока, – убитые лежали перед комбатом, показывая свои увечья и раны, винили его в своей смерти.
Он двигался вдоль плащ-палаток, беззвучно просил прощения, оставляя на «потом» свое раскаяние, свою встречу с ними в другой, предстоящей жизни.
В ротных шеренгах, готовых к погрузке, проходил досмотр. Особисты, прилетевшие с десантной дивизией, рылись в вещмешках, охлопывали солдат по бокам, выворачивали наизнанку карманы. Отбирали трофеи, захваченные из разгромленного Дворца. На фанерном щите высилась и росла горстка бус, мусульманских четок, японских часов и браслетов. Из вещмешков извлекались монетки, пластмассовые пуговицы, хрустальные подвески от люстр. Из вывернутых карманов в ловкие руки обыскивающих падали авторучки, медные безделушки, инкрустированные блюдца и пепельницы. Изымалось все, что было захвачено в выгоревших, закопченных палатах, что могло бы напоминать о бое, постепенно превращаясь в домашний хлам на потеху детям и внукам.
Особист, деловитый желтобровый майор, извлек из вещмешка фарфоровую пиалку. Лейтенант, хозяин вещи, не давал, вырывал сосуд.
– Это что, богатство какое? Да я из этой пиалки друга напоил, когда ему брюхо пробило!
– Не положено, лейтенант! Давай-ка сюда!
– Не положено? А вы там были ночью? Ни хрена не дам! – Лейтенант побледнел от бешенства, размахнулся, шмякнул пиалу о плиты, и она разлетелась в прах.
– Вы мертвых обыщите, майор! – Калмыков подошел, стал между лейтенантом и особистом. – Скорее кончайте свой шмон!
– Занимайтесь своим делом, комбат, – сухо сказал майор. – У каждого свои функции.
Его твердые умелые руки шарили в вещмешках и карманах, ссыпали на фанеру медяки, стекляшки, пластмассу – свидетельства, отпечатки деяний, о которых полагалось забыть.
Уже заезжала в самолет немытая техника, втянули на тросах «бээм-дэ», прожженный, с выгоревшим нутром транспортер, когда подкатила вереница санитарных машин и из них стали появляться раненые. На костылях, с поджатыми перебинтованными ногами. С повязками на головах. С подтянутыми на перевязях руками. Других несли на носилках, над которыми санинструкторы держали бутылки капельниц. В прозрачных колбах, на бинтах, на бледных, обескровленных лицах лежал все тот же чистейший отсвет белых хребтов.
Появились носилки с Расуловым. Похудевший, обросший, с бегающими глазами, он лежал под толстым одеялом. Рядом шла медсестра, несла над ним стеклянный, наполненный солнцем флакон. Калмыков углядел на ее протянутой руке серебряный перстенек с синей каменной каплей.
– Ты мне дай свой адрес, – просила она. – Буду тебе писать.
– Нету адреса!.. Не пиши!.. Забудь!..
– Я ведь тебя люблю!.. Приеду к тебе!..
– Некуда приезжать!.. Забудь!.. Командир! – простонал он, увидев Калмыкова. – Пусть меня заносят на борт!.. К черту все!.. Надоело!..
Баранов, Грязнов и Беляев, прихрамывающий, страдающий от раны, грузили на борт личный состав. Калмыков летел вместе с ранеными до Ташкента, где ждал его другой самолет, в Москву, на доклад министру.
Он поднялся внутрь фюзеляжа. Там было сумрачно, желтела направляющая балка с лебедкой, светил сигнальный фонарь. Среди груды коробок, распухших чемоданов, упакованных ковров он увидел человека, не сразу узнав в нем Квасова.
Дипломат сидел среди своего багажа, тучный, в добротном пальто с бобровым воротником, насмешливо смотрел на Калмыкова, переступающего по клепаному полу.
– Ну вот, опять мы встретились, товарищ подполковник! Сделали каждый свое и смываемся, следы заметаем!.. О чем знаем, будем молчать, не так ли?
Он рассматривал Калмыкова, положив пухлую руку на кожаный чемодан, был ироничен, с барственным превосходством. Увозил в чемоданах благоприобретенное достояние, подарки жене и детям, тайные сувениры любовницам, вина, ковры, драгоценности, хромированные магнитофоны. Его не коснулась ищущая рука майора-особиста. Он был из тех, неприкасаемых, кто вечно прав и богат, знает тайные пружины политики, невидимые механизмы жизни, толкавшие его, Калмыкова, на штурм дворцов и казарм, окунавшие людей в копоть и кровь, бросавшие их на операционные столы и носилки.
– Вы подвиньте, пожалуйста, вещи. Здесь положат носилки с ранеными, – сказал он, не глядя на Квасова.
– Как я подвину! Они аккуратно уложены. Там стекло, хрусталь!
– Хрусталь?… А кости людские – не хрусталь?… А трупы не аккуратно уложены?…
Калмыков чувствовал, как слепое жгучее бешенство застилает глаза. Он ненавидит, готов застрелить этого сытого, в бобровом воротнике, человека.
– Валите к черту!.. Слышите!.. Вон!.. Башку продырявлю!..
– Да вы что! – защищался от его ненависти Квасов. – Не имеете права!.. Ответите!.. Я по личному распоряжению посла!..
– К едрене фене!.. Прапорщик! – крикнул Калмыков. – Выкинь это дерьмо с чемоданами!.. Чтоб духу не было!..
Прапорщик, кивнув солдатам, не слушая вопли Квасова, вытаскивал чемоданы и ящики, ковры и коробки с посудой, выкидывал их из кормы самолета на бетонные плиты.
– Ответите!.. Озверели от крови!.. Докладную послу!..
Квасов сбежал с самолета. Калмыков с наслаждением слушал хруст разбиваемого о плиты стекла, визг и хрип дипломата. И уже вносили на борт носилки, клали на пол раненых, и бутыль над головой Расулова роняла в трубку прозрачные капли.
Впервые страх смерти он испытал не за себя, а за бабушку. Это было в детстве, когда вдруг показалось, что бабушка, дремлющая в пятне зимнего желтого солнца, больше никогда не проснется и он останется один в опустевшем, враждебном мире с серым дымом из красной, кирпичной трубы, с обледенелым деревом за морозным окном. Этот страх, однажды возникнув, не исчезал никогда. Бабушка жила долго, дожила до его возмужания, но боязнь ее потерять не отступала, лишь меняла свои проявления. Это неотступное, бессознательное чувство воспитывало его веру в этику. Постоянное ожидание ее смерти превращалось в непрерывную молитву о продлении ее дней, и эта молитва была главным содержанием его детских переживаний. Когда бабушка умерла, молитва продолжалась. Он молился, чтобы там, куда она перешла, жизнь ее продолжалась и смерть ее пощадила.
Самолет звенел и дрожал, двигался по бетонному полю. Калмыков прижался лицом к иллюминатору. Из неба, из синевы возникали военные транспорты, снижались, касались земли, выбивали клубы резиновой гари, удалялись, вращая пропеллерами. Другие самолеты на дальнем краю аэродрома стояли под разгрузкой, из них вылезали зеленые фургоны, гусеничные транспортеры, тяжелые самоходки. Солдаты вытаскивали зарядные ящики, амуницию. Штурмовые вертолеты парами взмывали и уплывали в сторону гор. По краю аэродрома катили «бэтээры», разворачивались «боевые машины пехоты».
Калмыков смотрел в иллюминатор, готовый покинуть Кабул, и навстречу ему двигалась война, вливалась железом и гарью в солнечные предгорья. Повсюду блестел металл, вспыхивала вороненая сталь.
Он чувствовал, как в невидимый раструб вливалась война. Наполняла собой чашу кабульского аэродрома. Будет копиться, полниться, переливать через край, затопит кишлаки и долины, просочится по арыкам в засушливые степи. Он, Калмыков, соорудил этот раструб, эту пуповину войны. Он был тем, кто первый привел войну в эти земли.
Самолет разгонялся, взлетал. Качнулись, прижались друг к другу сидящие на железных лавках солдаты. Застонали беззвучно раненые, пропуская сквозь раны вибрацию фюзеляжа. Калмыков смотрел на мелькавшую землю, на которой его батальон оставил метины пуль, следы крови и пороха. Незавершенное военное дело, оставляя его завершение идущим на смену.
Самолет шевелил в синеве закрылками, покачивался с крыла на крыло, медленно возносился среди тесных глазурованных склонов, на которых застыли завитки снежных буранов, серебрились уснувшие метели. Земля, удаленная, в клетчатых кишлаках и полях, туманилась в огромной прозрачной линзе. Кабул казался картой в чешуйках и царапинах, в графике предместий и районов. И вдруг с высоты, вознесенный в синюю бесконечность, он увидел Дворец, бело-желтую каплю на сверкающих снегах. Голова закружилась от необъятной прозрачной глубины, на дне которой находился Дворец. Там, перед Дворцом, еще оставался на снегу след его башмака, ствол старой яблони, который он задел на бегу, лежали на ступеньках горстки смятых стреляных гильз.
Ему показалось, что он спит и это сон. Жизнь его прожита, и он в старости, в немощи, вспоминает этот город, и в тумане снежного солнца – видение Дворца.
Самолет повернул, и видение исчезло. Медленно текли за окном близкие пики хребта, и на них спиралями и свитками, как свернувшиеся пушные звери, лежали снега.
У него вдруг померкло в глазах, упало сердце. Ему показалось, что сейчас самолет взорвется. Где-то здесь, в упругих шпангоутах, заложен заряд. Стрелка часов приближает мгновение взрыва. Самолет расколется, и все они высыплются в обжигающий разреженный воздух, просыплются, как личинки, на снежные пики хребта. Самолет, обладающий грозной тайной, будет взорван, чтобы тайна навеки вмерзла в недоступный высотный ледник.
Ужас длился мгновение. Самолет мерно гудел, перекатывал по своему металлическому длинному телу плавные волны вибрации.
Он подошел к Расулову. Ротный дремал на своем брезенте, закрыв глаза. Резиновая трубка струйкой вилась над обнаженной рукой. В капельнице дрожала солнечная хрупкая капля. Калмыков положил ладонь на лоб Расулова. Лоб был влажный. Расулов, не открывая глаз, благодарно шевельнул губами. Некоторое время Калмыков держал ладонь на лбу Расулова, и они, соединенные вибрацией самолета, влажным дышащим теплом, пролетали над белыми вершинами.
Солдаты, сменившие афганскую серую форму на свою, зеленую, сидели на лавках, и по их лицам скользил едва различимый, слабый свет ледников. Калмыков вспомнил, как совсем недавно они летели в обратном направлении, огромная луна приближалась из черных пространств, и казалось, батальон летит на Луну.
Теперь они возвращались из космоса, ободранные о другие планеты, иссеченные жестокой радиацией, истратив на этот полет свои жизненные силы, земное, отведенное для жизни время. Вернутся на землю и найдут там другое тысячелетие, других обитателей, забывших о них, для которых они чужды и не нужны.
Ротный спал на брезенте, слабо шевелил губами под колючими усами. Калмыков наклонился, поцеловал его в лоб.
В Ташкенте он обеспечил погрузку раненых в санитарные машины. Роза, гадалка в черно-красном цветастом платке, шла за носилками Расулова, целовала его и плакала.
Машина перевезла Калмыкова на гражданский аэродром, где его поджидал белый нарядный лайнер, улетавший в Москву. Опаздывая, последним он поднялся по трапу, занял свое место в салоне.
Люди кругом старательно пристегивались ремнями. От женщины рядом с ним тонко и сладко пахло духами. Другая женщина, узбечка, в переливах разноцветного шелка, держала на руках ребенка. Черноглазый мальчик тянулся к Калмыкову, сжимал и разжимал кулачки, и Калмыков слегка отстранился от этих крохотных, с розовыми ногтями пальцев.
Люди кругом не знали о нем. Не знали, что он недавно стрелял, убивал, пробегал по кровавой луже, на руке его взбух сине-желтый рубец, а прокушенный во время атаки язык болит и ноет.
Он отстранился от ребенка, чтобы тот не коснулся его скверны, его болезни, не заразился от него.
Он дремал, проносясь в небесах по огромной плавной дуге.
Глава двадцать седьмая
После дневных хлопот, когда их дом затихал и мама засыпала, а он сквозь желтую горящую щелку заглядывал в соседнюю комнату, он видел: бабушка в белой ночной рубахе, в кружевном чепце лежит на кровати, держит в свете лампы маленькую книгу Евангелия. Образ золотится, медная пряжка тускло желтеет.
Бабушка вздыхала, клала книгу на грудь, лицо ее было задумчивым и мечтательным. Ее мысли витали вдалеке от тесной московской комнаты, в других землях, где в старинный город на белой ослице въезжает Христос. Толпа ликует, стелет на землю ковры, усыпает его путь цветами.
Эти евангельские рассказы и притчи он слышал от бабушки в детстве. Они не были просто сказаниями, служили не развлечению, а являлись историями ее собственной жизни, где совершалось нечто важное, глубокое и поучительное.
Премудрость слов и поступков тех давнишних людей служила для бабушки уроком и назиданием. Она постоянно училась, постоянно сравнивала свою жизнь с поведением тех людей.
На всю жизнь он сохранил убеждение, что существуют правила, по которым надлежит поступать, и эти правила записаны в книгу с золотым обрезом. Бабушка поступала по этим правилам, и кто-то невидимый, написавший книгу, был доволен бабушкой. К нему, невидимому, поднимала она глаза, лежа на деревянной, с витыми спинками, кровати в час московской полуночи.
Москва была в снегу, в скрипах, шелестах, в облаках бело-розового пара, в новогодних игрушках и елках. Он шел по улицам, наслаждаясь зимним, родным, с детства любимым городом, который принял его в свой январский мороз, не спрашивая, не ведая, откуда он вернулся.
Румяное московское небо. Синий, весь в инее троллейбус. Закутанная в шарф краснощекая красавица. Московская в теплых ботах старушка. Облупленная церковь. Темный памятник с белой снежной подушкой на голове. Заиндевелая в узорах витрина, где мигает зеленая елочка. Он шел в толпе, толкаемый, незамеченный, любил этот московский люд, одинаковый во все времена, и казалось, где-то рядом, в переулке, семенит бабушка, несет кошелку с хлебом, и он сам со школьным портфельчиком скользит с разбега по черному длинному накату, догоняет товарища в растерзанном пальто и ушанке.
Он пришел на прием к министру. Тот встал из-за стола, прошагал к нему по паркету, крепко пожал руку и усадил за маленький столик, на котором, выточенная из драгоценных сплавов, стояла модель подводной лодки. Им принесли чай в хрустальных стаканах и серебряных подстаканниках. Министр выслушал его доклад о проведенной операции, о деталях штурма, о потерях и пленных.
– В Чехословакии мы действовали крупными силами и не встретили сопротивления. В Кабуле сопротивление могло быть огромным, кровь могла быть большой, но вы справились с очень трудной задачей, отделались малой кровью. Ваши действия были профессиональны и свидетельствуют о высокой степени выучки.
Зазвонил телефон, один из многих, белых, черных и красных, с государственными гербами на дисках. Министр встал, снял трубку, выслушал терпеливо рокочущую мембрану. Негромко ответил:
– Пусть они дойдут до Кандагара в место дислокации. Месяц перетерпят в палатках, а потом мы им построим городки, прорубим скважины, и будут по асфальту кататься.
Министр закончил разговор и вернулся за столик.
– Мы вынуждены были взять под контроль процесс в Афганистане. События развивались не в нашу пользу, грозили нашему южному флангу. Могли отрицательно сказаться на ситуации в республиках Средней Азии.
На стене кабинета висела огромная карта мира с голубыми океанами, желто-коричневыми горами и плоскогорьями, зелеными долинами великих рек. Легкий пар поднимался над хрустальными стаканами.
Министр, старый, усталый, испытавший огромную тяжесть государственных забот, непомерный груз обороны, угрюмое давление мировых соперников, двигавших по континентам сухопутные армии, толкавших в морях корабли и подводные лодки, подымавших в небо армады самолетов, – министр смотрел на Калмыкова слезящимися стариковскими глазами и говорил:
– Благодарю за службу. Отправляйтесь в отпуск, куда-нибудь в хорошее место, где есть баня, бассейн. Отдохните, отдышитесь. Я подписал вам наградной лист на высшую награду Родины. Еще раз спасибо за службу!
– Служу Советскому Союзу! – ответил Калмыков, вставая, вытягиваясь, чувствуя, как болит воспаленный прокушенный язык.
Министр проводил его до дубовых дверей, и вслед уже звонил телефон с государственным гербом на диске.
Бабушка, ее любовь, ее нежность, непрерывные хлопоты и заботы окружали его, как воздух и свет. Ее предприимчивость, страсть, разумение были опорой их маленького хрупкого мира, в который она вносила порядок, благополучие и добро.
Бабушкина любовь – вот что создало его, уберегло от множества бед и жестокостей, поместило в защитную, останавливающую зло оболочку, в которой созревала душа.
Сколько он ни помнил себя, куда бы ни увлекала его память, везде была бабушка, ее любимое лицо, ее умиленный голос: «Мальчик, мой милый мальчик!..»
Вот она тянет его санки по морозной солнечно-желтой улице. Трамвайные рельсы блестят. Солнце – как желток на обшарпанном старом фасаде. Бабушка замерзает, охает, тихо стонет, но везет его по бесснежным скрипучим булыжникам, вдоль блестящего рельса, и он за все ей так благодарен.
Вот она бинтует ему разрезанный палец. Дует на рану, приговаривает, охает, отвлекает от боли. Сквозь слезы, пугаясь крови, задыхаясь от ожога йодной капли, он видит ее близкую седую голову, ловкие хлопотливые руки, ему легче, спокойней, боль отступает.
Бабушка дремлет на клетчатом пледе в тени огромного дуба, в полупрозрачной тени, среди летающих разноцветных мушек. Он сторожит ее сон, зеленой веткой отгоняет насекомых, и у самой ее головы под краешком пледа – смятый синий цветочек.
Когда она умерла и он остался один, тот охранный покров, в который она его облекла, продолжал защищать от зла и несчастья. Меньше зла исходило от него к другим, меньше зла доставалось ему самому. Внезапно, в ночи, в пробуждении звучал ее голос: «Мальчик, мой милый мальчик!..» Она была здесь, рядом, он видел, любил ее чудное родное лицо.
Он лежал в темной комнате со смугло-золотистыми, проступавшими сквозь сумрак предметами.
За морозным окном на бульваре, наполняя разводы стекла цветным мерцанием, мигала елка, заиндевелая, в шарах и хлопушках, окруженная каруселью огней.
Все было так, как она, его желанная, говорила. Зима, чугунная решетка бульвара, снег на черных деревьях, ночная новогодняя ель. Все, как она обещала в те осенние неправдоподобные дни, когда на картинах музея в топоте, пляске мчался по траве хоровод, девочка балансировала на кожаном шаре, паслась вдалеке туманно-белая лошадь, и они пришли в ее дом, его поразил тонкий запах духов, исходящий от ее подушки, она говорила о чем-то чудесном, и он дремал, улыбался, чувствуя на груди ее губы.
Теперь он лежал в той же комнате, и ему казалось, что все это было не с ним – осенний хоровод, балерина на шаре, – а с кем-то другим, жившим прежде него, а он лишь слышал об этом от кого-то иного, исчезнувшего. Он же, недвижный, с окаменевшими мускулами, остановленной мыслью, неясно чувствовал, как скользят ее руки по его каменной недышащей груди, слушал, не понимая, ее причитания.
– Где же ты был все это время? Не написал, не позвонил!.. Что с тобой стало? Что они с тобой понаделали!..
Она наклонилась над ним, белея плечом, растирала ему грудь ладонями, вглядывалась в него. А он не понимал, не слушал ее. Он был, как статуя, твердый, недышащий, с окаменелым сердцем, свернувшейся кровью, остановившимся, как кристаллический лед, дыханием.
– Ты так внезапно уехал!.. Где ты был?… Ты видел что-то ужасное? Сделал что-то ужасное?… Но теперь ты будешь со мной? Я тебя отогрею, оживлю, только оставайся со мной!..
Горячая капля упала ему на грудь, как на холодную плиту. И там, где она упала, плоть его ожила, грудь задышала, и медленная волна вернувшейся жизни прокатилась по телу. В этой волне вернувшейся жизни зазвучали глубинные звуки, послышались гулы и рокоты, словно угрюмая музыка бездонных глубин. И в этой музыке, похожей на обвалы лавин, падение хребтов, хлюпанье потопов и ливней, возникали видения.
Ночной синеватый снег, ртутные вспышки прожектора, и солдат задевает за яблоню слегой от штурмовой лестницы.
Горит и дымится броня, из люка медленно возникает лицо, кровавое месиво, и в нем пузырится и дышит рот с обрывками губ.
Тусклый свод коридора, бегущий с автоматом солдат, и длинный разящий огонь впивается в руку солдата, отрывает ее и уносит.
Дубовые створки дверей, узорная рогатая ручка. Полуголый в дверях человек, и в его волосатую грудь, в жирные обвислые плечи впиваются острые очереди.
Плещет из канистры бензин. Бугры и комья под тканью. Зловонный чадный огонь, и в открывшейся сквозь ткань голове, из горящих глаз и ушей тонкое белое пламя.
Он лежит на спине, вспоминая, обреченный на жизнь и на память среди гулов и рокотов мира, где двигались материки, лопалась земная кора, выгибалось дно океанов. И над гибнущим миром, как последнее видение Вселенной, среди гаснущих звезд и светил, парил Дворец. Бело-желтый, стройный, окруженный лучами, в неземной красоте и величии.
Он тянулся на это видение. Женщина над ним рыдала.
1994 г.
СОН О КАБУЛЕ
роман
Часть первая
Глава первая
Генерал внешней разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев сидел среди зимнего солнца в московском домашнем кабинете. Смотрел на коллекцию бабочек, собранную им за годы поездок в джунгли, саванны и сельвы. Военные действия, бомбардировки, рейды диверсионных групп совершались среди несметного сонмища легкокрылых разноцветных существ, пропускавших сквозь себя пыльные колонны броневиков, утомленные цепи «командос», пикирующие вертолеты. Разведчик, охотник за знаниями, улучая мгновения, он становился охотником за крылатым восхитительным дивом. Выхватывал сачком из горячего африканского воздуха алую нимфалиду, слыша, как слабо шелестят ее крылья в прозрачной кисее. Мимо, по горчичной ядовитой пыли, проходил изможденный чернолицый отряд, и солдат-анголец с изумлением смотрел на ловца.
Отряды, с которыми он воевал в Америке, Африке, Азии, были давно разбиты. Операции, которые он разрабатывал, оказались бессмысленны. Режимы, которым он помогал, канули в вечность. Советская разведка вместе с огромной страной, казавшейся непобедимой и вечной, превратилась в пыль, в «бросовую агентуру», в гниющие остатки разложившихся бессильных структур, с которыми он не желал иметь дело. От великих доктрин и деяний, от прославленных армий и океанских флотов, от всесильной красной империи, которой он страстно служил, осталась огромная, во всю стену коллекция бабочек. Ряды застекленных коробок, в которых, как солдаты с тонкими остриями, маршировали бессчетные батальоны бабочек, каждая из которых была разноцветной страничкой его походного дневника. Тончайшими письменами на цветных чешуйках, среди серебристых прожилок, золотых и малиновых пятен были записаны боевые эпизоды, имена агентов, лица дипломатов и военных, многих из которых убили. Коллекция была огромной летописью прожитой жизни со множеством драгоценных узорных буквиц. Напоминала многоцветный лоскутный плащ, в который была укутана его жизнь.
Он смотрел на свое богатство. Останавливал зрачки на махаонах, сатирах, лунных сатурниях, и за каждой бабочкой открывался крохотный, расширяющийся ход в иное пространство и время. Он нырял в него, как в сказочный кипящий котел, погружал свое старое тело, выныривал молодым и свежим.
Он остановил свои бегающие, одурманенные чудесными зрелищами зрачки на песчано-серой, с острыми кромками нимфалиде, пойманной в южной Анголе, в партизанском лагере СВАПО. Второй экземпляр был наколот тут же, тыльной стороной наружу. Напоминал ритуальную маску бушменов, раскрашенную красными и синими глинами, соком зеленых растений, с наведенными белилами и пятнами угольной сажи. Серебристой металлической пудрой были нанесены магические знаки и символы. Орнамент крыльев был похож на татуировку воинов, которые с колчаном и стрелами, голые, на избитых ногах, выходили на обочины пыльных проселков. Смотрели трахомными глазами, как пробираются помятые джипы с солдатами, зенитная установка трясется в кузове пятнистой «тойоты», переваливается в колее уродливый, похожий на костяную черепаху броневик.
Он поймал этих бабочек в партизанском лагере, откуда уходили боевые группы в Намибию взрывать водоводы, ведущие к кимберлитовым трубкам, высоковольтные мачты, питающие кимберлитовые трубки. Расцветка и рисунок бабочки тайным образом воспроизводили песчаные цвета Калахари, подземное залегание руд, глубинные линзы воды. Бабочка была крохотным атласом Намибии, географической картой, нарисованной безымянным географом. Самолеты ЮАР, воющие, в блеске винтов, «импалы» и «канберры», бомбили лагерь. Гремели взрывы, с хрустом валились деревья, стреляли зенитки, кричал с оторванной рукой партизан. Белосельцев, падая в красный песок, видел, как в редких вершинах проносится штурмовик, сверкают стеклянно винты, трепещет огонек пулемета. Вблизи дымилась воронка, сочилась ядовитая химия взрыва. И на это зловонье, на отраву пироксилина, слетались бабочки. Падали в жаркую ямину, пропитанную дымом и смрадом. Пьянели от запахов, замирали, словно пронизывались радиацией, таинственным пьянящим наркозом. Белосельцев, слыша удалявшуюся стрельбу, склонился к воронке, к горячему дымному кратеру, из которого поднимались запахи древних земных составов, духи молодой горячей земли, сернистые испарения взрыва. Бабочки, сотворенные в первобытное время, в ранние дни творения, летели к воронкам, управляемые реликтовой памятью, вкушали сладость газов, воздух юной планеты. Он брал их руками, как крохотные, отлитые в тигле слитки.
Теперь в своем зимнем московском кабинете он смотрел на бабочку остекленелыми зрачками, запаянными в прозрачное остановившееся прошлое. Это галлюциногенное созерцание прекращало движение времени, прерывало неумолимый ход событий, увенчанных катастрофой, сделавшей бессмысленной его жизнь. Логика его поступков, бесчисленные разведывательные комбинации, неисчислимые траты были направлены на процветание Родины, на укрепление ее сил, становление могущества. На осмысленное служение великому и правому делу. Теперь же, после катастрофы, превратившей страну в руины, ее идеи и символы – в отребья, ее вождей и адептов – в жалкое скопище проигравших бездарей и бессовестных лихоимцев, все прежние его устремления, все повороты его судьбы и карьеры утратили смысл и вектор. Стали бессмысленным броуновским движением безвольной песчинки, толкаемой бессчетными, не имеющими объяснения столкновениями. В созерцании бабочек он был готов провести все оставшиеся, уже немногие годы, заслоняясь этим витражом от гнусного, не принадлежащего ему бытия, в котором ему, пенсионеру разведки, гарантировано прозябание, скудный, позволяющий выжить паек и множество нескончаемых пыток, стоит включить телевизор и увидеть в стеклянной колбе, среди синего веселящего газа, личины палачей и мучителей.
Каждая коробка с плотно размещенными бабочками напоминала всесвятскую икону, где тесно, рядами, застыло строгое недвижное толпище святых, пророков, крылатых ангелов, венценосных воинов, толкователей божественных истин, мучеников за веру, благодатных устроителей храмов. Их долгополые одежды, разноцветные плащи, их доспехи и рясы, их крылья, короны и нимбы кидали в ее зрачки тончайшие цветные лучи. Его созерцание бабочек было безмолвной молитвой к Творцу, создавшему всякую тварь, сотворявшему и разрушавшему царства, каравшему и награждавшему всякую душу. Душу его, Белосельцева. Бессловесно, не мыслью, а кристалликами глаз он вопрошал Творца, в чем его вина и ошибка. В чем его грех, повлекший за собой несчастья страны. Как, в служении чему надлежит провести последние недолгие дни, чтобы искупить этот грех. Но бабочки, укутавшись в плащи, облекшись в доспехи, молчали. Посылали в зрачок крохотные цветные лучи, словно в каждой, окруженной нимбом голове был помещен невидимый лазер, писал на сетчатке глаза неведомые письмена.
Он снова подвинул взгляд, пробегая среди драгоценных коробок, где каждая бабочка напоминала геральдику рыцарских родов и фамилий. Задержался на золотисто-медовой данаиде, с черным ожерельем пятен, с жемчужно-белой чередой похожих на капли вкраплений. И сладко, мучительно замер. От бабочки, от ее тонких пластин прянуло отражение минувших дней. Он почувствовал лицом дуновение слабого ветра. Он поймал данаиду в Джелалабаде, среди кустов благоухающих роз, в свой первый приезд в Афганистан. Ветер, что коснулся его лица, был душистым воздухом, наполнявшим райский сад, в котором, как ангел, летала прозрачная бабочка. Это воспоминание породило мгновенную цепь зрелищ и лиц, из которых, как из бестелесных молекул памяти, воссоздался мир, где он, молодой разведчик, обретал драгоценное знание. О Востоке. О войне. О смерти. О таинстве любви. О вероломстве. О бесценном загадочном даре, имя которому жизнь, куда на краткий миг, как в прозрачную пленку света, залетает из сумрака человечья душа. Пребывает в страстях, усладах и муках. Не успевает понять этот светлый дар, перед тем как вернуться во тьму.
Ему, изнуренному, ослабевшему во всех костях и суставах, с погасшим зрением, с омертвением чувств, вдруг захотелось, пусть перед смертью, на одно лишь мгновение, оказаться в том сухом, солнечно-желтом пространстве, под синевой азиатского неба. Пройти вдоль белесой глинобитной стены, по которой скользит его легкая тень. Вдохнуть сладкий дым горящей душистой сосны. Увидеть над дувалом висящую деревянную клетку с малой лазурной птичкой. Проследить скольжение шелковой паранджи, под которой вьется недоступное прелестное тело, мелькает маленькая смуглая пятка. На краю кишлака, где течет стеклянно-зеленый арык, увидеть вечерние горы, розовые, с голубым ледником. Горы Центральной Азии, от которых откатилась разгромленная империя русских.
Он смотрел на бабочку, на ее хрупкие песчано-желтые лепестки. Они сближались, как тончайшие клеммы, готовые замкнуть распавшееся время, вернуть ему звуки, цвета и запахи. Он чувствовал приближение бесшумной, набегавшей из прошлого волны, которая в момент, когда клеммы замкнулись, разразилась громким звонком телефона.
Он слушал настойчивый, неумолкавший звонок, страшась подойти, надеясь, что волна, вызванная его колдовством, отхлынет обратно в океан несуществующего прошлого, не брызнет ему в лицо. Но звонок грохотал, прошлое просачивалось в его одинокий дом сквозь ветхие оконные рамы, в щели дверей, в малую скважину, чуть прикрытую бабочкой. Одолевая предчувствия, он потянулся к трубке.
– Виктор Андреевич, друг ситный, живой аль нет?… Это твой закадычный!.. Чичагов!.. – Предчувствия его оправдались. Из прошлого – из гончарного Кабула, из бирюзового Джелалабада, из зелено-изразцового Герата, из красного Гордеза возник этот голос. Генерал Чичагов, действующий начальник разведки, с кем познакомились двадцать лет назад в февральских снегопадах Кабула, сквозь которые по Майванду мчалась машина, и зеленый минарет Пули-Хишти напоминал огромный чешуйчатый хвощ, – звонил Сергей Степанович Чичагов, материализованный его колдовскою мыслью.
– Не разбудил?… А то у пенсионеров, я знаю, первое дело после обеда на диванчик прилечь!
– Да нет, дневная бессонница…
– Знаешь, сижу сейчас в своей дребедени. И вдруг, понимаешь, мысль о тебе. О том, как мы с тобой куролесили. И тогда, в первый раз, во время хозарейского бунта, и позже, во время Панджшера, и во время операции «Магистраль», когда из-за тебя нас едва не прихлопнули… Думаю, дай позвоню. Дай проведаю старого друга!..
– Спасибо за звонок…
– Слушай, у меня есть прекрасная, вкуснейшая бутылка бордо!.. Прямо из Франции… Что, если я к тебе сейчас прикачу, посмотрю на твои благородные морщины, свои покажу, и мы, как два старых товарища, как два линялых камышовых кота, как два хрыча, наконец, разопьем бутылочку красного?…
– Прямо сейчас? – испугался Белосельцев, понимая, что в этом натиске бушует, надвигается вызванная из прошлого волна и она не сулит ему благоденствия, а неведомую угрозу. – У меня не убрано, хаос…
– Что, я холостяцких домов не видал?… Приберись, приготовь стаканы…
– Право, не знаю…
– Еду!.. – Короткий зуммер. Золотистая данаида в коллекции. Холодок опасности в самом центре его испугавшегося сердца.
Белосельцев неохотно, с раздражением убирался в квартире. Комкал, зашвыривал в шкаф разбросанную одежду. Запихивал на полки и в ящики недочитанные, забытые по углам книги. Сметал в совок скопившуюся на полу мохнатую пыль. Мыл на кухне винные рюмки. Готовил для кофе чашки. И думал с недоумением, с нарастающим раздражением, зачем он был потревожен в его одиночестве, в разноцветном тумане, сквозь который, как сквозь сладостно-ядовитый дым кальяна, пролетали бесшумные образы прожитой жизни.
Чичагов был мастер многоходовых комбинаций, в которые сложно, не ведая о замысле, вовлекались люди, совершая на разных отрезках интеллектуальной траектории каждый свое действо, затем исчезая, иногда бесследно. Лишь в последний момент в эту прихотливую извилистую линию вставлялся Чичаговым недостающий малый отрезок, замыкавший ее на конечный результат. Этой виртуозной способностью он пользовался в Афганистане, стравливая между собой мятежные племена, ссорил воинственных алчных вождей, сталкивал пуштунов с белуджами, таджиков с хазарейцами, добиваясь ослабления противника, по которому затем наносились удары правительственных войск. Слишком поздно недалекие главари моджахедов догадывались о лукавстве, когда над их головами проносились пятнистые эскадрильи вертолетов, разносили в прах мятежные кишлаки, потаенные горные базы.
Из нескольких белых яичек, отложенных в диссидентских кухнях, с невероятной скоростью размножились прожорливые черно-блестящие муравьи. Населили квартиры артистов, газетчиков, карьерных дипломатов и властных чиновников. В одночасье источили страну, казавшуюся стальной, превратили ее в трухлявый дырчатый пень. Перед зданием госбезопасности в лучах ночного прожектора накинули стальную петлю на шею чугунного тулова. Дзержинский закачался, как висельник, под стрелой японского крана. Множество офицеров разведки, наделенные штатным оружием, бронетехникой, спецчастями, молча глотали свой позор. В гранитное здание, управлявшее половиной земли, явился хлыщ, заявивший оперативному составу, что он видит свою роль в разрушении советской разведки и останется здесь до предельного ее ослабления. Тогда Белосельцев, вместе с группой генералов, добровольно ушел в отставку, не желая служить мерзавцам. Другая часть перекинулась на работу к банкирам, создавая им службу разведки, безопасности и подрывных операций. Чичагов остался в строю, послушный новым властям. Он был лучше тех, что ушли к банкирам. Ничем не запятнал себя в кровавые дни октября. Но был нелюбим Белосельцевым, который одичал и замкнулся, порвал все прежние связи, подолгу жил в деревне, высаживая на грядках цветы. Теперь настойчивый визитер вызывал у него неприязнь. Работая веником, сметая в совок черепки разбитой недавно чашки, Белосельцев готовил Чичагову несколько язвительных фраз. Продолжал тайно тревожиться по поводу причины визита.
Чичагов явился с мороза шумный, говорливый, с длинным покрасневшим носом, желтыми залысинами, редкими бесцветными волосами, которые он по привычке процеживал сквозь гребешок. Первые секунды своего появления, покуда раздевался в прихожей, шмыгал в платок, заглядывал в зеркало, он потратил на то, чтобы побольше наболтать, набормотать, налепетать незначительное, веселое, бестолковое, желая скрыть за этой мишурой зоркую настороженность, пытливую чуткость, чтобы исследовать, в каком состоянии пребывает хозяин, понять, насколько достижима поставленная им задача.
– Так что вот, как говорится, старый друг лучше новых двух!.. И я, понимаешь, свое бренное тело, и все такое, чтобы навестить опального товарища, Меньшикова в Березове!.. Ну и, конечно, так, ради собственного, как говорят, удовольствия, чтобы рюмочку бордо пропустить!.. – он передал Белосельцеву пакет с бутылкой и нарезанной, проперченной, смугло-красной бастурмой. Через несколько минут они сидели в кабинете среди янтарных солнечных пятен, мерцающих бабочек, держали рюмки, полные густого, почти черного, с рубиновыми искрами вина, и Чичагов говорил:
– Ну что, дружище, все теснее наш круг!.. Все меньше людей, к кому можно вот так прийти и знать, что будешь понят с первого слова!.. За те времена, когда мы встречались в твоем кабульском номере, и в посольской мраморной гостиной, и в офицерском модуле в Кандагаре, и в штабной палатке в Шинданте, и где только мы не встречались!.. За нас, дружище!..
Вино было чудесное, вяжуще-густое, терпкое. Губы, еще не прижимаясь к стеклу, чувствовали легчайшее жжение, словно их касалось незримое пламя. Белосельцев видел, как уменьшается вино в хрустальной рюмке Чичагова и поверх стеклянной кромки смотрят на него немигающие острые глаза, будто в каждый закатили блестящую дробинку. Ждал, когда эти дробинки вылетят и ударят.
– Как в конторе? – спросил Белосельцев, удивляясь вялости и формальности вопроса, который на самом деле не интересовал его. Он уже не чувствовал себя членом разведывательного сообщества, не чувствовал себя посвященным. Монашеский орден распался. Выродился в департамент бездельных малооплачиваемых чиновников, которые были не нужны государству, имитировали деятельность. Обрубив с ними связь, он испытывал драгоценность своего одиночества. Дал обет молчания, обет послушания, обрекавшего на отдельность и несвязанность с миром, когда становится возможным долгожданное общение с Тем, кто незримо управлял его жизнью, берег под пулями, спасал от крушений. Теперь, когда страсти покинули его изнуренное тело, он хотел проверить свою яркую, огромную жизнь, проведенную среди сражающихся континентов, – проверить ее заповедями священных текстов – Библии, Корана, Дхаммапады, Авесты, которые терпеливо, долгие годы, смотрели на него с книжной полки. Завтра он уедет в деревню и там, в последних снегопадах, подкладывая в печь тяжелые смоляные поленья, будет читать и думать. – Так что, бишь, в конторе творится?
– Сам знаешь, бессмыслица… Спецы, вроде тебя, ушли. Новички без царя в голове, не знают, кому служить, за что служить… Реорганизация за реорганизацией… Американцы и евреи лезут во все щели… Пропади оно все пропадом…
– Зачем же служишь? – Белосельцев почувствовал, что лицо его помимо воли обрело едкое, почти брезгливое выражение. Заслонился рюмкой, не желая, чтобы Чичагов его рассмотрел. Делал вид, что играет рубиновой искрой в вине.
– Но ведь кто-то должен отстаивать интересы матушки-России… Кто-то должен следить, чтобы последнее не растащили…
Чичагов производил впечатление теплого и мягкого снаружи. Это была теплота и мягкость неостывшего пепла, какой бывает на недогоревшем полене. Дунь на него – и полетит серый рыхлый сор, запорошит глаза, испачкает лицо и руки. Но под этим пеплом чувствовались несгоревшая сердцевина, глубинные твердые сучки, окаменелые волокна. В Чичагове еще оставался крепкий внутренний материал, способный превратиться в жар, в слепящий огонь. И эту способность Белосельцев воспринимал как опасность. В лысеющей редковолосой голове Чичагова зрели замыслы, и в этих замыслах было отведено место ему, Белосельцеву, пока неизвестно какое.