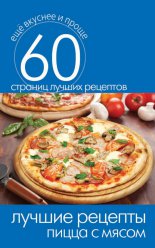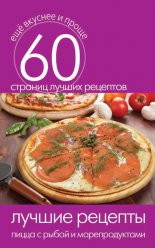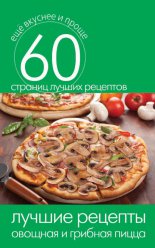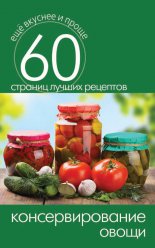Копи Царя Соломона. Сценарий романа Лорченков Владимир

–… но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, – говорит проповедник.
– Тогда все золото мира не искупило вины царевны-Пламени, – поет девочка по-цыгански.
–… не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, – говорит проповедник.
– И никто с тех пор из людей Закона не копал мать-землю, чтобы боль ей не причинить, – поет девочка.
–… ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, – говорит проповедник.
Резкий звук баяна, который собрали. Вагон вновь становится Прежним. Мы видим, что библейские лица молдавских крестьян – можно сказать библейские в том смысле, в каком видел библейское Босх, – прикреплены к телам, одетым в современные турецкие шмотки, проповедник что-то бубнит уже по-румынски, девочка поет похабщину, в общем, очарование мига исчезает. Наталья и Лоринков показаны как люди, очнувшиеся после долгого – и нехорошего – сна. Мы видим пейзаж из окна поезда – немытого, поэтому пейзаж расплылся, – и что Наталья, это молодая, в общем, девушка, которая слегка напугана.
– Я есть хочу, – жалобно говорит она.
– Здесь не советую, – говорит Лоринков, который держит в руках бутылку с пивом «Аурие», и пытается открыть ее о деревянное сидение.
– Я слышала, есть гамбургеры… – говорит Наталья.
Лоринков глядит на нее с жалостью, он выглядит, как интеллигентный человек, который знает, куда попал (в обиталище быдла, а не таких интеллигентных людей, как я, – прим. В. Л. Он сидит на кульке, старается не прикасаться спиной к спинке сидения, смотрит на окружающих в бесконечным презрением. Сейчас он молча глядит на Наталью, протягивает руку и резко тормозит торговку щелчком у ее лица. Протягивает торговке денег, берет двумя пальцами пакетик, протягивает Наталье. Та недоуменно разворачивает… Крупно – содержимое.
То, что находится в пакетике, безусловно, имеет отношение к гамбургеру. Но примерно столько же, сколько современный раввин Нью-Йорка с десятью детьми гражданами США и привычкой сидеть в интернете с призывами к евреям отдать своих чад в ЦАХАЛ на войну, – к древнему племени скотоводов и расистов, которое вырезало аборигенов Синайского полуострова.
То есть, общего у них – одно название.
Наталья недоуменно глядит на квадратный, почему-то, бутербродик из черного хлеба, с кольцом сырого лука, кусочком брынзы, и помидоркой, – внутри.
– Я не буду это есть, – сдавленным от злости голосом говорит она.
– Это, это, это… – волнуясь, говорит она.
– Нечестное информирование потребителя! – говорит она.
– Да ладно тебе, – говорит Лоринков, который охотно, в противоположность своему брезгливому виду, цапает самопровозглашенный «гамбургер» и проглатывает его в мгновение.
– Можно подумать, вы индейцев честно информировали, – говорит он.
–… когда этот, как его… где эта, как ее… Свобода… а! – говорит он.
–… когда вы Манхэттен у них купили, – говорит он.
– Манхэттен купили голландцы, – возражает Наталья.
Лоринков глядит на нее с доброй и дебильной улыбкой человека, который выпил в 11 часов утра. Мы совершенно очевидно видим, что ему глубоко безразличны как индейцы, так и те, кто купил у них Манхэттен, просто ему нравится подшучивать над идентичностью девушки. Внезапно Натали оглядывается. Мы понимаем причину ее удивления – поезд остановился.
– Уже приехали? – говорит она.
– Это первая остановка, – терпеливо, как дебилке, объясняет Лоринков.
– А приедем мы к ночи, – говорит он.
– Но… ты же говорил, сто километров? – хмурится девушка.
– Полотно старое, – говорит Лоринков.
– Полотно говно, поезда еле живые, да и страна разорена, – говорит он.
– Хищнические кредиты МФВ, Америка, которая мля пьет соки, – говорит он.
– Гнет стран третьего мира, ну и все такое, – говорит он.
Натали вздыхает.
…между рядов электрички появляется еще одна цыганка. У нее лицо постаревшего и спившегося Буратино, который не осознал меры своей удачи, недооценил ситуацию с приятелями по кукольному театру, и за очень короткий срок потерял все акции АО «Золотой город», и сейчас проводит время у ларьков, вспоминая, эх, каких Мальвин щупал. Еще у нее непропорционально большой зад, цепкий взгляд человека, который не простит соседу по коммуналке нового пальто, и короткие толстые ноги, на которых она стоит твердо, несмотря то, что вагон качает. В руках у женщины картонка. На ней написано:
«превед пабидитель районай алипьяды па рускаму изыку и патомствиный учитиль ана казлова просит да памажите мине чем можите патамушта дом сгарелбальница ни принимаит саседи ни памагают суки блядь пидарасы все»
– Это правда? – спрашивает Наталья Лоринкова тихонько.
– Конечно, – говорит тот, и смеется.
Несмотря на диссонанс между содержанием надписи и ее оформлением, крестьяне подают бомжихе мелочь, потому что не умеют читать. Сумасшедшая медленно и молча бредет по вагону, и останавливается у лавки, где сидят Лоринков и Наталья. Смотрит. Внезапно, с резкой злобой, – как могут только безумцы, – цыганка выкрикивает:
– Ты мля ничтожество, – кричит она Лоринкову на цыганском.
– Что ты мля оскал свой светишь?! – кричит она на цыганском.
– Карты мне всю правду открыли, – кричит она.
– Что смотришь! – кричит она, хотя Лоринков не смотрит.
– Денег ты моих хочешь, – кричит она.
– Денег тебе не видать! – кричит она.
Трясется, начинает выкрикивать отдельные слова, хрипит. Крупный план Натальи, девушка в ужасе. Лоринков, улыбаясь, открывает шестое пиво. У него не то, чтобы железные нервы, он просто не понимает по-цыгански. Сумасшедшая, сникнув так же резко, как впала в истерику, успокаивается и уходит. Наталья говорит:
– Что она говорила? – говорит она.
– Узнала мол, говорит, – говорит Лоринков.
– Книгу, мол, прочитала, на всю жизнь в душу запало ей, – говорит он.
– Великому человеку великие почести мол отдать хочу, – говорит он.
– Мол свечу им всем как Полярная звезда морякам, – говорит он.
– Переборщила, конечно, – говорит он скромно.
– Ну так у азиатов все без меры, – говорит он.
Наталья восхищенно смотрит на пассажиров электрички.
– Папа говорил мне, что в СССР очень читающая нация, – говорит она.
– Но вот чтобы нищие и пьяницы… – говорит она.
– А как же, – говорит Лоринков.
– И про потомственную учительницу тоже правда, – говорит он.
– СССР место такое, – говорит он.
– Здесь что ни бомж, так обязательно знаток литературы и представитель трудовой династии, – говорит он.
Открывает еще пиво. Наталья беспокоится.
– Вы сказали о том, куда мы едем, кому-то? – говорит она.
– Жене, девушке? – говорит она.
– У вас кстати есть жена или девушка?
– Может быть, бывшая? – говорит она.
– Это мое прайвеси, – говорит Лоринков, и берет у торговки еще одну бутылку пива.
– Я ваш работодатель и это имеет прямое отношение к нашему делу, – говорит она.
– Я имею право знать, – говорит она.
Лоринков смотрит на Наталью, потом на пиво. Пожимает плечами. Открывает бутылку зубами, – круглая крышечка – сразу же показаны круглые глаза Натальи, – катится под сидение, – делает гигантский глоток.
Крупно – кадык, который ходит.
Пена в бутылке.
***
Пена.
Отъезд камеры. Ванная, в которой лежит женщина лет 30, красивая, лицо умное, Породистое. Глаза зеленые, шея без морщин, грудь небольшая, правильной формы – мы видим, потому что вода под грудью, – изящные руки, длинные пальцы (страшная редкость в Молдавии – прим. В. Л. и розовые пятки, это все, что над поверхностью. Женщина глядит в потолок с кроткой улыбкой. Рядом с ванной на стуле сидит Лоринков, причем одет он вполне официально, на нем костюм.
–… улз, – говорит он.
– Но что в этом сраном англичанине такого, чего нет в… – говорит он.
(его слова перебиваются шумом горячей воды, которая течет под большим напором в ванную).
–… рация образа, о котором писал еще Мольер! – говорит он.
– Ну, конечно, не напрямую, но вполне ощутимо давал понять, – говорит он.
– По крайней мере, если верить Булгакову, который намекнул на это в своем «театральном рома…» – говорит он.
– Мы, само собой, помним и о Расине, – говорит он.
– А по мне так вся эта чушь и яйца выеденного не сто… – говорит он.
– Один Барнс чего сто… – говорит он.
– Впрочем, я, думаю, пишу уже не хуже Барн… – говорит он.
– Критики эти идиоты не понимают ни хре… – говорит он.
Слова и шум воды сливаются в один шум. Крупным планом – лицо женщины с терпеливой, кроткой улыбкой. Она улыбается как Будда, ее зеленые глаза сверкают, как пузыри пены, она хороша (чего уж там, за прототип взята моя жена, но я, конечно, против того, чтобы ее снимали обнаженной, пусть и в ванной – прим. В. Л.. Крупно ее глаза, крупно – переливающиеся, как драгоценные камни, пузыри пены.
Отъезд камеры, это пена, которая течет из крана в баре.
Гул посетителей, бармен с принужденно-вежливым видом глядит на Лоринкова, который стоит у стойки, низко наклонившись – набычившись прямо, – и говорит ему:
–… рация образа, о котором писал еще Мольер! – говорит он и расплачивается.
– Ну, конечно, не напрямую, но вполне ощутимо давал понять, – говорит он, и пьет.
– По крайней мере, если верить Булгакову, который намекнул на это в своем «Театральном рома…» – говорит он и показывает налить еще.
– Мы, само собой, помним и о Расине, – говорит он и бармен недоуменно улыбается.
– А по мне так вся эта чушь и яйца выеденного не сто… – говорит он, икнув.
– Один Барнс чего сто… – говорит он, и опрокидывает стопочку.
– Впрочем. Я, думаю, пишу уже не хуже Барн… – говорит он, запив пивом.
– Критики эти идиотские не понимают ни хре… – говорит он.
Крупно – глаза бармена, огни бара, сливаются в цветное пятно.
Крупно лицо Лоринкова, который говорит в камеру (только лицо) с полуприкрытыми глазами:
–… а-э-ация обэээаза, о котоооом пиаааал ееээ Мольеэээ, – мычит он.
– Ну, конеэээо, не напааааямуэээ, но вполнэээ ощмо дээээал пэээать, – говорит он.
Лоринков выглядит, как киноактер Хабенский, который пришел в дом Кати Боярской в фильме «Ирония судьбы-2», только, в отличие от актера Хабенского, Лоринков действительно пьян, и действительно талантлив. Он говорит… (дальнейшее тоже так звучит, просто для удобства даю в читаемой транскрипции – В. Л.).
– По крайней мере, если верить Булгакову, который намекнул на это в своем «Театральном рома…» – говорит он.
– Мы, само собой, помним и о Расине, – говорит он.
– А по мне так вся эта чушь и яйца выеденного не сто… – говорит он.
– Один Барнс чего сто… – говорит он.
– Впрочем, я, думаю, пишу уже не хуже Барн… – говорит он.
– Критики эти идиотские не понимают ни хре… – говорит он.
Цветные огни перестают быть, наконец, одним целым.
Лоринков моргает, глубоко дышит, в общем, приходит в себя. Перед ним – кабинет полиции, где сидят человек восемь, и весело смеются, слушая несвязный бред пьяницы. Желтый свет в коридорах ментовки. Лестница с облупившейся краской.
Камера поднимается – это уже подъезд Лоринкова. Тот, пошатываясь, и неровно дыша – одышка – поднимается по лестнице. Играет великая песня дерьмовой группы «Пилот», – как и все русское, она очень противоречива, – «И все шире улыбки в местной ментовке». Лоринков останавливается на лестничной клетке, что-то бормочет. На какое-то мгновение мы слышим, что он говорит.
– Впрочем, я, думаю, пишу уже не хуже Барн… – бормочет он.
Камера поднимается по ступеням вверх, ее шатает, она обессиленно приваливается к перилам, потом застывает у двери с номером «14» (просто мое любимое число – В. Л. и мы видим дрожащую руку с ключом, другая рука., которая берет ту, что с ключом, за запястье и благодаря этому ключ попадет к замочную скважину. Это напоминает сценку в исполнении актера Райкина-старшего, который в свободное от изучения Торы и празднования Хануки время рассказывал совкам-недотепам о бюрократах и пьяницах, которые мешают нам построить коммунизм к 80—му году. Естественно, Лоринков выглядит намного симпатичней, ведь он, в отличие от шута Райкина, сполна платит за то, что делает.
Дверь распахивается, и дальше камера идет вперед, как в фильме «Брат-2» (там где Бодров с лицом застенчивого второгодника идет по бункеру и расстреливает сотрудников запрещенной порно-индустрии). Внизу – куча обуви, женской, мужской. Справа – толчок – дверь открывается – ванная, пустая, пена, вода.
Слева – комната, постель, смятая, одеяла…
Разворот – коридор, дверь, толчок – комната со столиком, шампанское, дымится сигарета…
(у зрителя должно создаться впечатление, что мы сейчас будем присутствовать при сцене «ревнивый муж возвращается домой и находит жену в объятиях любовника» – прим. В. Л.
…снова коридор, дверь распахивается, еще одна комната, тоже все вещи разбросаны…
Лицо Лоринкова в поту крупно.
Отъезд камеры.
Лицо Лоринкова в поту, он уже довольный, потому что у его ног – пять бутылок из-под пива. Он застыл в той же позе, в какой мы его видели перед короткой ретроспективой: запрокинута голова, бутылка в руках. То есть, понимаем мы, вся эта ретроспектива пронеслась лишь перед его глазами, он ничего не сказал Наталье. Лоринков допивает пиво, и ставит бутылку на пол вагона. Говорит:
– Я разведен, мы не общаемся, – говорит он.
– О, сорри, – говорит Наталья.
– Ничего, – говорит он.
– Понимаешь… – говорит он…
Мы понимаем, что его желание поговорить напрямую связано с количеством потребленного алкоголя, потому что он поднимает руку, подзывая торговку пивом. Ретроспектива быстро-быстро проматывается – то есть, он уже рассказывает все это, – после чего камера замирает снова перед ванной, открывается дверь. В ванной женщина с красивыми зелеными глазами целуется с не менее красивой женщиной с русыми волосами… или это шатенка… из-за пара не очень видно… (ну ладно, ладно, если честно, это была блондинка, хоть мне и неприятно все это вспоминать – В. Л.). Они поворачиваются к двери – причем продолжают целоваться, – и некоторое время смотрят на нас.
Хлопок двери. Темнота, яркий свет подъезда… Отъезд от лампы – это уже зажглись лампы в вагоне, потому что вечереет. Лоринков и Наталья разговаривают вполголоса (показано, что кто-то спит из пассажиров).
– У нее был другой секс-идентити, – говорит Наталья, с жалостью глядя на Лоринкова.
– Примерно так, – говорит он.
– Шлюха она последняя! – говорит он ожесточенно.
Получается у него энергично, но малоубедительно, мы понимаем, что воспоминание об этой сцене надолго останется в коллекции эротических переживаний писателя (да и зрителя – В. Л.).
Поезд останавливается. Крупно буквы —
«CALARAS»
По коридору бежит деловитый молдаванчик в спецовке и кричит:
– Дальше поезд не идет, поломка полотна, – кричит он.
– Что он говорит? – говорит Наталья.
– Дальше поезд не едет, поломка полотна, – говорит Лоринков.
Внезапно до него доходит. Он переглядывается с Натальей.
За окном – ночь и редкая россыпь огней.
***
Ярко-желтый свет. Камера отъезжает, мы видим, что это солнце. Оно беспощадно слепит, камера показывает, что щурится не только зритель, но и двое агентов, Натан и Иеремия. Крупно показан пейзаж, он словно игрушечный, кукольные овечки пасутся на ярко-зеленых холмах, земля расчерчена полями, огородами, садами (не могу не процитировать выдающегося молдавского писателя В. Лорченкова – «Молдавия из-за расчертивших ее холмов и садов была похожа на лоскутное одеяло» – прим. В. Л.)… Сверху планирует какая-то хищная птица. Иеремия глядит на нее, и мы видим, что у него тоже очень многого с хищной птицей. Характерный нос – уж точно. Агенты едут в машине, мы видим дорогу их глазами, очень похоже на приморский пейзаж Средиземноморского побережья Франции, только сбоку от серпантина нет моря. Мы попадаем в салон машины как раз в самый разгар спора агентов.
– Как же так, Натан?! – возмущенно говорит Иеремия.
– Как ты можешь служить в Моссаде и говорить такие ужасные, отвратительные вещ… – говорит он.
– Да мне по фигу, – лениво говорит Натан, который глядит на солнце с закрытыми глазами (ведет Иеремия).
– Вся эта патриотическая жвачка… – говорит он.
– Натан, ты же не станешь отрицать, что мы окружены кольцом врагов? – говорит Иеремия.
– Не стану, – спокойно говорит Натан.
– Ну и что с того? – говорит он.
– По мне так, что футбольный клуб, что флаг, государство, честь, мля, совесть, – говорит он.
Иеремия шумно выдыхает. Жестикулирует, несмотря на то, что он за рулем. Говорит с таким видом, как будто выдвигает последний аргумент (так и есть – прим. В. Л.).
– Ты же не станешь отрицать, Натан, что евреи это нация, давшая миру сотни гениев? – говорит он.
– Нет, не стану… – лениво говорит Натан и добавляет, когда Иеремия, было, успокаивается, – как и все другие.
– Но ты же не станешь спорить с тем, что мы дали миру Больше всего гениев, что мы Особенные? – говорит Иеремия.
– Ты говоришь как фашисты, – говорит с улыбкой Натан.
– Те тоже считали нас не такими как все, – напоминает он.
– Только за эти особенности они давали нам не Нобелевскую премию по физике, а лагерь, – говорит он.
– Нет уж, спасибо, – говорит он.
– Я лучше буду, как все, – говорит он.
Все это время Иеремия покачивает головой с удивленной улыбкой. Он очень похож на участника движения «Наши», который к 27 годам узнал, что Дмитрий Донской, оказывается, был данником хана Тохтамыша, а Мамай был узурпатором, которого Донскому велели разгромить монголы. Еще он похож на молодого армянского интеллектуала, узнавшего, что дашнаки – оказывается! – грабили банки. Он даже реагирует так же – беспомощно и глупо, с ненужным пафосом.
– Невероятно! – восклицает он.
– Натан Щаранский! – говорит он, подняв палец.
– Царь Соломон! – говорит он.
– Эйнштейн! – восклицает он.
Натан, улыбнувшись, высовывает язык (тем самым он пародирует известную фотографию Энштейна, на которой тот изображен с высунутым языком, но, как и всякому расовому патриоту, Иеремии этот культурный отсыл непонятен, ему кажется, что над ним подсмеиваются – прим. В. Л.).
– И даже этот, который придумал таблицу… – продолжает Иеремия.
– Как его… – говорит он.
– А, Менделеев! – восклицает
– Ну а тот-то каким боком? – спрашивает Натан.
– Он был портным, и фамилия его была Мендель, – говорит Иеремия.
– До пятидесяти лет, – говорит он.
– А чтобы царское правительство разрешило ему заниматься химией, – говорит Иеремия.
–… он фамилию на Менделеев и поменял, – говорит Иеремия.
– Иеремия, – говорит Натан.
– Ты, срань несчастная, что несешь? – говорит он.
– Как человек, который был 50 лет портным, – говорит он.
–… мог после 50 сделать открытие в сфере высшей химии? – говорит он.
– Ну, всякое бывает, – говорит неуверенно Иеремия.
– Ну так попробуй! – восклицает Натан.
– Тебе же всего 38, – говорит он.
– Ты, по идее, можешь и в астрономии еще что-то открыть, и в ядерной мля физике! – говорит он.
– И тебе даже фамилию менять не придется! – восклицает он.
Иеремия молчит, глядит на дорогу. Видно, что он и сам понял, что с Менделеевым несколько погорячился.
– Зато Энштейн… – буркает он.
– Иеремия, – говорит Натан, потеряв терпение.
– Я прикончил на этой службе с полторы тысячи человек, и это не считая службы в армии, – говорит он.
– По заданию правительства государства Израиль я еду в любую точку мира, и лишаю там жизни людей, – говорит он.
– При этом я рискую своей, – говорит он.
– Тридцать лет ездил, и еще столько же буду, – говорит он.
– Натан, я понимаю что ты тоже заслу… – говорит Иеремия.
– Ты думаешь, я не патриот? – перебивает Натан.
– Нет, конечно, я вовсе ничего так… – говорит Иеремия.
– Я не патриот, – спокойно говорит Натан.
– Как ты мо… – говорит Иеремия.
– Маца, стане плача, хреняча, Иерусалим Шмусалим, Тора Хренёра? – говорит Натан.
– Да ИМЕЛ я все это, – говорит он.
– Но я жизнь трачу на то, чтобы такие вот сопляки, как ты, могли болтать об этом, – говорит он.
– Потому что Израиль это не ритуальный подсвечник, который вы можете в задницу себе засунуть, хасиды гребанные, – говорит он.
– Страна это люди, – говорит он.
– Моя жена, например, – говорит он.
– И вот за то, чтобы она носила мини-юбки на этой своей пышной еврейской сраке, – говорит Натан.
– Ната… – говорит Иеремия.
– И чтобы она свободно могла купить противозачаточные таблетки и не залететь от очередного своего любовника, пока я в командировке, – говорит Натан.
– На… – говорит Иеремия.
– Я и буду биться с мировым исламизмом на совесть, – говорит Натан.