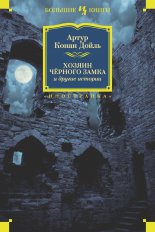Обри Бердслей Стерджис Мэттью

Посвящается Ребекке
Автопортрет (1896)
Вступление
Обри Бердслей прожил очень короткую жизнь. По замечанию Оскара Уайльда, в котором больше поэтической истины, чем ботанической точности, он умер «в возрасте цветка», однако это был цветок, расцветший в полную силу. Жизнь Бердслея во многих ее ипостасях достигла зенита. Он получил признание как самый одаренный мастер рисунка своего поколения и создал много необычайно оригинальных и глубоких работ. С детства страдавший туберкулезом, Обри знал, что ему отпущен недолгий срок. Это знание не заставило его раньше времени сложить руки на груди и не наполнило негодованием: оно толкало его вперед. Он сгорал в этом пламени с особым блеском и энергией.
Гений Бердслея проявился внезапно, почти как удар молнии, и остался с ним. Эскиз его карьеры – от ранних обещаний, первых достижений и полной уверенности до осознанной усложненности, пренебрежения коммерческими интересами и мастерства поздних работ – перекликается с судьбой многих художников, проживших втрое дольше его. Мы говорим – эскиз, потому что все это «уместилось» меньше чем в шесть лет профессиональной деятельности.
Любимые материалы Обри Бердслея – бумага, чернила и карандаш. Его лучшие работы выполнены в черно-белой гамме, и реакции на них такие же контрастные. Он слышал восторженные похвалы и ядовитую хулу. Это касалось не только работы, но и самой личности Бердслея. Сухопарый, щеголеватый, изможденный болезнью, он зеркально отражал порочные, но элегантные формы своего искусства. Эта поразительная связь постоянно обсуждалась в прессе и безоговорочно принималась публикой, поднимавшей его на тот уровень славы (или бесславия), который обычно отводился на небосклоне искусства для звезд популярного жанра. На короткий момент в конце 90-х годов XIX века могло показаться, что Бердслей воплощает в себе дух fin de sicle[1].
Хотя сначала признание получили его черно-белые иллюстрации, гений Бердслея этим не ограничивался. Он был одним из первых британских художников, осознавшим и расширившим возможности оформления афиш и плакатов. Обри написал три поэмы, которые заслуживают того, чтобы войти в антологии поздней викторианской поэзии, а барочной игривостью своей незавершенной новеллы «История Венеры и Тангейзера, или Под холмом» он внес новое звучание в английскую прозу.
Конечно, далеко не последним из произведений Обри Бердслея являлся он сам – мастер позы, во всем интуитивно элегантный. Искусственность была для него естественной. Хроника жизни Бердслея должна учитывать и разделять все это и признавать, что он надевал маски не для того, чтобы скрыть свою личность, а для того, чтобы проявить ее в полной мере. Обри Бердслей был художником во всем.
Мэттью Стерджис
Глава I
Семейные тайны и предания
Обри Винсент Бердслей родился в Брайтоне 21 августа 1872 года. Впоследствии утверждалось, что его гороскоп выявил странную конфигурацию Луны, управляющей воображением, и Урана – планеты эксцентриков, но в то время такое расположение небесных тел осталось незамеченным. Ни одно знамение не предвещало будущей славы мальчика. После родов у матери Обри сразу началась горячка, и младенца отдали на попечение домочадцев [1].
Семья была большой. Родители Обри Винсент и Элен Бердслей вместе с его годовалой сестрой Мэйбл жили в семейном доме Элен на Бэкингем-роуд, 12, – в трехэтажном здании, стоявшем на перекрестке. Дом был просторным и хорошо оборудованным. Он принадлежал отцу Элен, военному хирургу Уильяму Питту, который к тому времени вышел в отставку, хотя по возрасту еще мог служить. Кроме Уильяма и его жены Сьюзен, матери Элен, на Бэкингем-роуд жили и ее незамужние сестры – 29-летняя Мэри и 21-летняя Флоренс. Самой Элен минуло 26 лет. В доме была постоянно проживающая горничная, мастерица на все руки, и приходящая прислуга, впоследствии помогавшая Элен с ребенком [2].
Первые недели жизни Обри провел окруженный заботливыми женщинами, под присмотром опытного врача – своего деда. Трудно судить, какое место в этом сонме внимательных взрослых занимал его отец, Винсент Бердслей. Историю его взаимоотношений с Питтами нельзя назвать простой.
Питты были солидной и уважаемой семьей в Брайтоне. Томас Бест Питт, отец Уильяма (ок. 1784–1844), был известным врачом в городе, ставшем знаменитым курортом [3].
Уильям пошел по стопам отца – тоже выбрал профессию врача. В 22 года он уже стал членом Королевской коллегии хирургов, а в 1839 году получил сертификат младшего хирурга. Вскоре после этого он отбыл в Индию – британскую колонию. Там можно было сделать блестящую карьеру.
В июле 1841 года Уильям Питт женился на Сьюзен Лэмб, дочери плантатора, выходца из Шотландии. Свадебная церемония прошла в церкви Святого Фомы в Дакке – нынешней столице Бангладеш. Брак имел благоприятные перспективы. Лэмбы являлись могущественной семьей, тесно связанной родственными узами: Джорджина, сестра Сьюзен, вышла замуж за своего кузена Джорджа Генри Лэмба, отец которого, Джордж Генри-старший, уже был полковым хирургом и ждал назначения на должность главы медицинской службы колониальных войск. Он одобрил союз своей племянницы и Уильяма Питта и стал свидетелем на церемонии бракосочетания. Джордж Лэмб предполагал, что 24-летний младший хирург будет его надежным союзником.
У молодой четы родились дети: в 1843 году – Мэри, в 1846-м – Элен Агнус [4]. В июне 1849 года семья вернулась в Европу – Уильяму Питту полагался продолжительный отпуск. Некоторое время они провели во Франции, там в декабре 1850 года родилась третья дочь – Флоренс, потом жили в Англии. Отпуск закончился в марте 1853 года, и Питты вернулись на Восток. Сразу после прибытия в Индию Уильям стал участником Бирманской кампании, принял участие в захвате Рангуна. По окончании конфликта он получил звание старшего хирурга. Маловероятно, что Сьюзен Питт с тремя дочерьми последовала за полком мужа. Возможно, они жили на семейных плантациях Лэмбов в Берхампуре, в Северо-Западной Бенгалии [5].
После короткого отдыха и очередного двухлетнего отпуска, на сей раз проведенного в Кейптауне, Питты вернулись в Индию. Шел 1857 год… В стране началось восстание сипаев. Уильям Питт участвовал в боевых действиях и получил медаль за отвагу. Возможно, ужасы кровавого мятежа заставили Уильяма пересмотреть свое отношение к жизни. В марте 1858 года он покинул Индию. В феврале 1859-го ему было присвоено звание полкового хирурга, а в мае он вышел в отставку и стал получать пенсию – 147 фунтов стерлингов в год.
Вернувшись в Европу, Питты поселились на Джерси, где царила англо-французская атмосфера, ведь остров находится в проливе Ла-Манш, но является владением британской короны. В 1864 году семья переехала домой – в Брайтон. Сначала отставной военный хирург, его жена и три подросшие дочери поселились на Лэнсдаун-сквер, 2, рядом с незамужней старшей сестрой Уильяма, которая жила в соседнем доме. В 1867 году они переехали на Клифтон-плейс, 9, а три года спустя окончательно обосновались на Бэкингем-роуд, 12 [6].
Дочери Питтов стали звездами светской жизни Брайтона, но все сходились во мнении, что ярче всех сияла Элен. Она была высокой, изящной и привлекательной. В Элен чувствовалась порода. В то же время девушка была тщеславна и не чужда внешним эффектам – она часто входила в гостиную одна, уже после того как ее сестры откликались на призыв родителей. На светских раутах мужчины часто подходили к бойкой Элен, оставляя без внимания женщин, «прекрасных» в традиционном понимании. Она слыла вольнолюбивой девушкой и даже проказницей. Однажды Элен притворилась глухонемой, чтобы в заполненной людьми церкви сесть на скамью в первом ряду, предназначенную для важных лиц.
Она была талантлива, особенно в музыке, и играла на фортепиано с мастерством, превышающим любительский уровень. Другим большим увлечением Элен оказались проповди. Как говорили в то время, она была их «дегустатором» и приходила в любую церковь, где ожидалось выступление хорошего проповедника. Безусловно, Брайтон подходил для этого как нельзя лучше – во второй половине XIX века город являлся одним из центров возрождения англокатолической церкви.
Выдающимся ее представителем был брайтонский прелат преподобный Артур Дуглас Вагнер. Он на собственные средства построил пять церквей и собрал вокруг себя из университетов умных и способных молодых людей, ставших его викариями. Артур Вагнер хотел возродить старинные церковные обычаи, культ Пресвятой Девы Марии, таинство исповеди и ежедневную мессу. Он также стремился заново утвердить культурное влияние Церкви, пригласив для воплощения в жизнь своих строительных проектов талантливых архитекторов – Дж. Ф. Бодли и Эдмунда Скотта и заказав витражи и алтарные образы Эдварду Берн-Джонсу, Уильяму Моррису и другим художникам из братства прерафаэлитов.
Такие новшества навлекли на Вагнера гнев протестантов, которые ошибочно приняли их за шаг на пути к римскому католицизму и признанию папской власти. Последовали нападения на клириков, осквернение алтарей и враждебные объявления о «ежедневной опере» в церквях, где проводились евхаристии. Артур Вагнер предстал перед королевской комиссией, учрежденной для исследования принципов и обрядов так называемых ритуалистов. Вполне возможно, что такие драматические события прибавили Элен желания почаще ходить в храм. Она была ревностной прихожанкой церкви Святого Павла на Вест-стрит, где проводил службы отец Вагнер, а несколько его викариев стали друзьями ее родителей [7].
Элен гордилась положением в обществе своей семьи. В семейной истории было многое, что можно было поставить Питтам в заслугу: служба в колониях империи, блестящая карьера отца, известная фамилия, право принадлежности к высшему кругу. В то время, когда правила королева Виктория, все это давало огромные преимущества. Да, семья Питт имела высокий общественный статус, но у них, как у всех, были свои скелеты в шкафу. В свидетельстве о рождении Сьюзен Питт, выданном в 1825 году в Дакке, она названа незаконнорожденной дочерью Александра Лэмба без упоминания имени матери. В таких случаях, далеко не редких в Индии середины XIX века, безымянная мать почти всегда оказывалась туземной служанкой. Стало быть, нельзя исключить, что Сьюзен Питт была не только незаконнорожденным ребенком, но и полукровкой [8].
Уильям Питт, вероятно, знал историю своей жены и принял ее как факт. В колониях подобные ситуации были распространенными, а кроме того, профессиональные выгоды от брака со Сьюзен Лэмб перевешивали многие недостатки, имевшиеся на самом деле или воображаемые. Тем не менее детей в эту историю, конечно, не посвятили. Элен не знала, что в ее жилах течет четверть индийской крови, и, уж конечно, Обри не догадывался, что на одну восьмую является бенгальцем.
Труднее было скрыть другое обстоятельство, угрожавшее благополучию семьи Питт, – долги Уильяма. Его материальное положение было очень сложным. Безусловно, он много занимал у Джорджа Лэмба и его сына Джорджа Генри-младшего. После смерти Лэмба-старшего в его завещании обнаружился красноречивый пункт о том, что любая сумма, которую мистер Уильям Питт, хирург Бенгальской медицинской службы, мог задолжать ему, должна быть получена у него и передана в личное и отдельное пользование его супруге Сьюзен Питт, то есть племяннице самого Лэмба. Дальше следовала запись, что при исполнении означенного условия данная сумма не будет считаться долгом или личными средствами вышеупомянутого господина. Судя по размеру налога на наследство, сия сумма превышала 1000 фунтов.
Более того, в 1865 году, когда Уильям Питт получил право на повышение пенсии от Бенгальского фонда для отставных военных врачей, он был обязан переводить эту ежегодную ренту в размере 300 фунтов в собственность Джорджа Генри Лэмба. Установить точную причину сих финансовых маневров невозможно, но можно предположить, хотя у нас и нет свидетельств банкротства Питта, что он явно пребывал в состоянии продолжительного материального кризиса [9].
Ничто не может заставить английскую семью, занимающую определенное положение в обществе, твердо отстаивать свой статус больше, чем призрак бесчестья. Уильям Питт, скрывавший как не стопроцентно голубую кровь своей жены, так и собственные финансовые затруднения, научил дочерей гордиться своим привилегированным положением и улыбаться далеко не всем молодым людям.
Конечно, родители Элен и она сама знали о положении Винсента Бердслея, которое многим представлялось неоднозначным. Впоследствии Элен говорила о своем браке как о некоем мезальянсе – обреченном союзе между высокими помыслами и низменной торговлей, но летом 1870 года на это все предпочли закрыть глаза. Когда Винсент Бердслей познакомился с Элен Питт, его главным украшением были роскошные усы, а достоинством – небольшой, но стабильный доход. С виду он был джентльменом, но за внешним лоском скрывалась тщательно маскируемая неотесанность.
Отец Винсента действительно занимался торговлей – он имел магазин в Клеркенуэлле. Бердслей-старший, умерший от чахотки в 1845 году, когда его единственному сыну исполнилось всего пять лет, торговал ювелирными украшениями. Сара Энн, мать Винсента, через два года вышла замуж второй раз, за молодого хирурга Уильяма Лэйта. Нам почти ничего не известно о детстве Винсента, кроме того что он имел слабое здоровье. По данным переписи 1851 года, 11-летний Винсент не жил в доме своей матери и доктора Лэйта или в доме отца Сары Энн Дэвида Беньона. Возможно, мальчика отправили поправлять здоровье и учиться в загородную школу. Дед, уроженец Уэльса, торговавший недвижимостью в северном Лондоне, щедро его обеспечил – по завещанию Беньона Винсент унаследовал немалую часть его состояния. Дед, умерший в 1859 году, оставил 19-летнему внуку 350 фунтов, четвертую часть своего поместья стоимостью более 12 000 фунтов и права на дом на Бернард-стрит рядом с Рассел-сквер. Завещание включало интересное условие – согласно ему, Винсент не должен был вмешиваться в дела поместья своего покойного отца. Этот пункт явно был направлен на предотвращение судебных споров, хотя у нас нет доказательств вздорного характера Винсента либо того, что у него были напряженные отношения с матерью или тремя другими наследниками первой очереди[2].
Деньги и недвижимость, указанные в завещании Беньона, обеспечили Винсенту приличный доход. В права наследования он вступил, достигнув совершеннолетия, – в 21 год. Могло ли у него возникнуть искушение промотать свой капитал? Нам это неизвестно, но в течение 10 лет о жизни Винсента нет никаких исторических записей. В 70-е годы XIX столетия данные о нем появились снова. В то время он несколько раз посещал Брайтон – возможно, в поисках развлечений, а может быть, для того чтобы подлечиться. На старом причале Чейн Винсент Бердслей увидел стройную жизнерадостную 24-летнюю Элен Питт. Там они и познакомились [10].
Этикет в викторианском обществе был строго регламентирован, и попытка завязать знакомство в общественном месте без формального представления рассматривалась как вопиющее нарушение приличий. Однако Винсент Бердслей был самоуверенным и обаятельным 20-летним мужчиной, а Элен Питт отличалась своеволием и упрямством, что способствовало тому, что у нее уже была репутация девушки с неординарным характером (некоторые даже предполагали, что инициатором их знакомства стал отнюдь не Винсент Бердслей). Словом, они начали тайно встречаться в саду Королевского павильона[3].
Брайтон был небольшим городом, местом для отдыха, и слухи здесь распространялись очень быстро. Элен Питт играла не последнюю скрипку в жизни брайтонского общества, и разговоры о ее шокирующем поведении вскоре стали известны родителям. Неудивительно, что первое появление Винсента Бердслея в доме № 12 на Бэкингем-роуд было воспринято настороженно, но он сумел расположить к себе отца Элен, убедил его в своих добрых чувствах и надежности в качестве будущего зятя. Возможно также, что врачебное прошлое его приемного отца сослужило Винсенту хорошую службу, а может быть, на родителей Элен произвел впечатление его доход.
Вскоре последовало объявление о помолвке, а 12 октября 1870 года в церкви Святого Николая Элен Питт и Винсент Бердслей обвенчались. Погода была плохой: с Ла-Манша шел шторм, поэтому новобрачные и гости не смогли войти в церковь через главный вход – им пришлось воспользоваться укрытой от шквалистого ветра дверью ризницы с другой стороны храма. Возникает искушение прибегнуть к метафорам, но разногласия молодой семьи Бердслей имели скорее патетический, чем бурный характер. Первое из них не заставило себя долго ждать.
Еще до того как закончился медовый месяц, Винсент Бердслей получил судебный иск – некая вдова вменяла ему в вину нарушенное обещание. Она утверждала, что Бердслей собирался жениться на ней. В конце XIX века такие обращения поступали в суды часто, причем подчас они являлись происками бессовестных авантюристок, но от этого подобные иски не становились менее досадными. Уильям Питт потребовал, чтобы зять решил этот вопрос, пока дело не дошло до судебных слушаний.
Трудно представить себе менее благоприятное начало семейной жизни: Винсент разом утратил доверие жены, уважение ее родных и потерял часть средств для собственного безбедного существования. Чтобы откупиться от вдовы, ему пришлось продать часть своей собственности на Юстон-роуд [11]. Став не столь финансово благополучным, как раньше, он вошел в семью Элен, и новобрачным, потерявшим возможность жить в своем доме, пришлось поселиться под родительской крышей. Можно представить, с какими чувствами Питты приняли в семью зятя и какие аргументы он находил, чтобы оправдаться [12].
Конечно, в жизни были и светлые моменты. Таким стало рождение 24 августа 1871 года дочери Мэйбл. Что касается менее значимых радостей, то Элен очень радовалась своему триумфу на главном светском мероприятии в феврале 1872 года в Брайтоне – костюмированном балу. Она появилась там в синей бархатной блузе, белой шелковой юбке, белых шароварах и такой же феске и вызвала общее восхищение. Винсент надеть маскарадный костюм не решился, но Элен вспоминала, как он с гордостью и удовольствием кружил ее по залу. Несмотря на такие сиюминутные удовольствия, в целом жизнь Винсента Бердслея оставалась довольно унылой.
Есть упоминания о том, что вначале он принимал участие в домашних расходах, но вскоре даже эти прозаичные траты стали ему не по карману. В августе 1872 года, через несколько недель после рождения Обри, Винсента постигла новая беда, и он потерял остатки своего состояния. Это совпало с тем, что Элен, оправившись от родильной горячки, стала уделять внимание сыну [13].
Какая бы эмоциональная напряженность ни существовала между родителями Обри и между его отцом и Питтами, дом на Бэкингем-роуд по-прежнему оставался семейным гнездом. Финансовый фундамент, на котором он покоился, мог быть не очень прочным, но все-таки в семье были определенная стабильность и материальное благополучие.
Сьюзен и ее дочери любили искусство в традиционном, домашнем смысле этого слова. Уильям Питт был человеком с ограниченным воображением, но о его супруге и дочках этого сказать нельзя. Их способности имели материальное воплощение. Стены гостиной украшали картины Сьюзен, а акварели Элен и ее старшей сестры хранились в семейном альбоме, который с удовольствием смотрели гости. И разумеется, все женщины увлекались музыкой.
Элен всегда с удовольствием играла на фортепиано, Обри, как вскоре всем стало ясно, был ее восторженным слушателем. Еще до своего первого дня рождения он подползал к инструменту и устраивался рядом с матерью, когда она собиралась играть. Спустя много лет Элен с материнской гордостью, на которую нужно делать определенную скидку, вспоминала, что Обри встряхивал свою погремушку точно в такт музыке, а когда она попыталась сбить его с толку и перешла с четырех на шесть тактов, малыш тоже изменил темп [14].
Труднее оказалось приспособиться к изменениям темпа жизни на Бэкингем-роуд. Винсенту, лишившемуся состояния, нужно было искать занятие, и найти его можно было в Лондоне, а уж никак не в Брайтоне. Для человека тридцати с лишним лет, не имеющего предыдущего опыта, к тому же слабого здоровьем, возможности вступить в какое-либо дело были крайне ограниченными. Тем не менее в начале 1874 года Винсент получил должность секретаря в телеграфной компании Западной Индии и Панамы, а через несколько месяцев ему предложили более высокооплачиваемую работу. Он привез Элен, Мэйбл и Обри в Лондон. Семья стала снимать жилье на Ланкастер-роуд, 90, в Нотинг-хилле. Их соседями оказались Генри Рассел, звезда мюзиклов, и его молодая подруга[4] [15].
На следующие 20 лет жребием Бердслеев вместе с необходимостью компромиссов, отсутствием постоянства и недостатком уединения стала жизнь в съемных домах. Элен и Винсент всегда помнили о том, как они жили раньше, и чувствовали вину перед детьми за то, как семья живет сейчас. Мэйбл и Обри остро ощущали их постоянное беспокойство и тоску по прежним дням. Впрочем, уехав из Брайтона, они не полностью потеряли связь с близкими людьми. В Лондоне жили Лэмбы, родственники Элен. В 70-е годы XIX столетия Джордж Генри Лэмб и его жена Джорджина (сестра Сьюзен Питт) вместе с пятью детьми вернулись в Англию и поселились на Колвилл-гарденс, 13, совсем недалеко от Ланкастер-роуд. Один из сыновей Лэмбов, Генри Александер, возможно, помог Винсенту получить работу. Также неподалеку, на Эддисон-виллас, 1, жил Дэвид Уайт Лэмб – двоюродный дядя Элен, имевший большие связи в обществе.
Питты недолго оставались в Брайтоне – не прошло и года после отъезда Элен и Винсента с детьми, как они тоже уехали. Чем было вызвано такое решение – финансовыми обстоятельствами, чувством одиночества или чем-либо другим, неизвестно. Уильям и Сьюзен Питт поселились в Ислингтоне, прожили там пять лет (1875–1880), а потом уехали из страны. Младшая сестра Элен Флоренс в марте 1876 года вышла замуж за Мориса Шенкеля, сына владельца отеля в Вене. Старшая сестра, Мэри Питт, возможно, жила вместе с ней.
Элен и Винсент старались приспособиться к новым обстоятельствам. Винсенту было легче. Он вернулся в свой родной город, избавился от недовольства старших Питтов и устроился на работу. Хотя Винсент редко выходил из тени, можно предположить, что он пытался играть роль строгого отца семейства. В воспоминаниях Элен есть замечание, что он наказывал обоих детей, если они плохо себя вели.
Между тем разочарование в супружеской жизни усилило склонность Элен к театральности. Действительность становилась все более суровой и тусклой, но она старалась этого не замечать. А главное – нельзя было, чтобы это заметили окружающие. Элен всячески подчеркивала свое благородное происхождение и стала представлять себя жертвой неравного брака. С годами этот сценарий все расширялся и обрастал подробностями. Элен искала убежище в сентиментальном искусстве, но истинной ее страстью стали дети – она пыталась передать им свои устремления, надежды и амбиции. Элен сделала ставку на дочь и на сына [16].
Несмотря на стесненные материальные обстоятельства семьи, она твердо придерживалась мнения, что духовная жизнь имеет первостепенное значение. В доме на Ланкастер-роуд почти всегда звучала музыка: Генри Рассел был блестящим музыкантом и написал сотни популярных песен, в том числе «Веселее, друзья, веселее» и «Жизнь на волне океана». Его гражданская жена Эмма Рональд оказалась замечательной пианисткой. Элен наслаждалась такой атмосферой, и Обри она тоже радовала. Впервые попав на симфонический концерт, четырехлетний Обри внимательно слушал и явно получал удовольствие от музыки. Элен учила его играть на фортепиано, и вскоре Обри уже превосходно исполнял этюды Шопена. Мэйбл тоже училась. Элен каждый вечер исполняла для детей шесть музыкальных фрагментов. Она сделала маленький альбом с программами, чтобы они не слишком часто слышали одну и ту же вещь и учились знать и ценить лучшую музыку. «Я не позволяла им слушать всякую ерунду», – говорила впоследствии Элен Бердслей.
Такое же презрение к «ерунде» определяло выбор книг для ее детей. Мэйбл много читала. В очень юном возрасте она «усвоила» Диккенса и Скотта, а в шесть лет почувствовала в себе силы «подвести черту под Карлейлем». Обри тоже рано стал проявлять интерес к книгам и, по семейному преданию, научился читать путем «впитывания», без всяких усилий или учителей. Неизвестно, какой была его первая книга. Элен, несомненно, подталкивала сына к Диккенсу, если не к тому же Карлейлю, с самого раннего возраста.
Конечно, находилось время для традиционных детских удовольствий, и здесь Обри повезло: последняя треть XIX века была прекрасным временем для иллюстрированных детских книг. Предприимчивые издатели внедряли новые технологии, а сочетание появившихся эстетических доктрин и разнообразных талантов – авторов и художников – дало замечательные результаты. Свидетельство тому – детские стихи Рэндольфа Колдекотта, ежегодные альманахи Кейт Гринуэй, «Книги игрушек» Уолтера Крейна. Обри был восхищен волшебным миром четких линий и ярких цветов. Правда, понимания у матери это не находило. Элен стремилась расширить кругозор дочери и сына с помощью музыки и литературы, а графическое искусство ее не слишком интересовало.
Безусловно, она многое сделала для того, чтобы ее дети (особенно Обри) рано почувствовали свою особую одаренность и научились гордиться этим. В семейной истории сохранилось несколько преданий на данную тему. Когда родители привели шестилетнего Обри на службу в Вестминстерское аббатство, он сильно заинтересовался многочисленными скульптурами. Мальчик попросил рассказать ему о человеке, статуя которого оказалась рядом с их скамьей, а потом объяснить сюжет на одном из витражей. Возвращаясь домой со службы, Обри спросил, будет ли после его смерти создан его собственный бюст или витраж о событиях из его жизни. При этом он якобы добавил: «Когда-нибудь я стану великим человеком». Мать спросила, что ему больше хочется иметь. Обри задумался, а потом выбрал бюст, объяснив сие тем, что он ведь красивый мальчик [17].
Посещение Вестминстера он запомнил надолго, но это была лишь незначительная часть семейной традиции походов в церковь. Элен отнюдь не утратила энтузиазм к «дегустации» проповедей, и Лондон предоставил ей для этого богатые возможности. Она на время утратила симпатию к англокатолической церкви и поддалась очарованию преподобного Тэйна Дэвидсона из пресвитерианского храма на Колбрук-роу в Ислингтоне. Вполне вероятно, что в середине 70-х годов семья переехала в Ислингтон, ведь Уильям Питт с женой жили на Вестборн-роуд. Вероятно, священник из церкви на Колбрук-роу временно стал «главным советником» Элен в духовных, если не в практических делах. Шотландец Дэвидсон был одним из самых знаменитых проповедников той эпохи. Прихожане заполняли не только его церковь, но и зал сельскохозяйственной академии на Аппер-стрит, где преподобный тоже обращался к пастве с проповедями. Любимой темой Тэйна Дэвидсона были опасные соблазны современного города для молодых людей. Обри в то время, конечно, был слишком мал для того, чтобы проявлять интерес к этой теме. Соблазнов он не избежит потом…
Родителей между тем стало беспокоить здоровье сына. Обри был хрупким ребенком, бледным и болезненным. Мать любила сравнивать его с дрезденской фарфоровой статуэткой… Она вспоминала, как однажды, будучи еще совсем малышом, Обри поднимался по лестнице, опираясь на ветку, подобранную на улице, хотя этот случай, скорее, отражал склонность мальчика к драматическим эффектам, чем указывал на физическую немощь. Он чуть ли не с первых дней жизни находился под опекой сестры, которая была очень ненамного старше. Обри и Мэйбл все время проводили вместе. Элен была вынуждена давать частные уроки музыки и преподавать французский язык. Конечно, вечерами она уделяла внимание детям, учила их, но тем не менее они часто оставались совершенно одни. Впоследствии Элен не раз горько сетовала на то, что в эти годы ее сын и дочь были вынуждены вести «одинокую жизнь на съемной квартире» [18].
Обри и Мэйбл практически не общались с другими детьми своего возраста. Это привело к тому, что у обоих появились манеры, свойственные взрослым людям. Одиночество вдвоем сближало брата и сестру, укрепляя их взаимное доверие и увлекая в царство воображения. Однако воображение могло предложить лишь уход от действительности… Оно не давало настоящей защиты от скуки и недостатка общения со сверстниками.
Летом 1879 года, вскоре после того, как ему исполнилось семь лет, Обри заболел. Он отказывался от еды, кашлял… Появились признаки лихорадочного состояния. Врач, приложивший стетоскоп к груди мальчика, определил слабый, но зловещий шум при дыхании и поставил диагноз: туберкулез.
Приговор был страшным, но не смертным. Эта болезнь была распространена во всех слоях общества, но те, кто имел деньги, располагали большими возможностями бороться с ней. Хорошее питание, свежий воздух и собственные ресурсы организма со временем могли справиться с незначительным повреждением легочной ткани. Возбудитель болезни, микобактерия туберкулеза, был открыт лишь в 1882 году, но значение данного открытия и его медицинские последствия оказались осмыслены далеко не сразу. Люди долго продолжали верить, что туберкулез имеет наследственную природу.
Надо полагать, что диагноз Обри не улучшил отношения Винсента и Элен – в ее семье сразу вспомнили, что его отец умер от этой болезни. Врач, сомневавшийся в пользе лондонской жизни для Обри, предложил отправить его за город. Мальчика решили отдать в Хэмилтон-лодж, небольшую подготовительную школу-пансион недалеко от Брайтона. Элен была знакома с мисс Барнетт, которая управляла этим учебным заведением вместе со своей тетей, мисс Уайз.
Неизвестно, кто оплачивал содержание Обри, но к 1879 году Бердслеи оказались в жалкой роли бедных родственников – получателей хитроумно замаскированной милостыни от родителей, дядюшек, тетушек и даже друзей семьи. К ним проявила интерес леди Генриетта Пэлем, пожилая незамужняя сестра графа Чичестера – одного из самых видных аристократов Западного Сассекса. Она встречалась с Элен и Винсентом в Брайтоне и поддерживала с ними связь в Лондоне, где имела дом на Честер-сквер. В пансионе леди Пэлем оплачивала музыкальные уроки Обри [19].
Перенесшийся из одинокой лондонской жизни в шумную компанию сверстников среди сассекских холмов, Обри быстро окреп. Тревога, что его будут дразнить, оказалась необоснованной. Судя по его письмам домой, в Хэмилтон-лодж его все радовало. Обри не тосковал по родным, хотя подозрение в том, что это могло быть вызвано скукой его домашней жизни, опровергается тоном и содержанием писем: он часто спрашивал, как поживают не только мать и сестра, но и отец. То обстоятельство, что Винсент сохранял свое место в центре семейной жизни, доказывают книжная закладка со словом «любовь», которую Обри послал ему («потому что я люблю тебя», – объяснил мальчик в сопроводительной записке) и открытка на День святого Валентина, которую Винсент отправил сыну.
В пансионе насчитывалось около 25 учеников в возрасте от 7 до 12 лет, а школьный режим был щадящим. Занятия не занимали много времени. Единственные книги, о которых упоминает Обри, – это «Путешествия» капитана Кука и сочинение об английских и французских кораблях, которое читала детям мисс Уайз. Зато было много увлекательных экскурсий – на местную «выставку» (облагороженный базар), в парк Дэнни, в особняк Елизаветинской эпохи, на Уолстонбери-хилл, в расположенный неподалеку китайский сад и в Брайтон. Еще мальчика очень радовали походы в цирк. Хотя учителя знали о слабом здоровье Обри Бердслея, никаких упоминаний о его болезнях не сохранилось. Он активно занимался школьными делами, в том числе «строевой ходьбой» на лужайке, ежедневно гулял со школьной собакой по кличке Фидо и участвовал в экскурсиях. Ничто не отличало его от остальных учеников.
С игрой на фортепиано дело обстояло сложнее. Несмотря на заявления Элен о необыкновенной любви сына к музыке, Обри признавался, что своим медленным прогрессом на этом направлении доводил учительницу мисс Барнетт почти до белого каления. Ощущая постоянную поддержку (если не сказать, давление) из дома, он улучшил свои навыки и к концу первого класса обирался принять участие в школьном концерте, посвященном окончанию учебного года.
Если судить по его письмам, Обри был активным, но ничем не выдающимся семилетним мальчиком. Его интересы – пирожные, дрессированные слоны, фейерверки, морские приключения, карманные деньги и состояние собственного игрушечного паровоза – вполне традиционны, за исключением некоторой дымки эстетической и драматической чувствительности, появившейся уже тогда. Элен описывала характер сына в детстве как мягкий, нежный и немного капризный, и эти черты присутствуют в его заботливых вопросах о сестре и восхищении слонами в цирке. Впрочем, Элен отметила и более резкие нотки, увидев в сыне собственное тщеславие и желание производить впечатление в любой компании, в которой он оказывался.
В школе эти качества приводили к определенным противоречиям: то, что производило впечатление на учителей и родителей, часто вызывало негативные эмоции у его одноклассников. Обри хотел сиять на обоих небосклонах. Его энергичное участие в жизни школы обеспечивало одобрение учителей, но он также старался заработать хорошую репутацию у сверстников, демонстрируя свое озорство и стоицизм (когда мисс Барнетт была вынуждена наказать его за какой-то проступок, Обри приложил все силы к тому, чтобы не заплакать).
С раннего возраста Обри усвоил неоднозначное отношение к тем, кто облечен какой-либо властью. Он признавал чужой авторитет и часто искал одобрения у старших, но в то же время ему доставляло удовольствие досаждать им и даже высмеивать их. В детстве Обри неоднократно наказывали за своевольные шалости – не только учителя, но и родители, а некоторые друзья семьи, с радостью приглашавшие куда-либо Мэйбл, отказывались звать ее брата, потому что от него одни неприятности. Когда ему этого хотелось, Обри знал, как произвести впечатление на взрослых и порадовать их. Впрочем, выбор средств для этого у него пока был сильно ограничен. Любое проявление эксцентричного характера скорее являлось наигранным, чем реальным, и осуществлялось при попустительстве, если не молчаливом согласии или даже прямом участии матери. К примеру, узнав о концерте, она прислала Обри сонату для фортепиано, в то время как мисс Барнетт предложила ему несложный музыкальный фрагмент [20].
В Хэмилтон-лодж Обри начал проявлять интерес к рисованию. Сначала мальчик пытался копировать соборы, но потом обратился к своему воображению и создал произведение, любопытным образом предвосхитившее многие важные темы его работ, сделанных впоследствии. Одним из первых успехов на этом поприще стала картина под названием «Карнавал» – длинная процессия гротескных фигур, которую Бердслей подарил своему деду.
В Хэмилтон-лодж Обри пробыл недолго – всего четыре года. Возможно, за жизнерадостным тоном писем и частыми заверениями в полном благополучии скрывалось ухудшение здоровья, а может быть, плата за обучение стала обременительной для того, кто ее вносил… Так или иначе, Элен, по ее словам, была вынуждена вернуть сына домой. В 1880 году семья жила в Пимлико, в доме № 57 на Денби-стрит[5]. Из этого района они так и не смогли никогда уехать [21].
Пимлико – невзрачный район Лондона – расположен между двумя совсем другими мирами: величественным Вестминстером и живописным Челси. В 80-е годы XIX столетия его не отличали ни историческая атмосфера, ни блеск новизны, свойственные Пимлико сегодня. Район был застроен в середине века Томасом Кьюбиттом, выбравшим пустоши вокруг Темзы как будущий жилой пригород для среднего класса. Это своеобразный противовес его более раннему аристократическому кварталу – Белгравии.
Если Белгравия архитектурно разнообразна, то Пимлико был спланирован предельно просто. По утомительно длинным улицам здесь с жутковатым однообразием тянутся оштукатуренные фасады. Дома, в основном четырех– или пятиэтажные, закрывают любой вид на город или на реку, что способствует созданию замкнутого пространства и какой-то недоброй атмосферы. Кроме того, замысел Кьюбитта оказался лишь отчасти успешным. В 70-е годы район мог похвастаться несколькими респектабельными кварталами и даже скромными площадями с рядами деревьев, но длинные шеренги сомкнутых домов с одинаковыми фасадами указывали на то, что Пимлико стал вотчиной меблированных квартир [22].
Ради будущего детей, в первую очередь Обри, Элен пыталась бороться с судьбой. Здоровье ее сына по-прежнему оставляло желать лучшего, а лондонский смог его улучшению совсем не способствовал. В начале 1882 года Элен решила отвезти обоих детей в Эпсом. Они два года снимали там жилье у миссис Энн Кларк на Эшли-виллас, 2. Винсент предположительно отправился вместе с ними и стал ездить за 15 миль на работу в Лондон (поезд из Эпсома останавливался в Воксхолле, где он теперь заведовал лондонским отделением пивоварни Кроули). Есть и другая версия – он остался в столице и приезжал к семье на выходные. Винсент уже переместился на обочину семейной жизни, и переезд в Эпсом еще больше отдалил его от детей, которые, в свою очередь, предельно сблизились с матерью.
Элен жила жизнью сына и дочери. Она каждый день ходила с ними гулять, чтобы Обри мог окрепнуть. Мать продолжала учить их. Обри и Мэйбл предстояло погрузиться в великий океан культуры – это были уроки игры на фортепиано, вечерняя музыкальная программа, рекомендуемое чтение, рисование и переписывание важных цитат. С учетом того, что художественный дар Элен имел скорее интерпретаторскую, чем творческую природу, неудивительно, что она рассматривала искусство как нечто полезное для успеха в обществе, а не предназначенное для личного удовольствия. Было недостаточно, что Мэйбл читала Диккенса, – она должна была научиться цитировать его. Элен обучала свою 10-летнюю дочь этому типично викторианскому навыку, хотя их уроки часто прерывались, когда учительница и ученица проливали слезы над особенно патетичными фразами мастера драматических сантиментов [23].
Правда, коронный номер Мэйбл был скорее комичным, чем возвышенным. По воспоминаниям Элен, она читала сцену катания на коньках из «Записок Пиквикского клуба» чрезвычайно потешно и могла приводить цитаты из этой книги два часа подряд. Разумеется, выбор произведения был произвольным, но не стояло ли за ним тайное желание Элен? Драматическим стержнем книги является обвинение в нарушении обещания, выдвинутое против мистера Пиквика некой вдовой. Нетрудно представить дискомфорт Винсента и желчное удовлетворение Элен, когда они слушали, как их дочь пересказывает мрачную сцену суда и принципиальную, хотя и глупую линию защиты мистера Пиквика.
Обри отреагировал на Диккенса по-своему. Он любил рисовать, хотя его стиль еще не сложился, а способности не проявились в полной мере. Мальчик сделал иллюстрации для романа «Барнеби Радж» – нарисовал гостиницы «Мэйпол» и «Бут». Иногда Обри опирался только на собственное воображение, но к своим техническим погрешностям относился придирчиво. Это было характерно для его творческого темперамента. Обри стремился получить похвалу за превосходно сделанную работу и понял, что может добиваться более хороших результатов, копируя иллюстрации из других книг, вместо того чтобы рисовать неуклюжие фигурки, рожденные его фантазией. Одной из причин желания создавать законченные работы стало то обстоятельство, что уже в девять лет он работал на заказ. Хотя публичное признание того, что ее сын талантлив, получило одобрение Элен, это в большей степени было данью бедственному положению семьи, чем признанием его неординарных способностей.
Финансовые проблемы Бердслеев продолжали беспокоить их родственников и друзей, особенно с тех пор, как Элен перестала давать частные уроки, посвятив себя детям. По-видимому, существовал некий благожелательный сговор с целью скрытых пожертвований в виде заказа и оплаты рисунков Обри. Несколько таких рисунков купила леди Пэлем. Целый ряд карточек с изображением персонажей Диккенса, указывающих на место за столом, был заказан для некоего бракосочетания. Поступали и другие предложения. За год Обри заработал около 30 фунтов, что было значительной суммой.
Эти детские рисунки, безусловно, обладают определенным очарованием, почти утрачиваемым в репродукциях, и говорят об аккуратности и прилежании: внимание к деталям неудивительно для мальчика, одним дедом которого был хирург, а вторым ювелир[6]. Но главное, эти рисунки стали первым настоящим достижением, которое принесло Обри моральное и материальное вознаграждение – признание и деньги. Он был представлен ограниченному кругу людей как рисовальщик, но рисование никогда не считалось для него главным. По решению Элен, на первом месте стояла музыка. Под ее руководством Обри и Мэйбл стали хорошими пианистами. Они играли и соло, и дуэты, и Обри даже начал сочинять музыку [24].
После пребывания в Эпсоме Обри окреп, и 1883 году семья вернулась в Лондон. Друзья, готовые помочь им, вскоре стали приглашать одаренных детей музицировать на званых вечерах. Элен высокопарно назвала это приобщением к светской жизни, а сам Обри впоследствии удивлял друзей небрежными упоминаниями о своем детстве, когда его считали музыкальным вундеркиндом. На самом деле таких выступлений было немного. Элен Бердслей, написавшая в 20-е годы прошлого столетия мемуары, часто упоминала о Мэйбл, игравшей на фортепиано и читавшей наизусть в гостиных, но смогла привести лишь два примера публичных выступлений Обри: в гостях у леди Дерби, где он играл соло и дуэты с сестрой, и на концерте в церкви. Место проведения концерта не указано, но это вполне могла быть церковь Святого Павла в Найтсбридже. Элен часто удовлетворяла свой интерес к хорошим проповедям и красивой обстановке в этом храме в Уилтон-плейс, а один из местных викариев, Роберт Эйтон, примерно в то же время стал близким другом Обри [25].
Вспоминая эти два случая, Элен утверждала, что Обри очень стеснялся и не любил выступать на бис. В девять лет мальчики действительно бывают застенчивыми. Присутствие более уверенной старшей сестры могло помочь ему справиться с волнением, но в нежелании Обри выступать перед публикой могла быть и нотка привередливости. На этих светских раутах в Белгравии и на Сент-Джеймс-сквер он вполне мог ощущать атмосферу благожелательной снисходительности. Такое же отношение стояло за заказом столовых карточек, но рисование – это работа, где художник может чувствовать себя защищенным от зрителей.
Несмотря на «публичные и светские» успехи Обри и Мэйбл, семье было тяжело жить в Лондоне. В 1884 году Винсент потерял работу на пивоварне Кроули. Правда, он получил отличные рекомендации, но в 44 года найти новое место было трудно. Элен заболела. Перед лицом этого двойного кризиса на помощь снова пришли родственники: Обри и Мэйбл отправились жить к двоюродной бабушке в Брайтон.
Сара Питт, старшая сестра Уильяма, своей семьи не имела. В отличие от брата, она умело распоряжалась деньгами. Свой капитал – 3000 фунтов – мисс Питт вложила в облигации и жила на проценты с них. В 1884 году 70-летняя Сара переехала с Лэндсоун-сквер. Она поселилась в трехэтажном доме на Лоуэр-рок-гарденс, 21, недалеко от набережной. Здесь же стали жить Мэйбл и Обри [26].
Глава II
Счастливые школьные дни
«Химик» – карикатура на Э. Дж. Маршалла, директора школы, где учился Бердслей (ок. 1887)
Возможно негодуя на то, что никто другой не пришел ей на помощь, Элен Бердслей в своих мемуарах охарактеризовала мисс Питт как «странную старую тетку» и критически отнеслась к ее «своеобразному представлению о детях», включавшему презрение к любым игрушкам и твердую веру в принцип «рано ложиться, рано вставать». Кроме того, Элен жаловалась, что в доме практически не имелось книг.
Но стоило ли удивляться, что дом 70-летней старой девы не был приспособлен для жизни детей? Не следует удивляться и тому, что Сара Питт не могла соперничать с «высокоодаренной» Элен Бердслей в поощрении творческих порывов и наставлениях относительно музыки, литературы и рисования. Сильные стороны мисс Питт заключались в другом. По крайней мере, судя по ее завещанию, она была щедрой, предусмотрительной и независимой женщиной, презиравшей то, что делалось напоказ. Она оставила отдельное наследство своим замужним племянницам, оговорив их право распоряжаться полученными деньгами независимо от супругов, и пожелала быть скромно похороненной на любом ближайшем кладбище.
Бесспорно, двумя самыми очевидными слабостями Элен были высокомерие и склонность к драматическим эффектам. Это могло привести к определенным трениям между ней и Сарой Питт. Скорее всего, на Сару не произвели впечатления восторженные рассказы Элен о блестящих способностях ее детей. По ее мнению, они были самыми обыкновенными, и мисс Питт находила удовольствие в том, чтобы указывать матери на недостатки в их образовании. Впрочем, Сара любила своих внучатых племянников, а они, судя по всему, отвечали ей взаимностью. После съемных квартир в Пимлико и Эпсоме дом в Лоуэр-рок-гарденс вернул Обри и Мэйбл утраченный мир традиционного буржуазного комфорта [1].
Из домашнего обихода ушла напряженность, и режим, предложенный мисс Питт, пошел детям на пользу. Сначала они не ходили в школу – учились дома. Обри углубился в чтение «Краткой истории английского народа» Дж. Р. Грина – единственной книги в доме, согласно утверждению Элен, и, как всегда, побуждаемый желанием превращать новые знания в собственные истории, начал составлять хронику испанской Непобедимой армады. Он писал баллады, сочинял ноктюрны, рисовал картины. Рискнем предположить, что в доме были и другие книги, кроме «Истории» Грина, поскольку именно там Обри создал свою первую упоминавшуюся в воспоминаниях (ныне утраченную) серию иллюстраций – рисунки к готической фантазии «Ворчун из Реймса» преподобного Р. Г. Бархэма. У нас нет причин сомневаться в утверждении мисс Питт, что Обри и его сестра, пока жили у нее, были счастливы, как птицы [2].
Одним из главных детских удовольствий, которое она одобряла всей душой, стали посещения церкви, но, повзрослев, Обри часто говорил, что в детстве он однажды проснулся среди ночи и увидел большое распятие с окровавленным Христом, упавшее со стены над каминной полкой. Этот образ ярко запечатлелся в его памяти.
Обри и Мэйбл предпочли не ближайшие церкви, а храм Благовещения на Вашингтон-стрит высоко на гряде Саут-даунс, примерно в миле от Лоуэр-рок-гарденс. Это была простая церковь в бедном районе, недавно застроенном двухэтажными домиками, примыкавшими друг к другу чуть ли не вплотную. Впрочем, храм отличали мастерские штрихи: боковые приделы, росписи с изображением религиозных сцен и три прекрасных витража. Центральный был создан Данте Габриэлем Россетти, а два боковых со сценами Благовещения – Эдвардом Берн-Джонсом.
Несмотря на простой вид церкви и ее прихожан, религиозные обряды здесь проходили довольно пышно. Местный священник, отец Джордж Чапмен, был болен туберкулезом… Возможно, это способствовало формированию тесной связи между ним и Обри. Священник стал для него близким человеком. С собственным отцом такой близости не было, и неудивительно, что Обри неосознанно постарался восполнить этот пробел. Еще менее удивительно, что под влиянием матери он делал это в церкви. Однако здоровье отца Джорджа быстро ухудшалось, и служил он все реже и реже. Церковь, конечно, продолжала действовать под надзором его викариев, а Обри с сестрой ходили на Вашингтон-стрит так же часто, как раньше.
В этом храме была особая энергетика. Отзывчивость и истовая вера отца Джорджа привлекали многих людей, но его приверженность старым обрядам и любовь к «римским» деталям (он носил биретту – головной убор католических священников) пробуждали недовольство в епархии. По мнению других священников, все это находилось в одном шаге от истинного католицизма. Конечно, сие было далеко от истины. Англокатолическая община поддерживала притязания англиканской церкви на апостольское служение, отдельное от Рима, представители ее «обрядового» крыла стремились лишь восстановить уважение к старинным литургическим традициям, существовавшим в Англии. Да, англокатолические приверженцы ритуалов и римские католики имели много общих внешних черт сходства. С учетом будущих событий, стоит заметить, что дество Обри было наполнено запахом ладана, он легко и непринужденно чувствовал себя в обществе священников, привык ходить на исповедь и почитал Деву Марию [3].
Сомнительно, что Сара Питт с ее прагматичными взглядами на собственные похороны разделяла энтузиазм Обри и Мэйбл относительно посещений церкви Благовещения, но, судя по всему, она им не препятствовала. Если мисс Питт и беспокоилась о чем-то, то скорее об одиночестве своих подопечных, об их изоляции от сверстников, фрагментарности их образования и эксцентричном поведении, опять-таки вызванном уединенным образом жизни. Кстати, когда Элен почувствовала себя здоровой настолько, чтобы вернуть своих детей, мисс Питт посоветовала ей оставить Обри в Брайтоне и найти для него постоянную школу, пообещав ее оплачивать.
В Брайтоне было много образовательных учреждений. Местные жители даже называли свой город школьным. Главными, конечно, являлись Брайтонский колледж и Брайтонская средняя школа. Считалось, что колледж предназначен для юных джентльменов, а средняя школа – для сыновей коммерсантов, однако это различие, хотя оно едва ли повлияло на выбор мисс Питт, в 80-е годы XIX столетия уже почти стерлось. Более того, средней школой руководил Э. Дж. Маршалл – видный деятель в сфере просвещения. Именно к нему и обратилась Сара Питт.
Сохранились фотографии Эбенезера Маршалла – густые кустистые брови, чисто выбритая верхняя губа и широкий веер ветхозаветной бороды, но за этой суровой внешностью скрывался оригинальный и щедрый дух, движимый сильной волей. Репутация Брайтонской средней школы была репутацией самого Маршалла. Он являлся ее директором в течение 39 лет и умер через несколько недель после того, как вышел в отставку. Это произошло в 1899 году…
Маршалл был неординарным преподавателем, питавшим склонность к изложению фактов в рифмованном виде. Один из ранних пропагандистов преподавания науки в качестве школьных предметов, он облекал ее открытия в наглядную стихотворную форму и читал лекции об интересных природных явлениях. Но настоящая оригинальность заключалась в том, что он придавал большое значение внеклассным занятиям и общественной жизни школы. Экскурсии на природу, свободное рисование эскизов и этюдов, школьные концерты и театральные постановки, выступления приезжающих лекторов и, разумеется, игры: все это было постоянным стимулом к учебе, проникнутой ощущением радости и веселья. На экскурсии долгая прогулка от станции могла превратиться в карнавальную процессию в сопровождении школьного оркестра барабанщиков и флейтистов… Маршалл основал в Англии первый школьный журнал и назвал его «Прошлое и настоящее». В этом ежемесячном издании сообщения о школьных событиях чередовались с новостями из постоянно растущей когорты «старичков»[7] со всей Британской империи, укрепляя чувство содружества как в самой школе, так и за ее пределами.
К 1885 году Маршалл руководил школой уже 24 года и многое сделал для ее развития и процветания. Школа находилась в красивом доме на Бэкингем-роуд, немного ниже по склону холма от того места, где родился Обри. В ней учились около 300 мальчиков в возрасте от 7 до 18 лет. Большинство из них ходили на дневные занятия, но около 40 учеников были пансионерами [4].
Для того чтобы рекомендовать Брайтонскую среднюю школу как лучший выбор для 12-летнего Обри Бердслея, имелось много причин. Она славилась хорошей историей преподавания, но что более важно, Маршалл был известен своим мастерством в отношениях с трудными детьми. Можно считать, что Обри уже в то время (во всяком случае, в кругу семьи) считался трудным ребенком. В ноябре, когда Обри пришел на встречу с Маршаллом, по поводу его поступления в школу оставались некоторые сомнения. Впоследствии Маршалл вспоминал, что он колебался в своем решении принять мальчика, чей темперамент и особые интеллектуальные наклонности не вполне соответствовали требованиям рутинной классной работы и дисциплины в большой школе. Сара Питт тем не менее выложила козыри – влияние их семьи в Брайтоне и особую просьбу своего дорогого друга (возможно, достопочтенного Т.Г.У. Пэлема, кузена леди Генриетты и вице-президента школы). Словом, Маршалл взял на себя риск школьного обучения Обри Бердслея. Было решено, что он станет пансионером, но, поскольку первый семестр уже близился к завершению, мальчик должен был приступить к учебе в январе 1885 года[8].
Расставание с тихой жизнью на Лоуэр-рок-гарденс и погружение в бурную деятельность и суету большой школы было бы испытанием для любого подростка, но особенно для хрупкого мальчика со странным именем[9] и необычной прической, носившего вместо брюк бриджи и высокие гольфы. Более того, Обри не мог не привлечь к себе внимание тем, что появился в школе не как все – осенью, а в середине учебного года.
Однокашники так вспоминали его первый день в школе. Обри сидел в углу классной комнаты – этакий несчастный мальчик, тоскующий по дому. Необычный рыже-коричневый цвет его волос (нет двух мемуаристов, которые согласились бы друг с другом относительно точного оттенка его шевелюры) мгновенно обратил на Бердслея внимание. Он носил волосы гладко зачесанными спереди и частично закрывавшими его очень высокий и узкий лоб – эффект такой прически милосердно называли экстравагантным.
Среди пансионеров существовала система «подчинения». Предполагалось, что каждый младший ученик становился почти слугой у одного из старших: варит ему кофе, делает тосты, чистит обувь и выполняет разные поручения. «Хозяином» Бердслея был выбран У. У. Хинд-Смит. В первый же вечер на общем смотре новичков Хинд-Смит спросил Обри о полезных навыках. Умеет ли он готовить? Тот признался, что не слишком разбирается в этом. Когда Хинд-Смит осведомился: «А что ты умеешь делать?» – Бердслей невозмутимо ответил, что это зависит от того, чего от него хотят.
Хинд-Смит запомнил последовавший разговор: «Я спросил: “Ты умеешь играть на музыкальных инструментах?”, и он сразу же ответил: “Конечно. Какая музыка тебе нравится – что-нибудь из классики или моего собственного сочинения?” Разумеется, мы выбрали второе. В комнате не было фортепиано, и за неимением лучшего Бердслей подошел к маленькой фисгармонии мистера Кинга – заведующего пансионом и исполнил для нас “нечто оригинальное”. Потом мы спросили, умеет ли он рисовать, и Обри ответил: “Да. Что мне нарисовать?” Я предложил нарисовать меня, что он и сделал… Потом я поинтересовался: “Что ты еще умеешь? Ты поэт?” – “Я очень люблю Шекспира, – сказал он. – Но может быть, я прочитаю что-нибудь собственное?” Обри сразу же прочитал нам стихотворение, которое вроде бы называлось “Пират”».
При других обстоятельствах такое представление вызвало бы град насмешек, но Хинд-Смит и его товарищи находились в добром расположении духа. Кроме того, на них, погруженных в мелкие дрязги школьной жизни, произвели глубокое впечатление недетские манеры Бердслея и его несомненные таланты. Его рисунки были посредственными, стихотворение (оно сохранилось) ничем не примечательным, а музыкальный фрагмент, возможно, являлся далеко не лучшим, но все вместе указывало на понимание форм, существующих в мире взрослых людей, и вселяло в его сверстников определенное благоговение.
Хинд-Смит вынес вердикт – Бердслей объявляется их официальным Шекспиром (можно заподозрить, что Шекспир был единственным поэтом, о котором он слышал) и отныне это будет его новым прозвищем. По-видимому, сие спровоцировало дискуссию, и обнаружилось, что «этот худой красноречивый юнец… живо обсуждает достоинства пьес Шекспира и с видом знатока сопоставляет драмы, комедии и трагедии». Когда Обри Бердслей готовился ко сну в ту первую ночь в Брайтонской средней школе, он должен был испытывать торжество. Ему разрешили блеснуть, он продемонстрировал свои лучшие качества, получил нечто вроде лицензии «ученого малого» и к тому же понравился окружающим. Он знал, что о нем будут говорить. Впрочем, вскоре Обри ожидало болезненное падение.
На следующий день, когда новичков подвергли испытаниям по разным предметам, выяснилось, что Бердслей, несмотря на знание шедевров Шекспира, оказался несведущим в таинствах таблицы умножения. Его шутливое замечание, что такие навыки совершенно излишни, пока он может считать деньги (а главное, иметь их для счета), было встречено более чем прохладно. Обри безжалостно отправили в начальный класс и посоветовали прекратить болтовню.
Эта неудача не сломила дух Бердслея, и после чая в тот же вечер он развлек товарищей по пансиону наглядным описанием своих переживаний, с деланым ужасом протестуя против того, чтобы человека его возраста и опыта заставляли учить азбуку и таблицу умножения вместе с малышами. Этот артистический номер прервало появление мистера Кинга. Выступление позабавило заведующего пансионом, но, полагая своим долгом поддерживать уважение к дисциплине, он отослал Бердслея в свою комнату и попросил его навести порядок в книжном шкафу. Никакое другое задание не могло быть более приятным для Обри. Когда Кинг вернулся к себе, он увидел, что мальчик углубился в изучение томов, разложенных перед ним. Это был первый знак общего интереса и начало дружбы, осветившей особым светом трехлетнее пребывание Обри Бердслея в Брайтонской средней школе [5].
Артуру Уильяму Кингу едва исполнилось 30 лет, но он уже девятый год работал в Брайтонской средней школе. Человек настоящей культуры и даже интеллектуальной мощи, Кинг любил музыку и все прекрасное в природе и искусстве и всякое дело украшал своим тонким чувством юмора. Кинг был известен исполнением экспромтов на темы Гилберта и Салливана[10] под аккомпанемент своей «старенькой фырчащей» фисгармонии. Роль заведующего пансионом, отвечавшего за своих подопечных, оставляла ему время для исполнения лишь самых общих преподавательских обязанностей, но он организовывал все внеклассные занятия. Это Кинг проделывал с необыкновенной энергией и энтузиазмом, вполне удовлетворяя, если не превосходя, ожидания мистера Маршалла.
Кинг очень быстро узнал все достоинства и недостатки Обри Бердслея. В школьной жизни оказалось много такого, к чему этот мальчик оказался неприспособленным. Он был чрезвычайно худым и физически слабым, поэтому великое царство спортивных игр оставалось для него недоступным, хотя Обри, как любому мальчишке, очень хотелось играть в футбол и крикет.
В качестве «подчиненного» он стал полным разочарованием для старших учеников. Хинд-Смит впоследствии часто рассказывал прискорбные истории о сгоревших тостах и холодном чае. Что более удивительно, Бердслей не отличался хорошей успеваемостью. Хотя показательная ссылка в начальный класс была недолгой и вскоре его перевели к ровесникам, прогресс оказался медленным, и он ничем по-настоящему не увлекся. Обри тратил много времени, рисуя карикатуры на учителей, или пребывал в мире грез. Если он от души предавался какому-то занятию, обычно сие были проказы, грозившие бедой. Однажды Бердслей привел в восторг своих одноклассников, сунув в чернильницу край преподавательской мантии самого мистера Маршалла. Ничего не подозревающий педагог пошел по классу, утащив за собой чернильницу в брызгах черных капель.
Природное хитроумие позволяло Обри держаться наравне со сверстниками, но не более того. На единственном экзамене с приглашенными преподавателями, который он сдал в декабре 1886 года, Бердслей получил оценку «удовлетворительно». Согласно экзаменационной ведомости, его ответы тянули на отметку «хорошо», но она была снижена из-за особой слабости по одному предмету. Вероятно, математические познания Обри так и затормозили на уровне подсчета карманных денег [6].
Несмотря на невнимательность на уроках и слабые результаты на экзаменах, Бердслею удалось сохранить и даже укрепить свою репутацию интеллектуала. Большую часть времени он прятался от действительности в собственном мире. Привычка к самодостаточности, которую он приобрел в детстве вместе с Мэйбл, оказалась стойкой. Людям Обри предпочитал книги. Один из современников Бердслея позднее вспоминал, какое необыкновенное влияние оказывала на него литература: «Он мог широко и обаятельно улыбаться каждому, но, когда брал в руки книгу, вы имели возможность видеть, как его ум куда-то отступает из больших темных глаз и покидает их ради приключений в пространстве вечности». Тогда он сидел, «прислонившись щекой к длинным ладоням, сложенным наподобие беличьих лапок» (эту «позу грызуна» отмечали и другие современники, недаром одним из нескольких прозвищ Обри было Ласка).
Читал он беспорядочно. Обри начал изучать английских классиков, но при этом отступал от списка рекомендуемых книг и обращался к условно запретным авторам. Бердслей сказал, что устал от Диккенса, которого одновременно хвалил и отвергал как «нашего Шекспира в стиле кокни». Вместо этого он взялся за Чаттертона, Байрона и Свифта. Обри прочитал «Декамерон», «Жиля Бласа»[11] и большинство рассказов и стихов Эдгара Аллана По. Неадаптированные репринтные издания серии «Русалка», начавшейся в 1887 году, открыли для него царство елизаветинской и якобинской драмы, а также мир остроумия и вольнодумства мужчин времен Реставрации, ценящих любовь других мужчин. Он стал преданным поклонником Конгрива и Уичерли. Мэйбл подвела черту на Карлейле, но Обри пошел дальше и прочитал «Французскую революцию». Даже в традиционном каноне подростковой литературы он испытывал инстинктивную тягу к экстравагантности. Бердслей прочитал «Книгу чуда» и «Истории, рассказанные дважды» Натаниэля Готорна и «Сказки старой Японии» А. Б. Митфорда. Ему особенно нравились книги Льюиса Кэрролла про Алису и «Роза и кольцо» Уильяма Теккерея (кстати, прекрасно проиллюстрованные). И наконец, Бердслей удивлял некоторых своих более прагматичных современников любовью к сказкам [7].
Удовлетворение его растущих литературных аппетитов оказалось непростой задачей. Бердслею посчастливилось иметь свободный доступ к книжным полкам мистера Кинга. Он также покупал все тома серии «Русалка» по мере их появления. После визита в дом школьного приятеля Обри ушел с целой кучей позаимствованных трофеев из семейной библиотеки. Последний случай показывает, что страсть к чтению для Бердслея не всегда была причиной «выпадения» от окружающего мира. Иногда она отделяла Обри от сверстников, подчеркивая его самодостаточность, но также вынуждала идти на контакт с ними. Желание выделяться среди других подталкивало его к сочинению собственных историй на основе прочитанного: Обри развлекал друзей своими сказками с картинками воображаемых джиннов, а книга «Жизнь знаменитых пиратов» существенно пополнила его лексикон и вдохновила на создание пиратских игр для друзей. Речь Бердслея была насыщена «пиратскими» словечками. Одних мальчиков он называл жуткими канальями, а других встречал хриплым ворчанием: «Эй, мошенники! Болтаться вам на рее, потому что вы чертовски похожи на висельников!»
Тем не менее Кинг признавал, что эксцентричность Бердслея может отбросить его на обочину школьной жизни. Противоречивый и юмористически-саркастичный склад ума Обри забавлял многих, но мог – особенно в сочетании с отсутствием интереса к учебе и спортивным играм – превратиться в разрушительную силу. Обуздание энергии юного ученика и его привлечение к полноценной школьной жизни было большим достижением Кинга. Он поощрял тягу мальчика к истории. На домашнем вечере для пансионеров в конце первого школьного семестра Бердслея Кинг попросил своего протеже еще раз прочитать его пиратское стихотворение «Отважный». Оно получило хороший прием: школьный обозреватель назвал его настоящей маленькой поэмой, заслуживающей похвалы, а в следующем семестре стихотворение было опубликовано в журнале «Прошлое и настоящее», став первой печатной работой Обри.
Интересно, что после успеха с исполнением музыкального фрагмента собственного сочинения в первый же день Бердслей забросил музицирование. Иногда он импровизировал на старенькой фисгармонии для собственного удовольствия, но останавливался, если кто-то входил в комнату. Вскоре мастерство Обри как пианиста пришло в упадок. Отчасти этот отход от музыки был вызван новыми школьными занятиями – у него просто не хватало времени для практики, но свою роь могло сыграть и желание выйти из-под влияния матери.
А вот рисовать Обри продолжал. Хотя в расписании были уроки рисования, на которых ученикам ставили технику, в школьной программе живопись являлась далеко не главным предметом. Бердслей рисовал эскизы и шаржи в основном для развлечения, но иногда он показывал свои рисунки преподавателю мистеру Годфри. Мальчика интересовали критические отзывы.
В 1886 году в кружке, который можно назвать собранием художественной критики – он проходил после уроков очень неформально, около стола мистера Годфри, – Обри познакомился с Джорджем Скотсон-Кларком. Этот мальчик тоже интересовался живописью. Они оказались ровесниками, но Джордж учился на класс младше, восполняя пробелы в образовании из-за прерванной учебы в начальной школе. Его покойный отец, достопочтенный Фредерик Скотсон-Кларк, был известным органистом и композитором, и семья часто переезжала из города в город. В Брайтоне они поселились недавно, и год назад Джордж стал посещать среднюю школу – он ходил на дневные занятия. Как и Бердслей, юный Скотсон-Кларк был не слишком приспособлен к школьной рутине, и неудивительно, что мальчики хорошо поладили. Кто-то из однокашников запомнил Скотсон-Кларка как странного, но умеющего произвести впечатление подростка с четко определившимися взглядами на музыку, живопись и даже еду (впоследствии Джордж написал несколько кулинарных книг). Он был правнуком художника Дж. Чиннери, и, несмотря на интерес к музыке и драматургии, его главной любовью являлась живопись [8].
Джордж и Обри стали близкими друзьями и теперь после уроков часто сидели рядом в одном из классов. Они грелись около батарей, рисовали смешные картинки и развлекали друг друга до тех пор, пока их посиделки не прекратили педагоги – оба очень плохо, но очень похоже сдали экзамены. Впрочем, их дружба не прекратилась. Мальчики посещали внеклассные уроки рисования под руководством Генри Эрпа, превосходного акварелиста, приверженца старой школы.
Они были слишком смелыми в творчестве, что не могло не иметь последствий. Скоро мистер Эрп вежливо, но твердо объяснил обоим, что они впустую тратят время, так как не имеют таланта к рисованию и им лучше отказаться от этого занятия. Ничуть не обескураженные, Джордж и Обри вернулись к самостоятельному обучению. Их учебником стало «Руководство по карандашному рисунку» Г. Р. Робертсона. Мальчики показывали свои работы не только Годфри и Эрпу, но и Кингу, а также одному из классных наставников – мистеру Пэйну. Кроме того, они выносили свои рисунки на суд еще более строгого жюри – сверстников.
Действительно, подавляющая часть подростковых рисунков Бердслея была создана для развлечения его одноклассников. Их преобладающая черта – юмор. Карикатуры, шаржи и жанровые сценки, пародийные иллюстрации к учебникам отражали желание автора забавлять, удивлять и подрывать авторитет мира взрослых людей. Художественные достоинства этих работ невелики, в них явно чувствуется влияние иллюстраций Гилберта Бекетта к «Комической истории Англии» и карикатур Кина и Дойла из журнала Punch. Обри также нравились рисунки Фреда Барнарда, особенно его карикатуры на английского трагика Генри Ирвинга, прославившегося исполнением драматических ролей в произведениях Шекспира. Бердслей создал множество собственных рисунков в стиле «Ирвинг а-ля Фред Барнард», во многом подобно тому, как Томми Трэддлс в «Дэвиде Копперфилде» рисовал скелеты, выбрав это как средство для выражения своих эмоций.
Карикатуры на педагогов и директора, а также эскизы комичных сцен из школьной жизни, хотя и переработанные в воображении Обри, были основаны на пристальных наблюдениях[12]. Кинг пытался поощрить эту ипостась таланта Бердслея (и одновременно уменьшить обиду, которую он мог причинить), привлекая мальчика к созданию «моментальных портретов» на так называемых открытых днях в пансионе. Существуют также наброски, отражающие попытки юного художника, судя по всему, при работе с моделью, овладеть навыками изображения предмета (скрипки) в перспективе, но такие примеры с привлечением натурщиков немногочисленны [9].
Архитектура Брайтона, то есть городской пейзаж, почти отсутствует в подростковой живописи Бердслея, хотя он хорошо изучил его во время учебы в школе. Особенно Обри любил пристань Олд-Чейн и приходил туда при любой возможности. Изящные причалы, барочные красоты Королевского павильона и своеобразный шик набережной – все это сыграло роль в развитии его мастерства как рисовальщика, но усваивалось постепенно. Как свидетельство того, что он вообще пытался работать на пленэре, нам в наследство остался лишь незавершенный пастельный рисунок виадука, пересекающего дорогу из Брайтона. Ни одного эскиза с изображением загородной местности не сохранилось. Хотя впоследствии Бердслей любил нарочито выражать свое презрение к природе, будучи подростком, он наслаждался прогулками среди холмов Сассекса. Он полюбил пейзажи Саут-Даунса и описывал их как одновременно эмоциональные и эстетичные – очень редкое сочетание в природе. Обри называл их невыразимо прекрасными… Возможно, это удерживало мальчика от попыток воспроизвести их на бумаге.
Вдохновение в то время Бердслей черпал в первую очередь из книг. Если школьные занятия и учителя обеспечивали ему живой материал для шаржей и жанровых сцен, то книги предлагали другую, простую и понятную основу для юмора. Он использовал известные сюжеты, но король Иоанн Безземельный, с улыбкой подписывающий Великую хартию вольностей, и папа римский, тяжело опирающийся на Церковь, были им уже интерпретированы по-своему. Осенью 1886 года, когда Бердслей вместе с остальными учениками изучал вторую книгу «Энеиды» Вергилия, он воспарил к новым творческим высотам. В приливе вдохновения Обри сам стал переводить поэму, сложил непочтительную песенку об Энее, попытавшемся ускользнуть из осажденного города на воздушном шаре, и создал серию из 19 комических рисунков, иллюстрирующих бегство из Трои. Последние имели такой успех, что Бердслей обещал сделать второй комплект для мистера Пэйна, немного поменьше. Судя по всему, Обри опять удалось одновременно рассердить учителя и получить его одобрение [10].
О прочной связи живописи и литературы свидетельствуют обильно декорированные поля многих книг, купленных им в то время. Свой экземпляр Джонатана Свифта Обри украсил двумя искусными портретами автора и многочисленными иллюстрациями, а на полях пьес Кристофера Марло изобразил их персонажей. Многие тома серии «Русалка» разрисованы им чуть ли не на каждой странице. При этом Обри расширил свой стилистический репертуар: попытался, к примеру, воспроизвести с помощью пера и чернил эффект гравюрного фронтисписа с портретом Фрэнсиса Бомонта – драматурга Яковианской эпохи, писавшего вместе с Джоном Флетчером (в свое время они были самыми популярными драматургами Англии, но впоследствии затерялись в тени Шекспира). Впрочем, на более масштабные художественные эксперименты ничто не указывает. Бердслей не изучал работы великих художников – ни прошлых лет, ни современных. У Хинд-Смита имелось четыре копии гравюр, сделанных для него Бердслеем, но, судя по всему, это были традиционные пейзажи, похожие на тщательно воспроизведенный рисунок церкви в Эгхэме, который Обри сделал в 1886 году.
Великие достижения книжных иллюстраторов 60-х годов XIX столетия были широко доступны, но они не оказали на Бердслея заметного влияния. На этом этапе в его творчестве, определенно, нет никаких следов увлечения прерафаэлитами или художниками эстетического направления, а также намеков на знакомство с «Притчами» Миллеса или моксоновским изданием стихов Альфреда Теннисона – наиболее яркого выразителя сентиментально-консервативного мировоззрения викторианской эпохи, любимого поэта самой королевы[13]. Даже японские фонарики и веера, которые Обри видел в витринах модных брайтонских магазинов, пробуждали в нем лишь интерес к Востоку, но не попытки воспроизводить его экзотику. Близкие сердцу Бердслея и хорошо ему знакомые гротески Джона Тенниела, проиллюстрировавшего «Алису в Стране чудес», и Артура Бойда Хоутона, удожника двухмерного пространства, никак не проявились в его подростковых работах. Школьные рисунки почти не дают представления о том, кем предстояло стать Обри Бердслею. Они были плодами его интереса к драме и литературе, а также способом покрасоваться перед окружающими [11].
Сцена тоже предлагала ему способ для самовыражения и саморекламы. После скромного участия в домашних представлениях в кругу пансионеров Обри открыл для себя более широкую аудиторию.
Одним из кульминационных моментов учебного года в Брайтонской средней школе было рождественское представление, которое проходило не в здании на Бэкингем-роуд, а в Куполе – бывшей скаковой конюшне принца-регента рядом с Королевским павильоном, превращенной в городской театрально-концертный зал. Почти все ученики так или иначе принимали участие в этом представлении. Подготовку к нему мистер Маршалл начинал в октябре – выбирал определенную тему, героя, к примеру Робин Гуда, Христофора Колумба или короля Артура, а Фред Эдмондс и К. Т. Уэст, которых называли Гилбертом и Салливаном для средней школы, сочиняли комическую оперу. Мистер Кинг писал стихотворный пролог, а другой учитель – музыку для увертюры и торжественного выхода. Мальчики составляли актерскую труппу, хор и оркестр. Такие представления подчас собирали аудиторию до 3 тысяч зрителей.
Бердслей неизменно принимал участие в этих масштабных проектах и со временем стал играть в них заметную роль. В представлении 1885 года его участие не отражено в записях, но к концу второго года учебы таланты Обри были достаточно хорошо известны, чтобы ему поручили важную роль – Бердслей читал пролог, написанный мистером Кингом. Обри воплощал образ школьника – собирательного персонажа – и без запинки произносил античные пентаметры, подводившие итоги учебного года и представлявшие других героев спектакля. Его имя стояло первым в списке актеров, а портрет работы младшего преподавателя Ф. Дж. Страйда наряду с изображениями немногих других украшал программу. Это уже можно считать началом славы [12].
В начале следующего семестра интерес Обри к драме получил очередной импульс развития. В школу пришел новый ученик – Чарлз Кокран, который впоследствии стал знаменитым театральным импресарио. В 14 лет Кокран уже пострадал от своей любви к зрелищам: из предыдущей школы его исключили за то, что ушел с уроков, чтобы посмотреть 5 ноября на фейерверки Гая Фокса[14].
Бердслей был рад появлению новичка, за которым тянулся шлейф дурной славы, и в первый же вечер за ужином сел за его стол. Впоследствии Кокран вспоминал Обри так: «Он говорил очень быстро, выразительно жестикулировал и в целом был мало похож на типичного англичанина». В ходе того разговора быстро обнаружился их общий интерес к театральным подмосткам. Бердслей произвел глубокое впечатление на Кокрана своими глубокими познаниями и изысканными вкусами. Словом, они стали друзьями.
Мистер Кинг был очень рад иметь в пансионе нового энтузиаста театрального искусства. Он посоветовал Бердслею и Кокрану организовать силами пансионеров концерт, который стал первым в череде многих других. Вместе со Скотсон-Кларком, который был приходящим учеником и официально не считался участником постановки, они часто устраивали небольшие театральные представления, состоявшие из фарсовых сцен, песенок и декламации.
Каждый мальчик имел собственную специализацию, свое амплуа. Бердслей, позаимствовавший номера из репертуара сестры Мэйбл, читал сцену катания на коньках из «Записок Пиквикского клуба», причем делал это поразительно живо, а иногда даже надевал ролики. Он также читал любимые фрагменты из «Сна Юджина Арама» и «Призрака Мэри» Томаса Гуда. Мальчики показывали одноактные спектакли, например «Бокс и Кокс»[15] и «Ткачиху из Спитлфилдза», которые, по свидетельству Кокрана, отличались не только яркими персонажами, но и замечательным гримом – они накладывали его с помощью кисточек и коробочки акварельных красок. Нужно ли говорить, что руку к этому прикладывал Обри Бердслей?
Эти совместные представления сблизили троих друзей и вдохновили их на очередные проказы. Они составляли хитроумные планы по сбору средств для тайных походов на дневные представления в брайтонском театре и стали завзятыми театралами, выдвигавшими множество «суждений» об актрисах, которых видели. Мальчики перенесли свои драматические занятия за пределы сцены. Был случай, опять же по свидетельству Кокрана, когда Брайтонская средняя школа проводила крикетный матч в Истбурне против команды учебного заведения, из которого в свое время его исключили. Кокран и Бердслей сопровождали команду в группе поддержки. По прибытии в Истбурн Обри загримировался стариком, надев парик и приклеив фальшивую бороду, и нанес визит директору школы команды соперников. Он представился Джаспером Рейнером, сказал, что недавно приехал из Калифорнии, с золотых приисков, и попросил разрешения привести двух своих юных племянников на чай. Директор, поддавшийся на обман, согласился, и Бердслей провел двух «юных Рейнеров» в гостиницу «Альбион», где они и выпили чаю [13].
Год спустя трое друзей приняли участие в спектакле, устроенном в честь большого юбилея[16]. Бердслей снова читал пролог: он олицетворял дух прогресса. Обри представил ряд исторических фигур, включая Генриха II в исполнении Скотсон-Кларка и Генриха VII, которого сыграл Кокран. Четкость его дикции и мастерство грима заслужили особую похвалу обозревателя журнала «Прошлое и настоящее».
Статус Бердслея в школе повысился. Мистер Кинг попросил его нарисовать несколько карикатур для «Прошлого и настоящего». Его «Анализ юбилейного крикетного матча» – серия юмористических картинок о правилах игры в крикет – был опубликован в июньском выпуске 1887 года и стал печатным дебютом Бердслея в качестве художника. Обри пришлось переделать картинки для передачи менее удобными средствами в виде чернил для литографии, и они появились вместе с комментарием, объясняющим это обстоятельство и приносящим извинения за возможную потерю качества.
На литературном фронте тоже были достигнуты новые успехи. Вдохновленный публикацией «Отважного», Бердслей поднял свою поэтическую планку. Вскоре, будучи, как говорили его учителя и однокашники, плодовитым автором оригинальных стихов, он стал отправлять их в местный еженедельник. В том же месяце, когда был напечатан «Анализ юбилейного крикетного матча», стихотворение «Два к одному», подписанное О. В. Бердслей, появилось на 11-й странице «Брайтонского общества». Это творение, позаимствовавшее размер из шутливой песенки У. С. Гилберта в «Раддигоре», стало хвалебной песнью ростовщикам в исполнении нищего бродяги («Друзья везде познаются лишь в нужде») со следующим рефреном:
- Милость фортуны вернется ко мне,
- Когда все нажитое канет на дне
- Лавки чудесной с монеткой в окне.
За этим внешкольным триумфом, значительным для 14-летнего подростка, немного погодя последовала публикация в том же еженедельнике «Поездки в омнибусе» с описанием ужасов общественного транспорта. Второе четверостишие гласило:
- Сначала вам слегка намнут бока в толпе зловонной,
- И если вы не социалист, к общенью с чернью благосклонный,
- Вас образы болезней окружат толпой зловещей
- Иль насекомых домогательства – но нет, не комаров,
- а кой-чего похлеще!
Восторги Обри в этом случае были омрачены редакторской ошибкой – он превратился в У. В. Бердслея, но в целом получил еще одно подтверждение того, что его талант обрел жизнь за пределами школы [14].
«Анализ юбилейного крикетного матча» – первая печатная серия рисунков Обри Бердслея. Опубликована в журнале «Прошлое и настоящее» в июне 1887 года
Безусловно, эти два примера литературного ребячества не дают материала для подробного рассмотрения. Тем не менее интересно отметить, что они с ироничной отрешенностью отражают страдания буржуа, вынужденного вступать в контакт с реалиями повседневной жизни. Бердслей явно считал себя – в сущности, его этому учили – выше «толпы зловонной». Впоследствии его похождения нередко будут заканчиваться в «лавке чудесной с монеткой в окне», но он всегда подчеркивал свой аристократизм.
Все эти достижения упрочили репутацию Обри, но на учебе сие никак не отразилось. Много лет спустя, когда одного учителя попросили рассказать о Бердслее – ученике Брайтонской средней школы, тот признался, что не может вспомнить ничего примечательного, и брюзгливо заметил: «Кто мог знать, что он станет знаменитым?»
Впрочем, некоторые как минимум могли предположить такую возможность. У Бердслея было несколько сторонников в учительском коллективе. Мистер Пэйн, например, находил нечто особенное в «колоритном школьнике», выделявшее его среди сверстников. Действительно, фамильярные отношения Обри со старшими учениками, а также то, что он был накоротке кое с кем из учителей, приводили к сплетням, а иногда и к возмущению среди одноклассников. Между тем он не подлизывался к старшим, скорее, поступал наоборот. Бердслей не благоговел перед ними. В отличие от большинства школьников Обри относился к учителям без настороженности и даже особой почтительности. Пэйн вспоминал, что юный Бердслей имел обыкновение пускать в ход свой характерный юмор и нередко высмеивал школьных наставников. И все-таки предположение одного из его коллег о том, что учителя сами искали благосклонности Бердслея, так как боялись его карикатур, выглядит, пожалуй, преувеличенным.
Обри был, что называется, на дружеской ноге со многими учителями – Маршаллом, Лэмпсоном, Карром и особенно с Пэйном, но его первым, главным союзником оставался Кинг. Он являлся любимчиком заведующего пансионом, был удостоен чести ходить с ним на долгие прогулки и проводил много счастливых вечеров в его кабинете за обсуждением книг, пьес, картин, эстетических эффектов свечного освещения и своих собственных головокружительных перспектив после окончания школы [15].
Для многих своих сверстников Обри оставался загадкой. Среди неутомимых искателей приключений, как выразился один бывший ученик Брайтонской школы, он выглядел очень тихим мальчиком: «Нам казалось, что Бердслей слишком занят собой. Он всегда был очень бледным и часто выглядел подавленным. Если вы были спортсменом, то ни за что не захотели бы дружить с ним». Впрочем, на другой странице своих воспоминаний этот парень все-таки намекает, что многие спортсмены хотели дружить с Обри.
Его предрасположенность к одиночеству и грезам наяву вызывала изумление, если не раздражение у некоторых ровесников. Для Хинд-Смита Бердслей так и остался словно ходящим во сне. Когда рассказать что-нибудь об Обри попросили другого одноклассника, он коротко ответил, что помнит лишь, как тот рисовал на уроках вместо того, чтобы работать, напоминал живой труп, был поразительно жадным и не числился среди его приятелей. Отпечаток ярко выраженного индивидуализма лежал на всем, что делал Бердслей: третий сверстник вспомнил о том, что Обри съезжал вниз по перилам каким-то особенно грациозным образом, а не так, как остальные мальчишки.
При желании Бердслей всегда мог собрать толпу, внимающую представлению одного из импровизированных полетов его фантазии. Он был популярен. То, что Обри с регулярным постоянством попадал в разные истории, приходилось по душе большинству его одноклассников. Тем не менее у него было мало настоящих друзей – в кругу из трех-четырех близких товарищей ближайшими оставались Кокран (они даже домашние задания выполняли вместе) и Скотсон-Кларк. Их он ценил больше всего, и, объединенные совместными занятиями, увлечениями и проказами, они образовали некий триумвират. Для этих двоих Бердслей очень скоро стал просто Бил. О том, как возникло это прозвище, мы можем только догадываться [16].
Ч. Б. Кокран и Дж. Э. Скотсон-Кларк в роли мистера и миссис Сприггинс в фарсе Т. Дж. Уильямса, представленном в Брайтонской средней школе 23 февраля 1888 года и повторенном 9 марта. Бердслей играл Виктора
Обри отличался своеобразными манерами и тщательно культивировал это отличие. Некоторые претенциозные черты самовыражения уже становились очевидными. Если он восторгался эстетическими деталями какого-либо произведения, следовало восклицание: «Ну разве это не замечательно?!», произнесенное особым мягким, но не терпящим возражений тоном. Для укрепления своей репутации как человека, обладающего всесторонними познаниями, Обри по собственному почину стал изучать древнегреческий язык, хотя его достижения в этой области большей частью вымышлены.
Ему еще предстояло прослыть настоящим денди, но после первого семестра Бердслей сменил нелепые бриджи на брюки и стал носить пиджак, однако быстрый рост мешал его попыткам всегда выглядеть элегантно. В начале каждого следующего семестра его брюки и пиджак смотрелись не совсем пропорционально… Носки Обри были видны из-под брюк больше, чем хотелось бы самому франту, а тонкие кисти с длинными пальцами высовывались из рукавов рубашки…
В определенное время, вероятно летом 1887 года, склонность Бердслея к театральным эффектам нашла новый выход в романтических увлечениях. В Александра-виллас, за углом от Бэкингем-роуд, находилась небольшая частная школа для девочек, и Обри воспылал страстью к одной из ее учениц, хотя слово «страсть», вероятно, будет слишком сильным.
Сохранившиеся два письма к предмету его любви мисс Фелтон[17] настолько игривы, пронизаны иронией и насмешливыми излишествами и так обильно украшены карикатурами на самого себя, что его чувство, несомненно, было таким же мифом, как и знание древнегреческого. Обри просто играл в любовь, упражнялся в остроумии и открывал для себя манеру будущего эстета во всем прятать чувства за преувеличениями, граничащими с абсурдностью. Вот один из примеров его любовной лирики.
- По тебе я вздыхаю, за тебя умираю,
- По тебе я томлюсь, словно запертый в гроб,
- Я письмо отправляю, от восторга рыдая!
- P. S. Не показывай это дорогой Бетси Топп.
Поясним, что Элизабет Топп была директором школы, где училась мисс Фелтон. То, что этот эпизод являлся представлением для одного зрителя (самого себя), подтверждает описка Бердслея в первом же предложении самого послания: «Вообрази мой восторг и несказанную радость, удовольствие и счастье, когда я получил и прочитал мое [sic!] письмо». Оскорбительное местоимение «мое» было небрежно зачеркнуто и заменено на «твое». Это едва ли можно считать порывом любящего сердца. Отголосок этого обличительного послания можно найти на форзаце сборника пьес Марло, купленного Бердслеем 4 мая 1887 года. Он написал: «О.В. Бердслей, с любовью от самого себя» [17].
Несмотря на бурное участие в культурной и общественной жизни школы, Обри продолжал часто ходить в церковь Благовещения. Один из учителей несколько раз сопровождал его на вечернюю службу и явно находился под впечатлением открытия, что духовным наставником Бердслея был отец Джордж. Несомненно, участие в школьных проказах и церковной службе в храме на Вашингтон-стрит принимал один и тот же мальчик, но казалось, что они совсем разные.
В том что касалось Обри как творческой личности, есть некоторые признаки того, что он пытался соединить свои художественные и религиозные интересы, проиллюстрировав Псалтирь и Песнь песней Соломона (помощник викария Чарлз Торнтон восхищался ранними рисунками Бердслея), но эти два мира по большей части существовали отдельно друг от друга. Отец Джордж неодобрительно относился к театру, поэтому новая область интересов духовного чада оставалась для него закрытой. Способность к «секционному разделению» своей жизни и своих друзей, которая в последующем стала ярко выраженной чертой Бердслея, уже проявлялась в его отношениях с окружающими.
Ему также пришлось пройти через другое разделение – между школой и семьей. Обри продолжал посещать свою двоюродную бабушку на Лоуэр-рок-гарденс, а Мэйбл вскоре после того, как он поступил в среднюю школу, уехала из Брайтона в родительский дом в Лондоне. Где она училась, остается неизвестным, хотя по способностям Мэйбл во многом превосходила брата. Она получала каждый приз, за который состязалась (кстати, это обстоятельство еще более охладило интерес Обри к традиционным школьным дисциплинам).
Во время каникул он возвращался в Пимлико. Жизнь там была унылой и однообразной. Его дед скоропостижно скончался 27 октября 1887 года. Бабушка получала за него небольшую военную пенсию. Теперь она жила вместе с сестрой Джорджиной Лэмб, которая тоже недавно овдовела, на Холланд-роуд. Элен и Винсент по-прежнему были стеснены в средствах. Однажды Обри побывал в театре и увидел на сцене Ирвинга – героя своих карикатур, но такие удовольствия на его долю выпадали редко. Развлечений в Лондоне у него было немного [18].
Безмерно тяготясь этими вынужденными ограничениями, Обри изо всех сил старался продолжить беззаботное существование в школе. Ему так нравилось рассказывать Мэйбл о своих успехах! Он заново переживал события прошедшего учебного семестра вместе с сестрой и в ходе этого еще раз переосмысливал все произошедшее. Они вместе читали книги серии «Русалка» и стали во время школьных каникул устраивать небольшие театральные представления в семейной гостиной. Элен Бердслей впоследствии вспоминала: «Мы с мужем были единственными зрителями, а поскольку тогда нам приходилось много работать, эти представления украшали наши вечера». Она не могла забыть чудесное трехчасовое представление «Фауста» Гёте, где Мэйбл исполняла главную роль, а Обри в платье и парике – длинные соломенные локоны – играл Маргариту. Для того чтобы театр был «настоящим», брат с сестрой даже изготовили реквизит и Обри сделал декорации.
Вдохновленный успехом своих выступлений вместе с Кокраном и Скотсон-Кларком, Обри решил больше не обращаться к классике. Они с Мэйбл стали устраивать похожие концерты с декламацией, исполнением песенок и короткими скетчами. Постепенно выступления становились более серьезными: Обри и Мэйбл создавали замысловато украшенные программки, афиши и даже билеты. Предполагалось, что зрительская аудитория пополнится несколькими друзьями семьи [19].
Первый семестр 1888 года стал для Обри Бердслея последним в Брайтонской средней школе. Он был отмечен новыми успехами на сцене и в рисовании. Во время летних каникул директор посетил Британскую Колумбию – провинцию на западе Канады и встретился со многими бывшими учениками, которые поселились там. Маршалл решил прочитать в школе лекцию о своей поездке и попросил Бердслея, неоднократно делавшего на него шаржи и карикатуры, нарисовать серию юмористических картинок, которые можно было бы использовать как слайды с источником света в виде газовой лампы. Картинки были простыми, из-за ограничений проектора стилизованными, но эта просьба свидетельствует о широте мышления педагога, а также еще раз указывает на двусмысленное положение Обри как сторонника и одновременно саботажника установленных правил.
Вскоре был утвержден план рождественского представления в Куполе. Его сюжетом стала тема «Флейтиста из Гаммельна». Мистер Кинг снова написал пролог. Скотсон-Кларк по случайности – если можно верить его свидетельству – уже нарисовал иллюстрации к поэме Элизабет Браунинг и представил их Маршаллу в надежде, что рисунки можно будет использовать в афишах. Однако они были сочтены непригодными для этой цели, и Маршалл попросил Бердслея, которого вызвал к себе по какому-то другому делу, вернуть их автору. Обри посмотрел рисунки и решил создать собственную серию на эту тему.
Установить точную хронологию сохранившихся работ Бердслея во время его учебы в Брайтонской средней школе трудно, но в рисунках 1888 года уже видно несомненное мастерство. Техника рисования прекрасная. Портреты Никколо Паганини и Сары Бернар, а также иллюстрация к «Двойной игре» Уильяма Конгрива, драматурга, стоявшего у истоков британской комедии нравов и прозванного английским Мольером, указывают на уверенное владение карандашом, глубокую проработку деталей и пробуждение интереса к гротеску. Рисунки, которые Обри сделал для «Флейтиста из Гаммельна», дают более полное представление об этом прогрессе. Они выполнены светло-коричневыми чернилами, и в них можно видеть плавную текучесть линий, не встречающуюся в предыдущих работах юного художника. Гротескный аспект сюжета, отраженный в рельефных контурах крыс, собравшихся вокруг головки сыра, намекает на влияние Кейт Гринуэй, одного из самых любимых книжных иллюстраторов Бердслея того периода. Рисунки Гринуэй к «Флейтисту из Гаммельна» стали достоянием публики лишь в 1889 году, но дух ее творчества заметен в иллюстрациях молодого Бердслея.
Он показал свои рисунки Маршаллу. На директора произвели впечатление техника и сила художественного замысла, и он решил проиллюстрировать ими программу представления. Скотсон-Кларк признал превосходство рисунков Бердслея, но, несомненно, был шокирован бестактностью друга. Между ними легла тень отчуждения.
Представление «Флейтиста из Гаммельна» состоялось 19 декабря. Для Бердслея это был вечер непрерывного триумфа. Такое редко выпадало на долю кого-либо из школьников. Одиннадцать его рисунков оказались в программе, но величие момента несколько омрачало уведомление с извинениями за то, что «из-за отсутствия опыта в подготовке иллюстраций для фотогравюры» репродукции сильно уступали в качестве оригиналам. Это было второе напоминание о разнице между оригинальной художественной работой и печатной репродукцией. Изящество и детализация рисунков действительно во многом были утрачены, но они сохраняли частицу былого очарования, и публика, незнакомая с оригиналами, восхищалась ими.
Как обычно, Бердслей сыграл видную роль и в представлении. Он снова прочитал рифмованный пролог, и его выступление в качестве вестника богов Меркурия снискало общие похвалы. В комической опере Обри довольствовался второстепенной ролью, но даже здесь он сумел произвести впечатление. Один беспристрастный зритель вспоминал его как долговязого 16-летнего юношу, который внес в представление дух зрелости и выглядел почти так же убедительно, как мистер Пэйн в роли самого Флейтиста.
Бердслей сошел с театральных подмостков Брайтонской средней школы и покинул ее радостный мир уже поэтом и художником, чьи публикации появлялись в журналах и программах, а также признанным актером – юношей, весьма довольным собой[18] [20].
Иллюстрация к «Флейтисту из Гаммельна», 1888
Глава III
Сомнения
Автопортрет, ок. 1891
Итак, зимой 1888 года Обри Бердслей перестал быть учеником Брайтонской средней школы. Он вернулся в Пимлико. Теперь его семья занимала скромное жилище на Кембридж-стрит, 32. Обри попытался продлить время и движущий импульс своего школьного триумфа. 31 декабря они с Мэйбл устроили грандиозное новогоднее представление, превратив гостиную на втором этаже в Кембриджский театр-варьете. Они предложили программу, состоявшую из песен, монологов и одноактного фарса «Бокс и Кокс» в финале. Элен была предназначена роль домовладелицы миссис Боунсер. Это было первое появление на сцене миссис Бердслей, как значилось на афише, сделанной Обри.
Конечно, сие представление было своего рода попыткой уйти от действительности. Вскоре Обри предстояло принять важное решение: он должен был найти работу. Винсент не имел постоянного дохода, только случайные заработки. Элен время от времени давала частные уроки и вносила в содержание семьи лишь небольшой вклад. Мэйбл с ее блестящими способностями разрешили продолжить учебу, но эта уступка имела практический аспект: Элен знала, что преподавание как одна из наиболее респектабельных возможностей работы для женщин в то время, зависело от хорошего образования.
Для Обри, независимо от его интересов и талантов, не мог даже встать вопрос о карьере художника. Он был обречен работать в Сити. Питты задействовали все свое влияние, и Обри была обещана должность в The Guardian Fire and Life Insurance – компании по защите от пожаров и страхованию жизни, но пока там вакансии не оказалось, и он сам нашел место клерка в конторе окружной земельной инспекции Клеркенуэлла и Ислингтона. Бердслей приступил к работе в первый день нового года и, хотя впоследствии изображал этот период как стажировку в архитектурной студии, дававшую ему возможность развивать профессиональные художественные навыки, его настоящие обязанности сводились к рутинной работе с документами. Если Обри что-то рисовал, то лишь на полях бухгалтерских книг. Разумеется, он не мог радоваться своей новой работе, хотя в письме признавался Кингу, что она не то чтобы не нравится ему, и в целом совсем не трудная.
Весь 1889 год Бердслей ежедневно перемещался из Пимлико в Ислингтон и обратно, пешком или на омнибусе. Он стал одним из солдат огромной армии офисных работников, которые каждое утро направлялись в восточную часть города, чтобы сидеть на высоких табуретах или стоять за конторками и писать ручками со стальными перьями за скудное вознаграждение – 30 шиллингов в неделю. Бердслей начинал с еще более низкого жалованья. Тем не менее сам факт получения зарплаты грел душу, и, хотя ожидалось, что он будет вносить существенный вклад в семейные расходы, что-то оставалось и на собственные удовольствия.
В первый год безрадостного существования в Лондоне Обри тратил свободное время и деньги на музыку, книги и особенно на театр. Лондонская сцена открывала богатые возможности, далеко превосходящие все, что мог предложить Брайтон. Бердслей с восторгом вспоминал о неподражаемом Генри Ирвинге и божественной Элен Терри в «Макбете» и с негодованием о музыке Артура Салливана – ее юноша назвал огромным разочарованием [1].
Он продолжал жадно читать, накапливая знания о классике. Обри все еще покупал книги серии «Русалка», но приобрел и красивое издание стихов Шекспира с изящным портретом поэта на титульной странице и усеял поля книги многочисленными примечаниями. Кроме традиционных комментариев о гении Шекспира, не подверженном влиянию времени, главный интерес Бердслея (если судить по надписям на полях) состоял в установлении пола, а не личности человека, которому были адресованы шекспировские сонеты. Среди других книг, приобретенных в это время, были «Стихотворения» Скотта (необычный выбор, но, возможно, эта книга была его школьной наградой), «Том Джонс» Генри Филдинга и «Фауст» Гёте в английском переводе.
Обри часто посещал район Холивелл-стрит, нынешний Олдвич, где было множество букинистических лавок. Это место обладало диккенсовским (если не хогартовским) очарованием и служило желанной гаванью для столичных библиофилов, но идиллическим отнюдь не являлось. Полиция часто устраивала здесь облавы на подпольных торговцев непристойной литературой и порнографическими открытками. Именно такой уголок Лондона, с его особой атмосферой, лучше всего подходил для Бердслея. Он воспроизвел Холивелл-стрит на небольшом акварельном рисунке в импрессионистском стиле, созданном в то время. Этот рисунок Обри подарил Кокрану, с которым продолжал поддерживать отношения, несмотря на то что их школьный триумвират распался.
Кроме того, он посещал встречи лондонского филиала выпускников Брайтонской средней школы и, что более важно, не прерывал связь со старыми друзьями в этом городе. Сохранились контакты и с Кингом, а также с Маршаллом и Пэйном.
Кокран, как и Скотсон-Кларк, работал в Брайтоне. Первый поступил на службу к виноторговцу, а второй, подобно Бердслею, устроился на работу в окружную земельную инспекцию. Поезда в Брайтон с вокзала Виктория ходили каждый день, и почта работала 12 месяцев в году.
Кокран и Скотсон-Кларк жаловались на скучную работу и мечтали о карьере в искусстве. Кокран по-прежнему грезил о театральной сцене, а интересы Скотсон-Кларка сместились от живописи к музыке. Общие надежды и устремления по-новому сблизили их с Обри. Все трое оказывали друг другу моральную поддержку и взаимно поощряли творческие начинания [2].
Поощрение было необходимым. В Брайтоне он теперь бывал нечасто, хотя писал друзьям и получал от них ответы регулярно. Конечно, очень важна была дружба с Мэйбл. Обри ходил в театр, на концерты и читал книги, но границы его лондонской жизни оставались мучительно узкими. Единственным способом уйти из блеклой реальности в другой мир, более яркий, оставалась религия. В это время члены его семьи ходили в церковь Святого Варнавы в Пимлико, которая, несмотря на статус местной, находилась довольно далеко от Кембридж-стрит, на другой стороне Эбери-бридж, чуть ли не в Белгравии. Этот храм, построенный в 1850 году, называли самой внушительной и правильно обустроенной церковью в Англии со времен Реформации, и в конце 80-х годов XIX столетия он по-прежнему считался одним из лучших в Лондоне. При церкви имелась небольшая хоровая школа, о которой по праву говорили как о непревзойденной и недосягаемой – так хорошо здесь исполняли хоралы и другие религиозные песнопения.
Настоятелем церкви Святого Варнавы являлся преподобный Альфред Герни, эстет, любитель живописи и литературы, оперных постановок и верховых прогулок. Он был знаком с семьей Бердслея еще по Брайтону, когда служил викарием в приходской церкви. Альфред Герни близко дружил с отцом Джорджем Чапменом из церкви Благовещения. Не исключено, что именно последний и посоветовал Мэйбл по возвращении в Лондон обратить свой взор на храм Святого Варнавы. Экземпляр религиозных стихов Герни «Рождественский хворост» с надписью «Мэйбл Бердслей на Рождество 1885 г., от автора» свидетельствует о том, что девушка так и сделала.
Отец Альфред жил в приходском доме, примыкавшем к церкви. Старинная мебель, картины прерафаэлитов и слуги в ливреях переносили атмосферу эстетического величия из храма в домашнюю жизнь священника. Бердслеи были вхожи в этот дом – иногда после воскресной утренней службы их приглашали на ланч. Обстановка в гостиной Герни свидетельствовала о богатстве и утонченности вкусов священника и разительно отличалась от тусклой половинчатой респектабельности меблированных комнат в доходном доме мистера Гарднера. Здесь Обри, движимый любовью к прекрасному и изящному, особенно остро понимал, чего он лишен.
В доме бывали братья священника Эдмунд и Уильям, а также их овдовевшая тетушка миссис Рассел Герни, много денег вложившая в обустройство и украшение церкви Вознесения на Бэйсуотер-роуд. Иногда его посещали лорд и леди Галифакс. Частым гостем был постоянный органист храма Г. У. Палмер, редактор прославленной коллекции церковных гимнов и наряду с отцом Альфредом Герни горячий поклонник Рихарда Вагнера. Разумеется, приходили и младшие клирики. Кстати, среди викариев отца Альфреда был человек, носивший звучное имя Оскар Уайльд[19].
Частым гостем являлся Джеральд Сэмпсон со своим братом Джулианом. Они не один раз встречались с Бердслеем за ланчем. К обществу взрослых часто присоединялись дети, и Обри, которому лишь недавно минуло 16 лет, еще помнящий о своих громких школьных успехах, был рад общению с ними. Он подружился с Элен, семилетней дочерью Эдмунда Герни, и нарисовал иллюстрации к ее стихам о героях Гомера. Когда Обри участвовал в беседе взрослых людей, он чаще говорил о музыке и демонстрировал свою любовь к ней, садясь за фортепиано, чем о живописи. Отец Альфред благосклонно относился к юноше, а Палмер нашел в Обри еще одну душу, не оставшуюся безучастной к немецкой опере[20] [3].
В конце лета 1889 года Бердслей встретился с Артуром Кингом, который был в Лондоне проездом, на обратном пути из отпуска, проведенного во Франции. Кинг недавно получил должность секретаря в Блэкбернском техническом институте и в сентябре должен был приступить к работе, а Бердслей собирался начать служить в страховой компании. Конечно, главной темой их разговора стала современная французская культура. Кинг был очарован живописью и литературой Франции и жаждал поделиться со своим молодым другом впечатлениями. В конце беседы он заметил, что во внешнем облике Обри есть нечто, особенно родственное галльскому духу. Это субъективное наблюдение, подкрепленное энтузиазмом Кинга, пробудило в юноше новые устремления. Его предыдущие культурные изыскания ограничивались родной Англией. Французская литература оставалась неизведанной и заманчивой далью. Шанс изучить ее выдался раньше, чем ожидал Обри, и более драматическим образом, чем он мог предполагать.
Осенью 1889 года здоровье Бердслея, долго находившееся в состоянии иллюзорного равновесия, резко ухудшилось. Первичный туберкулезный очаг, почти 10 лет пребывавший если не в спячке, то в дремоте, пробудился. Ритм и напряженность лондонской жизни и работы, душная контора и переполненные омнибусы, а также физические перемены, связанные с взрослением, угрожали неблагоприятным развитием событий. В легких Обри начали формироваться каверны. Он часто чувствовал слабость и быстро уставал. Ночью он метался в лихорадке, а днем мучительно кашлял и пристально рассматривал свой носовой платок, опасаясь увидеть на нем кровь. Еще до окончания года был и первый грозный знак – внезапное неудержимое горловое кровотечение. Разумеется, о работе больше не могло быть и речи.
Нужно было проконсультироваться с врачом. Обри привезли на Кавендиш-сквер к Саймсу Эдмунду Томпсону, специалисту по туберкулезу во втором поколении, который много писал о том, как важен для таких больных климат. Доктор осмотрел Обри и объявил, что шокирован общим состоянием здоровья пациента. Томпсон поразился, что юноше так долго удалось жить без рецидивов заболевания. При этом никакого практического решения он не предложил, если не считать предписание снизить все нагрузки и соблюдать полный покой. Не исключено, что, если бы на этом этапе своей жизни Обри мог нормально отдыхать на свежем воздухе, он поправился бы, но вместо того, чтобы отправить юношу в санаторий в горах, его уложили в постель в доме на Кембридж-стрит, 32 (правда, окно в комнате открыли, но было ли это к лучшему?) и предоставили самому себе.
Сначала Обри довольно смутно понимал, насколько серьезно его положение. Хотя кровотечение несомненно напугало его, после консультации он написал Кингу, что на самом деле у него слабое сердце, а легкие вовсе не пострадали. Это явно было ошибочным толкованием замечаний Саймса Томпсона. Как долго Обри настаивал на собственной интерпретации, неясно. Возможно, доктор намеренно старался успокоить своего пациента и направил его внимание в сторону от причины болезни, а может быть, Бердслей просто неправильно понял эскулапа. Тем не менее полный упадок сил, самый очевидный симптом болезни, нельзя было оставлять без внимания. Отдых был не только предписанием врача, но и абсолютной необходимостью [4].
При этом вынужденном безделье Обри искал утешения в книгах. Он перечитал все медицинские энциклопедии, пытаясь узнать о своей болезни как можно больше. Кроме того, он много читал поэтов-романтиков и по совету Кинга обратился к французской литературе. Обри с огромным удовольствием прочитал Расина и перешел к романам – это были «История кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево, «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера, «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына. Далее последовали сочинения Альфонса Доде, Дюма-отца и Эмиля Золя, но самое главное – великого Оноре де Бальзака. Обри прочитал всю «Человеческую комедию» и очень гордился этим. Некоторые книги были переведены на английский язык, но большую часть Бердслей прочитал в оригинале. Его школьные познания во французском улучшились до такой степени, что он хвастался, будто читает на языке галлов почти так же легко, как по-английски.
Значение всего этого трудно переоценить. Из медицинских справочников Обри узнал много интересного о своей болезни, но еще больше о курьезах природы, в частности об аномалиях развития – внешнего и внутреннего. Из жизнеописания Китса и «Дамы с камелиями» Бердслей узнал миф о больных чахоткой как об обреченных гениях и начал примерять его к себе.
Французские романисты говорили о том, о чем английские молчали. Обри стало известно, что мужчины могут любить не только женщин, а также о женщинах, считавших своим отечеством остров Лесбос. Флобер, аббат Прево, Бальзак и другие авторы помещали плотскую любовь в центр человеческого бытия. Они говорили о ней с откровенностью, невозможной для английских романистов. Это можно было прочитать, правда скорее между строк, и в драмах эпохи Реставрации, которые Бердслей хорошо знал и любил, но во французских романах чувственность, часто за гранью приемлемого в викторианском обществе, переносилась в современную обстановку и хорошо знакомые ситуации.
То, что узнал Обри, потребовало выхода в его творчестве. Он сделал серию небольших эскизов чернилами и акварелью, изображавших некоторые его любимые сцены и персонажей: Эмму Бовари, Манон, кузена Понса и Маргариту Готье – даму с камелиями. Вдохновился он на литературные изыскания. Бердслей попробовал написать юмористический рассказ, изобилующий туманными намеками. Хотя история, изложенная от первого лица, повествующая о том, как влюбленный попал в немилость к своей невесте после того, как она обнаружила написанное им шутливое признание в любви другой женщине в альбоме своей подруги, еще далека от откровений французского реализма, она указывает на то, что Обри в полной мере осознал, как велики возможности литературы. Более того, рассказчик подверг суровой критике безнадежно недалеких людей, которые своим любимым поэтом считают Шекспира, композитором Бетховена, а художником Рафаэля. Это свидетельствует о том, что погружение в пучину французских романов придало Бердслею дополнительную уверенность в своих «неправильных» устремлениях. В рассказе есть упоминание о том, что главному герою удалось счастливо избежать бед «нарушенного обещания», и здесь нельзя не увидеть аллюзии к судьбе отца.
Если посчитать, что рассказ намекал на новое представление о дозволенном и запретном, в нем также можно увидеть и средство их достижения. Бердслей послал «Историю об альбоме признаний» в популярный еженедельник «Титбитс»[21] и сразу добился успеха: рассказ был принят к публикации.
Обри по-прежнему оставался в постели в своей комнате или в большом кресле в семейной гостиной, но его писательские и художественные труды выходили далеко за рамки полного покоя, предписанного врачом. Утомляло Бердслея и постоянное чтение. Кровотечение повторилось, потом еще раз и еще. По собственному горестному признанию, Обри провел Рождество 1889 года, склонясь над рукомойником. Но начало следующего года оказалось радостным – 4 января был опубликован его рассказ. Бердслей получил чек на 30 шиллингов. После локальных литературных триумфов в «Прошлом и настоящем» и «Брайтонском обществе» это стало настоящим успехом, хотя и не национальной славой: публикация осталась без подписи. Однако гонорар оказался вполне осязаемой мерой – он превышал недельный заработок младшего клерка [5].
Приятные воспоминания об этом скрасили первые месяцы 1890 года и несомненно способствовали постепенному восстановлению сил Обри. Кроме того, он решил, что ставить знак равенства между неделей, проведенной в конторе над бухгалтерскими книгами, и одним днем, потребовавшимся ему на написание короткого рассказа, глупо. Бердслей с гордостью осознал, что люди готовы платить за его литературный труд, и это осознание в конце концов привело к глобальным переменам. Если он хочет избежать прозябания в Сити и чего-то добиться в искусстве, это должно быть связано со словами, а не с рисунками. Обри решил принести кисть и карандаш в жертву перу.
В начале мая Бердслей с присущим ему драматизмом собрал лучшие из своих недавних рисунков чернилами и акварелью, сложил их в альбом и торжественно поставил на нем свое имя и дату. Отныне он собирался стать писателем, а еще лучше – драматургом. Обри, по-прежнему горячо любивший театр, решил написать пьесу. Движимый честолюбием, он взялся за трехактную драму, но дальше первого акта не продвинулся. По крайней мере, он закончил монолог главного героя [6]…
В конце июля Обри после фальстарта в прошлом году предстояло приступить к работе в страховой компании, и его горизонт сноваугрожающе сузился. Расстраивали Бердслея и дела сестры. Мэйбл отлично сдала экзамены и получила возможность учиться в Ньюнэм-колледже Кембриджского университета, но была вынуждена отказаться от этой перспективы – оплачивать учебу не представлялось возможным[22]. Она поступила на работу – стала учительницей старших классов. В сентябре ей тоже предстояло выйти на службу.
В середине июля в Лондон приехал Кокран, и друзья провели вместе чудесный день. Они сходили на дневное представление комедии «Как вам это понравится» в театре «Лицеум». Розалинду играла американка Ада Реан. Кокран по-прежнему был одержим театром, он тяготился работой в конторе и мечтал служить Мельпомене. В трудные времена его неистребимая энергия и оптимизм придавали Обри сил. Возможно, они также затронули струны в душе Мэйбл, поскольку она мечтала о сцене и больше стремилась к успеху на подмостках, чем у классной доски.
В тот день Кокран попросил Бердслея написать пьесу для него. В ноябре он хотел выступить на встрече выпускников Брайтонской средней школы и подумал, что его одаренный друг сможет сочинить что-нибудь подходящее. Обрадованный этой перспективой, Обри приступил к работе и действительно быстро написал одноактную комедию положений. Сюжет был простым – два соседа с одинаковым именем Чарли Браун то и дело попадали в нелепые ситуации[23].
Утром 30 июля Бердслей отправился на Ломбард-стрит. Ему предстояло провести первый день в конторе компании по защите от пожаров и страхованию жизни в качестве младшего клерка. Жалованье – 50 фунтов в год… Работа была неинтересной и утомительной. Обри сидел на высоком табурете, оформляя страховые полисы, а его мысли блуждали где-то далеко. По словам Артура Кинга, его ошибки оказались столь многочисленными, сколь многочисленными были эскизы, сделанные во время обучения в Брайтоне.
Фирма гордилась тем, что ее клиентами являлись многие аристократы, и подчеркивала свое серьезное отношение к делу, но младшие клерки с радостью принимали все, что давало им возможность отвлечься от скучной работы, и приветствовали тех, кто мог их развеселить. До прихода Бердслея местной звездой был молодой клерк, имевший дар подражания, который оживлял скучные часы присутствия импровизированными представлениями (он недавно покинул контору и поступил на сцену). Обри взял это на заметку. Популярность в школе ему снискали карикатуры, и он попытался разыграть эту карту на службе. Один знакомый, бывавший на Ломбард-стрит, вспоминал, как Бердслей изобразил его на листке из блокнота, в котором он набрасывал черты многих своих сослуживцев, а также делал превосходные портреты старших сотрудников компании, придавая им несколько карикатурный вид. Один из них оказался поразительно точным. Обри отступил в темный угол конторы, прежде чем показать его. С этого места его знакомый мог видеть самого чиновника, сидевшего за стеклянной перегородкой, и оценить мастерство карикатуры. Такой забавы было достаточно, чтобы Бердслей стал чрезвычайно популярен среди коллег.
Рисование карикатур обострило его восприятие, так как требовало пристального внимания к деталям реальной жизни. Глубина сосредоточенности Бердслея и страсть к рисованию стали очевидными, когда, поддавшись внезапному побуждению набросать портреты двух колоритных посетителей из сельской глубинки, он безнадежно испортил важный документ, который переписывал в то время, – стал рисовать прямо на нем [7].
Интерес Обри к живописи способствовал его дружбе с А. Дж. Пэрджетером, молодым клерком, сидевшим на соседнем табурете. Тот тоже имел «художественные устремления». Во время ланча они часто ходили по книжным магазинам и лавкам, торгующим гравюрами и эстампами, а по выходным дням посещали Британский музей и публичные художественные галереи. Молодые люди шутили, что и в их конторе есть нечто, представляющее интерес с художественной точки зрения, – портреты учредителей и бывших председателей компании и картина с ее эмблемой («Минерва в своем храме»), заказанная нынешними руководителями сэру Эдварду Пойнтеру, члену Королевской академии художеств. Это псевдоклассическое полотно висело как раз над ними. Хотя Бердслей говорил, что картина вносит в их повседневную работу струю свежего ужаса, она была напоминанием о существовании за пределами Ломбард-стрит мира искусства.
Обри и его новый друг часто ходили в книжный магазин Джонса и Эванса на Куин-стрит, недалеко от Чипсайда. Ассортимент здесь был огромный, а отношение к посетителям, листавшим книги, снисходительное, поэтому магазин славился как университет для клерков из Сити. Бердслей стал прилежным студентом этого университета. Его можно было застать там каждый день во время ланча: бледный, угловатый, погрузившийся в издания XVII–XVIII века, он вскоре привлек внимание Фредерика Эванса, одного из совладельцев магазина.