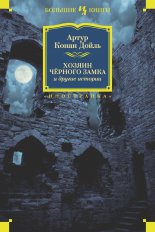Обри Бердслей Стерджис Мэттью

В 1895 году Леонард Смитерс расширил издательскую деятельность. Побудил его к этому Артур Саймонс. Джон Лейн отверг третий сборник его стихов «Лондонские ночи» как чересчур откровенный по манере и слишком непристойный по существу. Другие авторитетные издательства тоже отказали Саймонсу. Враждебная атмосфера вокруг Уайльда сделала издание проблематичным. Расстроенный Артур обратился к Смитерсу. Для человека с таким неоднозначным опытом стихотворения Саймонса о «легкомысленной любви» выглядели невинной забавой, весьма привлекательной с коммерческой точки зрения. Вероятно, Смитерс также увидел для себя более широкие горизонты. В то время как издательство Bodley Head беспорядочно отступало по всем фронтам, он мог стать издателем «нового движения». Саймонс, несомненно, поддерживал его и убеждал отказаться от явной порнографии ради эротической поэзии – это его шанс войти в историю книгоиздания и литературы конца XIX века [14].
То, что в «Желтой книге» отказались от услуг Обри, для Смитерса стало подарком судьбы. У него зрела идея основать новое периодическое издание, соперничающее с «желтым» журналом, которое будет витриной для рисунков Бердслея, поэзии Саймонса и работ других апологетов авангарда. Артур мог бы стать литературным редактором, а Обри – отвечать за иллюстрации. Саймонс охотно согласился. Оставалось договориться с Бердслеем, но предполагаемый художественный редактор временно выбыл из строя. Его уложил в постель врач – у Обри опять были сильный приступ и кровотечение. С другой стороны, проект выглядел слишком привлекательным, поэтому медлить не хотелось. Саймонс, если не сам Смитерс, поспешил на Честер-террас.
Сначала он испугался, что опоздал: Бердслей, мертвенно-бледный, лежал на кровати с закрытыми глазами. Не тут-то было! Услышав предложение Саймонса, Обри сразу ожил и оказался полным идей и энтузиазма. Перед ним открылась заманчивая перспектива: издание будет новой точкой приложения его сил, возможностью похоронить «Желтую книгу» и снова обрести постоянный доход.
Времени оставалось мало. Смитерс надеялся подготовить первый выпуск до конца года, поэтому нужно было немедленно искать авторов. К середине лета Лондон почти опустел. Саймонс отправился в Дьеп. Обри удерживала в городе работа над «Ключевыми записками». Он часто виделся со Смитерсом и молодыми литераторами и художниками, собиравшимися вокруг скандального издателя. Лейн отверг сборник стихов Вратислава, и тот встал под знамена Смитерса. Доусон и Кондер последовали за ним, как и Артур Мейчен, автор двух книг в серии «Ключевые записки». Дал согласие сотрудничать Герберт Хорн – поэт, архитектор, историк искусств и антиквар, член Клуба рифмачей, редактор The Hobby Horse, который выпускала Гильдия столетия. Даже Макс Бирбом вошел в орбиту новой группы. Смитерс, где только мог, говорил, что будет издавать все, чего боятся другие [15].
Сыграло свою роль и знакомство Бердслея с состоятельным студентом Кембриджского университета Джеромом Поллиттом. Увлечение декадентским искусством и тяга к переодеваниям снискали ему своеобразную известность. Комнаты Джерома в Тринити-колледже были украшены репродукциями рисунков Бердслея. Поллитт являлся членом кембриджского театрального общества «Огни рампы» – танцевал там в женском платье под сценическим псевдонимом Диана де Ружи (видно, не остался равнодушным к звезде парижского кабаре Лиане де Пужи).
Снимок Поллитта в образе женщины был выставлен на фотосалоне рядом с фотопортретом-«гаргульей» Бердслея работы Эванса. Возможно, это и подтолкнуло Поллитта к знакомству с художником. Он прислал Обри письмо с просьбой сделать для него экслибрис. Несмотря на публичное заявление Бердслея больше не заниматься такой работой, он согласился и назначил встречу.
Судя по всему, Бердслей сразу заинтересовался представителем золотой молодежи, который был на несколько месяцев старше его, но все еще продолжал учиться. У Поллитта было много того, чего не хватало Бердслею и чем ему очень хотелось обладать: приятная внешность, здоровье, богатство, хорошее образование. Имелось у них и кое-что общее: молодость, позерство и восхищение творчеством – у Бердслея своим, у Поллитта – тоже его. Это стало хорошей основой для новой дружбы, отличавшейся от полусопернических отношений с Бирбомом, Сикертом и Ротенштейном или от квазиродственных отношений с Раффаловичем и Смитерсом.
Здоровье Бердслея немного улучшилось, и он снова взялся за работу. В середине августа Обри сказал, что поедет путешествовать по всему свету, хотя это было попыткой выдать желаемое за действительное. Судя по всему, он ненадолго съездил в Германию, желая проникнуться ее атмосферой, чтобы в ближайшем будущем вернуться к «Истории о Венере и Тангейзере». Возможно, его также вдохновили рассказы Раффаловича и Грея. Нам почти ничего не известно о немецком маршруте Бердслея. Вероятно, он посетил Мейер-Грефа в Берлине и обсудил с ним возможность участия в периодическом издании Pan, а также останавливался в гостинице Englischer Hof в Кёльне. Во всяком случае, Обри пользовался ее писчей бумагой для своих сочинений. Одним из манерных жестов Бердслея в то время было заявление, что он не может рисовать нигде, кроме Лондона, поэтому пришлось отдать дань литературе и работать над комментариями к «Истории о Венере и Тангейзере».
Он решил, что книгу, несмотря на давнишнюю договоренность с Лейном и анонсы в его каталогах, будет издавать Смитерс и сначала она появится в виде серийных выпусков в новом журнале. Чтобы этот план было легче воплотить в жизнь, Бердслей предполагал переименовать свое сочинение в «Королеву в изгнании», заметив, что под таким названием Лейн даже не заподозрит, что это его книга.
Ближе к концу августа он приехал в Дьеп и встретился там с Саймонсом и Кондером. Смитерс курсировал между Англией и Францией. Ожидалось также прибытие Доусона и Герберта Хорна. Обри поселился в Htel Sandwich и отправил Мэйбл телеграмму с предложением присоединиться к нему [16].
В 90-е годы XIX столетия Дьеп обладал волшебной аурой, гордясь своим романтическим прошлым и предлагая восхитительное настоящее. Это был курорт для королей и императоров, художников и музыкантов. Его посещал Делакруа. Лист провел здесь целое лето. При этом городок еще не был облюбован обывателями и модниками обеих столиц – Парижа и Лондона. Здесь сохранилась благочинность старого нормандского морского порта с рыбным и овощным рынками, замком, двумя старинными церквями и гостиницами на набережной. Центром городской жизни стало казино и веранда перед ним. Здесь собирались все – по утрам у купальни, в отдельные вечера на балах и концертах и ежедневно за игорными столами. Даже азартные игры выглядели мило: отдыхающие ставили деньги на «лошадок» на миниатюрном механическом ипподроме.
Дьеп был популярен среди французской буржуазии, а также у некоторых аристократов и респектабельных англичан. Наряду с этим имелась литературно-художественная «прослойка», к которой принадлежал Бердслей. Эта группа была необычной в том смысле, что являлась многонациональной. Одним из ее светил стал Фриц Таулоф, огромный рыжебородый норвежский художник, живший здесь с женой и двумя детьми. Таулоф – крупнейшая фигура скандинавского искусства конца XIX века – выступал за самостоятельную ценность искусства и распространение его за пределы круга интересов обывателей. Он в основном работал над городскими пейзажами, всегда на открытом воздухе, изображая идущих по улицам людей. Кроме того, Таулоф славился своими зимними работами и особенно изображением снега.
Душой общества был француз Жак-Эмиль Бланш. Его семья владела виллой в Бас-Форт-Блан, и там часто собирались писатели и художники. Стены виллы украшали картины Дега, Коро и Мане. В студии, где он работал, Бланш повесил сцены из легенды о Тангейзере Ренуара. А в конце сада стояла небольшая беседка, где текли неторопливые разговоры и устремлялись в полет новые идеи…
Бланш, воспитанный во французской традиции интеллектуального гостеприимства, чувствовал себя обязанным приглашать молодых английских художников и писателей, которые приезжали в Дьеп, и знакомить их с французскими собратьями по перу и кисти. Он рано признал гений Сикерта, искал знакомства с Кондером, увидев его картины в Париже и восхитившись ими, и подружился с Саймонсом. Бердслей, приехав в Дьеп, немедленно попал в этот круг.
Бланш отнесся к Обри настороженно. Ему не нравились работы Бердслея, и он не одобрял его связи с легкомысленным изданием Couttier Franais. Тем не менее молодой англичанин его очаровал. На Бланша произвели неизгладимое впечатление познания Бердслея во французской литературе, его почтение к Корнелю, Мольеру и Расину, способность цитировать их произведения и, разумеется, любовь к Жорж Санд, Шатобриану и Бальзаку. Дед Бланша имел честь быть представленным Бальзаку и общаться с ним, но, по замечанию француза, Бердслей знал персонажи «Человеческой комедии» как членов собственной семьи. Помимо личного обаяния и эрудиции Бланш оценил стиль англичанина. Ему импонировало то, что Обри, одаренный самыми чудесными способностями, был рад коротать время за серьезными разговорами и шутками, акцентируя внимание собеседников на своих остротах постукиванием толстой трости и на ходу сочиняя «такие откровенные истории, что лучше бы он рассказывал их по-гречески» [17].
Бердслей стал часто сиживать в беседке на вилле в Бас-Форт-Блан и оказался желанным гостем в студии Бланша. Отметим, что этот художник, как и сам Обри, не получил специального образования и может рассматриваться как самоучка. В начале карьеры его поддерживали Фантен-Латур и Мане. Жак-Эмиль Бланш стал популярным живописцем в артистических, интеллектуальных и буржуазных кругах в конце XIX столетия. Его полотна, безусловно, являются лестным отражением окружающего мира. Работы Бланша написаны в блестящей технике, мягкие мазки и приглушенная цветовая гамма его портретов напоминают технику Эдуара Мане и английских художников XVIII века, в первую очередь Томаса Гейнсборо.
Бердслея также можно было видеть на веранде казино и за столиком в Caf des Tribunaux. Здесь обсуждалось много важных вопросов. Обри и Саймонс обдумывали планы нового журнала. Ему нужно было дать удачное название, и в конце концов Мэйбл предложила «Савой». Название сразу прижилось. Оно совмещало модность и театральность с топографической аллюзией на Смитерса – магазин на Эйрондел-стрит находился в лондонском районе, некогда известном как Савой. Название также содержало двусмысленную ссылку на роскошный отель, часто фигурировавший в свидетельских показаниях во время суда над Уайльдом как место соблазнения и разврата.
Велась оживленная дискуссия о тоне, который следует выбрать журналу. Что лучше: отступить после трагедии Оскара Уайльда и реакции на нее обывателей или перейти в наступление? Должны ли они провозглашать свое право на обращение к запретным темам, необычным художественным формам и поиску «нетрадиционной» красоты? Или имеет смысл попытаться искать безопасность в конформизме? Бердслей имел на все совершенно определенные взгляды. Кондер, например, сначала вообще думал, что это он, а не Саймонс будет редактором журнала. Обри хотел поднять брошенную перчатку и иногда выражал это желание чрезмерно горячо. Тот же Кондер как-то раз сказал в частной беседе Ротенштейну, что Бердслея распирает от самомнения.
Все понимали, что Обри в новом издании отводится особая роль: он будет делать обложки, титульные листы, давать в каждый номер несколько рисунков, а также писать стихи и прозу. Некоторые полагали, что Смитерс вообще основал «Савой» только для того, чтобы Бердслей мог реализовать свои амбиции. В том, что касалось других авторов, Обри пошел по проторенному пути: рядом были Ротенштейн и Кондер, и Бланш согласился сотрудничать. Бирбом и Пеннелл находились в Лондоне, но на них всегда можно было рассчитывать. Сикерт, уехавший в Венецию, тоже был готов оказать поддержку. В попытке добавить к списку более известные имена Бердслей заказал Пеннеллу статью об иллюстраторах 60-х годов, оправдывавшую публикацию репродукций Сэндиса и Уистлера.
Одним из новых рекрутов стал Чарлз Шэннон. Его принципы неучастия в других изданиях, кроме The Dial, остались в прошлом. А может быть, это Ротенштейн, выставлявшийся вместе с ним в прошлом году, использовал свой дар убеждения? Так или иначе, Шэннон предоставил литографию.
По тону, как и по наполнению, художественная сторона журнала мало чем отличалась от первого выпуска «Желтой книги». Единственным из видных авторов, не принимавших участия в проекте, был Стир. Бердслей остался в тесном кругу своих коллег в Дьепе, лондонском Кафе-Рояль и Клубе новой английской живописи. Литературное содержание ежеквартального издания оставили на усмотрение более консервативного Саймонса. Он тоже собирал материалы у своих друзей – статью о творчестве Эмиля Золя у Хэйвлока Эллиса, два стихотворения и рассказ у своего нового друга У. Б. Йейтса, эссе «О критике» у Сельвина Имиджа, стихи и прозу у Доусона, но сонавал необходимость расширить сей список и попросил написать статьи Бернарда Шоу и известного критика Фредерика Уэдмора.
Саймонс также сочинил предварительное «издательское уведомление», где, в частности, было сказано следующее: «Все, чего мы просим у наших авторов, – это хорошая работа, которую мы предлагаем нашим читателям… У нас нет строгих правил, и нам не нужно фальшивое единство формы и содержания. Мы не изобретаем новую точку зрения. Мы не реалисты, не романтики и не декаденты. Для нас является хорошим любое действительно хорошее искусство». Заявление о том, что они не декаденты, в суровой атмосфере того времени сочли необходимым. Сам Бердслей с нарастающим раздражением относился к термину, который не служил никакой иной цели, кроме подчеркивания его связи с Уайльдом [18].
Бердслей всегда говорил, что не может рисовать нигде, кроме Лондона. Дьеп не стал исключением. Обри заявил, что постарается найти утешение в литературных трудах. Он хочет писать стихи, планирует закончить эссе об одном из лучших французских романов XVIII века – «Опасных связях» Шодерло де Лакло и задумал большую статью о Жан-Жаке Руссо. Бердслей даже лелеял надежду перевести «Исповедь» Руссо, но его планы быстро менялись, и многое осталось незавершенным. Сидя в одном из кафе – всегда спиной к морю – или на тенистой веранде, он добавлял одну-другую фразу, вставлял очередной эпитет либо, забывая о своей неспособности к рисованию за пределами столицы, делал набросок. Чаще всего Обри рисовал людей, проходивших по набережной.
«История о Венере и Тангейзере» между тем постепенно превращалась (возможно, под влиянием общения со Смитерсом) в эротическую фантазию за гранью приличного. Там появились описание оргии сатиров и эпизод, где Венера ласкает своего ручного единорога, сконфузивший даже Леонарда. Смитерс уже понимал, что опубликовать сие произведение в авторской редакции будет невозможно. Прежде чем «Венера…» появится в «Савое», ее понадобится сделать такой, чтобы читатели нового журнала не отправились с ним в суд. Кроме того, Смитерс напомнил Обри, им нужно новое название, чтобы туда же не пошел Лейн.
Словом, «Историю о Венере и Тангейзере» на тот момент работы над ней переименовали. Теперь она называлась «Под холмом». Аллюзия просматривалась не только анатомическая – на mons veneris[103], но и топографическая – «Под холмом» называлась семейная усадьба Мора Эди в Вуттон-Андер-Эдж, графство Глостершир. Кто-то увидел даже перекличку с популярным в то время сборником детских стихов «Под окном», проиллюстрированным Кейт Гринуэй[104]. Смитерс собственноручно отредактировал откровенно порнографические эпизоды, но эротический заряд и экстравагантность текста никуда не делись.
Имена главных героев тоже пришлось изменить. Венера превратилась в Елену, а Тангейзер сначала был переименован в аббата Обри, а потом стал аббатом Фанфрелюшем. Тем не менее отождествление Бердслея с его героем не исчезло: слово Abb совпадало с французским произношением его инициалов[105] [19].
Саймонс, всегда внимательный к тому, что он называл чувствами и впечатлениями, написал о Дьепе статью, которую вполне можно было бы назвать импрессионистской, и сочинил о нем стихотворение, где сравнивал море с абсентом. К литературным изысканиям Бердслея он относился скептически и не видел в его сочинениях прирожденного дара. Впоследствии Саймонс вспоминал, что Обри провел целых два дня на заросших травой бастионах старого замка Арк-ла-Батай, сочиняя стихотворение, движимый только упрямством – он во что бы то ни стало хотел продемонстрировать всем, что его муза не осталась в Лондоне.
«Купальщицы», иллюстрация к статье Артура Саймонса о Дьепе (1895)
В конце концов оно было написано. Героями стихотворения, как видно из его названия – «The Three Musicians», стали три персонажа, объединенные страстью к музицированию: пианист, певица сопрано в легком муслиновом платье и изящный юноша-тенор, чьи помыслы разрываются между желанием добиться благосклонности певицы и намерением стяжать славу оперного певца. Они проводят лето в сельской местности, где расположен дом певицы. Бердслей описывает прогулку. Пианист, который бредет позади, срывает несколько маков и начинает дирижировать воображаемым оркестром. Юноша решается сказать певице о своих чувствах, и свидетелем этой сцены становится британец, случайно проходящий мимо.
- Так мальчик милый пал к ее ногам,
- Соизмеряя мужество с позором,
- Свой пыл возносит к солнечным лучам;
- Меж тем турист пронзает гневным взором
- Полдневный зной, и рдеет возмущеньем,
- И, в разговорник заглянув, молит
- Французским нравам даровать прощенье[106].
Бердслей намекал на то, что прообразом сопрано могла быть Софи Ментер, немецкая пианистка, любимая ученица Франца Листа, а в «милом мальчике» у ее ног есть что-то от него самого. Образ чопорного англичанина, возмущенного всем увиденным, явно был связан с воспоминаниями о поездке в Версаль с Джозефом Пеннеллом и их общими знакомыми два года назад. При этом образы Обри трудно назвать оригинальными: фигура пианиста-виртуоза, дирижирующего перед цветущим лугом, явно заимствована из воспоминаний Жорж Санд, описывавшей прогулку Листа по сельской местности. Эта эмоционально сильная сцена будоражила воображение Бердслея, и впоследствии он неоднократно возвращался к ней.
Время шло. Проведя в Дьепе несколько недель, Обри был вынужден поступиться принципами: он начал рисовать. Продолжительный отдых дал ему возможность прислушаться к себе. Бердслей находился в поиске нового стиля, нового способа самовыражения. Он очень не хотел стать предсказуемым и по-прежнему желал славы. В те дни Обри сказал кому-то из знакомых, что собирается изменить свой стиль, так как боится, что его техника и образы станут основой художественной школы.
Год назад он заявил журналисту Today, что одним из главных факторов, повлиявших на его творчество, стало французское искусство XVIII века. Тогда в его работах этого не было видно, но теперь те слова нашли подтверждение. Скрупулезное изучение манеры Ватто, Ланкре, Сент-Обена, Дора и мастеров французской иллюстрации не прошло для Обри без следа.
К работе над обложкой для «Савоя» его стимулировали это новое чувство и старая тяга к эпатированию читателей и зрителей. В результате Бердслей создал эффектный образ – женщина в костюме для верховой езды в заросшем саду. Образ был, конечно, не только эффектным, но и скандальным: херувим в шляпе и плаще у ее ног мочился на экземпляр «Желтой книги». Обри принес в жертву и расположение плотных масс черного цвета на белом фоне, свойственное почти всем рисункам из журнала Лейна. В данном случае Бердслей предпочел разнообразие деталей и их тщательную проработку. Он чуть ли не со времен школьных рисунков попытался передать тени и полутона. Кроме того, в шутливом рисунке – Зигфрид с кузнечным молотом в руках, сделанном для Смитерса, Обри впервые использовал перекрестную штриховку. Новые методы были призваны в определенной степени передать эффект французских гравюр XVIII века, которые он коллекционировал. Стоит отметить, что ранние рисунки Бердслея к «Смерти Артура» перекликались с гравюрами на дереве немецких и итальянских художников XV века, а его афиши – с японскими гравюрами. Судя по всему, ему нравилось экспериментировать с историческим материалом и воспроизводить разные стили.
Бланш отметил, что молодой англичанин, что называется, погрузился во французскую культуру XVIII столетия. Он говорил, что это сказалось даже на внешности Обри. Художник передал это ощущение в элегантном портрете Бердслея, который он написал в то лето, – симфонии серебристо-серых тонов с оттенками бледно-розового. Неудивительно, что все признали этот портрет более удачным, чем работу Кондера
Бланш договорился с Александром Дюма-сыном, что привезет Бердслея в Ле Пюи – Обри очень хотел познакомиться с автором «Дамы с камелиями». В последнее время события развивались так, что грустная история Маргариты Готье приобрела для Бердслея особое значение… К удивлению Бланша, он смог очаровать негостеприимного Дюма. Вопросы, которые задавал Обри, показывали, что он хорошо знает и, главное, чувствует текст. Его лесть была тонкой, а комплименты искусными. На прощание автор подарил молодому почитателю своего таланта экземпляр «Дамы с камелиями» с автографом. Обри украсил титульную страницу знаменитого романа рисунком, и книга заняла достойное место в его библиотеке [20].
Бердслей был зачарован Дьепом. Предполагаемый короткий визит растянулся больше чем на месяц. Обри отложил отъезд. Предлог был надуманный. Бердслей сказал, что остался совсем без денег – их нет даже на обратный билет… Трюк не удался. Смитерс предложил свою помощь, и ближе к концу сентября Бердслей все-таки отправился домой.
В Лондоне Обри снова сменил жилье. Он передал право аренды дома на Честер-террас и занял апартаменты № 10 и 11 в Geneux Privat Hotel на Сент-Джеймс-плейс. Теперь Бердслей жил один – у Мэйбл были театральные контракты, и она все чаще уезжала из города. Новое жилье Обри оказалось ближе к магазину Смитерса на Эйрондел-стрит, а кроме того, здесь он чувствовал себя ни от кого не зависимым и обрел уединение. Но апартаменты на Сент-Джеймс-плейс едва ли могли считаться экономным вариантом. А еще именно здесь с октября 1893 по март 1894 года жил Уайльд, что не могло остаться не замеченным недоброжелателями молодого художника. В Geneux Privat Hotel неистовый Оскар писал свою комедию «Идеальный муж» и, как говорили на суде свидетели, тайно встречался со своими любовниками. Тем не менее Бердслей, репутация которого очень пострадала из-за предполагаемой связи между ним и Уайльдом, поселился в тех же самых комнатах. Это можно было расценивать как очередной вызов обществу. Выбор нового жилья, как и название нового журнала, по мнению Обри, призван был разорвать ассоциацию с Уайльдом, доведя ее до абсурда[107]. Конечно, простым совпадением сие стать не могло. Предполагаемые отношения с Уайльдом и то, чем вся эта история обернулась для Бердслея, продолжали досаждать ему – прежде всего тем, что сплетни не смолкали даже после его возвращения из Дьепа и подталкивали к новому эпатажу.
Неотредактированная обложка для журнала «Савой» (1895)
В воспоминаниях Йейтса есть упоминание о том, что у Обри в течение некоторого времени были серьезные отношения с женщиной[108]. Он же пишет, что однажды рано утром Бердслей пришел к Саймонсу в Фонтейн-корт в обществе девушки, которую называл Пенни Плэйн. Обри был пьян после ночной пирушки, а в этом состоянии его мысли постоянно возвращались к несправедливому увольнению из «Желтой книги», хотя оно произошло полгода назад. В то утро в прихожей Саймонса Бердслей долго рассматривал свое лицо в зеркале. Что нового он там увидел, неизвестно, но Обри почему-то впал в тоску. «Да, да, – стал бормотать он. – Наверное, я похож на содомита… Но ведь на самом деле я не такой!» – внезапно воскликнул он. Далее, по словам Йейтса, Бердслей обрушился на своих предков, начиная с Уильяма Питта, – обвинял их во всевозможных грехах и возлагал на них вину за свое нынешнее бедственное положение.
Обри всеми доступными ему способами пропагандировал свое духовное противостояние с Уайльдом в собственных работах. В «Истории Венеры и Тангейзера» имелись аллюзии на опозоренного драматурга: гротескная фигура толстой служанки Венеры с «сиплым дыханием… нечистой кожей… большими отвисшими щеками и многочисленными подбородками» и голосом, исполненным «елейной похотливости», могла кому-то напомнить Уайльда. Иллюстрация автора подчеркивала это сходство. Также возможно, что знаменитое описание неистовым Оскаром его связей с юношами как «пиршеств с пантерами» нашло ироническое отражение в облике гостей Венеры, на плечи которых были наброшены шкуры пантер [21].
Вскоре после возвращения в Лондон Бердслей стали искать встречи с Эдмундом Госсе – своим крестным отцом в литературе. Обри патетически заявлял, что хочет получить у него благословение на издание их нового журнала. Работа над ним была в самом разгаре, как и над рисунками. Уединение в шикарных апартаментах и возможность располагать собой, ни с кем не считаясь, способствовали сосредоточенности. Обри хвалился, что успевает делать поразительно много. В «Савой» он планировал дать три иллюстрации для первой части новеллы «Под холмом» и шесть других рисунков, а его новый стиль требовал невероятной кропотливости и бесконечного терпения. Кроме того, были и другие обязательства.
Считать, что увольнение из «Желтой книги» оставило бы Бердслея не у дел, не произойди встреча со Смитерсом, неверно. Лейн, вернувшись из Америки и осознав последствия своих действий не только для Обри, но и для собственного бизнеса, попытался свести потери – материальные для себя и моральные для Бердслея – к минимуму. О том, чтобы вернуть художника на его должность, не могло быть и речи, но Лейн заказал Обри две книжные обложки[109]. Бердслей принял предложение и при этом настоял на весьма выгодных для себя условиях. Несколько независимых издателей и газетных редакторов тоже увидели свой шанс в разрыве художника с ежеквартальным изданием Bodley Head. Хейнеманн заказал ему плакат. Пеннелл попросил внести свой вклад в антологию стихов и рисунков, прославлявшую деятельность совета Лондонского графства[110], а в The Studio поспешили опубликовать цветную литографию «Изольда». Элкин Мэтьюз попросил Обри сделать фронтиспис для одного из романов, которые он предполагал издать. Вероятно, злость побудила Бердслея предложить Мэтьюзу «Черный кофе» – один из рисунков, исключенных из пятого выпуска «Желтой книги». Он знал, что с него сделали печатную форму, но, видимо, не сказал об этом. Здесь нельзя не увидеть элемент мести, так как право на репродукцию рисунка, как и сама форма, по-прежнему принадлежали Лейну.
Впрочем, увидев «Черный кофе», Мэтьюз счел его непригодным для фронтисписа. Действительно, рисунок не имел никакой связи с романом. Лейн, конечно, узнал о намерениях своего бывшего художественного редактора, но готов был поверить, что инициатором попытки того, что сегодня мы называем пиратством, выступил Мэтьюз. Бердслей с удовольствием рассказал Смитерсу о жаркой схватке Лейна с Мэтьюзом, после чего сделал для Элкина новый рисунок – с мечом, приставленным к груди некоего героя, причем, по словам Мэтьюза, в качестве натурщика выступил сам автор – Уолт Радинг.
В октябре на выставке Королевского общества портретистов появился портрет Бердслея работы Бланша. Сам Обри прислал акварель – даму на лошади, сказав, что это портрет графини д’Армальяк, но, скорее всего, сию аристократку он выдумал. Другими словами, Бердслей оставался верен себе и поддерживал интерес к собственной персоне у публики не раз проверенными и приносящими желаемые результаты способами [22].
Рисунок для буклета журнала «Савой» (1895)
Материалы в «Савой» были собраны, и предстояло сделать рекламный буклет журнала. Бердслей предложил поместить на него Пьеро, расхаживающего по сцене с первым номером нового издания в руке, и впоследствии перенести этот рисунок на титульный лист. Смитерсу образ показался неинтересным. Он сказал, что Джону Булю[111] нужно что-то посерьезнее и поосновательнее. Тогда Обри моментально превратил грустного Пьеро в самого Джона Буля. Новый рисунок, который все сочли превосходным, напечатали на розовой бумаге вместе с редакторским уведомлением Саймонса и выходными данными будущего издания: «120 страниц текста… шесть или больше полосных иллюстраций, независимых от него, плюс проиллюстрированные художниками статьи». Тут же была указана цена «Савоя» – 2 шиллинга 6 пенсов, то есть наполовину меньше, чем стоимость «Желтой книги». 80 000 экземпляров буклета – большая часть тиража – разошлись к тому времени, когда Джордж Мур, внимательно изучивший рисунок, обнаружил, что Джон Буль пребывает в состоянии, как он постарался поделикатнее выразиться, начального полового возбуждения. Выпуклость на его брюках была маленькой, но безошибочно узнаваемой… Мур, указанный в буклете как один из авторов, возмутился этой выходкой Бердслея, которая могла похоронить журнал до того, как он родится.
Мур решил посоветоваться с Эдгаром Джепсоном – своим молодым другом и соседом, который сам надеялся стать автором «Савоя». Они встретились на квартире Джепсона в Кингз-Бенч-Уолк. Собственно, это был целый военный совет – на встрече кроме Мура присутствовали Герберт Хорн, Бернард Шоу и другие мэтры. Праведный гнев Мура и Джепсона разделяли не все, но все сожалели о том, что Обри опять дал повод говорить о себе как об эротомане. Тем не менее следовало что-то предпринять. Шоу выбрали полномочным представителем, которому предстояло выступить от лица шокированных авторов. Драматург пошел к Смитерсу и потребовал не распространять оставшиеся экземпляры буклета. Смитерс удивился: он-то пришел в восторг и считал, что пикантный рисунок только усилит ожидание выхода в свет нового издания. Однако издатель вовсе не собирался противопоставлять свою позицию позиции будущих авторов и дипломатично согласился не распространять буклет, отметив про себя, что почти весь тираж уже разошелся.
Война прекратилась, не начавшись, и для титула Бердслей сделал Джона Буля «более хладнокровным». Безусловно, этот инцидент показал, что у художественного сообщества после суда над Уайльдом сохраняется нервозность, а также еще раз продемонстрировал его лицемерие. Эрнест Доусон отметил, что Джепсон, несмотря на его громогласное возмущение, направил в журнал свой рассказ, «настолько непристойный, что он побоялся подписать его, дабы не запятнать собственную репутацию». После этого рисунки Бердслея для «Савоя» стали рассматривать чуть ли не с лупой. Обложку тоже сочли непристойной. Брошенную на землю «Желтую книгу» и мочащегося на нее херувима авторы потребовали убрать. Джордж Мур счел это оскорбительным для Лейна, а Смитерс, вероятно, не хотел упоминания о конкуренте на обложке своего журнала даже в таком виде.
Тем не менее литературные сплетники не сомневались, что новое издание не станет стесняться и обязательно нарушит приличия. Одним из первых поводов, давшим основания строить такие далеко идущие предположения, было стихотворение Оуэна Симэна, напечатанное в National Observer. Автор писал, что «Желтая книга» теперь превратится в добропорядочное издание, а «новая “Синяя книга”», в которую ушел Обри, окажется еще более скандальной, чем ее предшественница. Наряду с этим Симэн заявил следующее: «…отпечатки Бердслея на страницах “Савоя” будут еще более смелыми».
Стихотворение появилось в ноябре, и предполагалось, что сразу после этого выйдет в свет первый номер журнала, но решение переработать обложку, экстренные замены в литературном разделе и множество мелких типографских проблем отодвинули день рождения «Савоя». В первый номер предполагалось вложить рождественскую открытку работы Бердслея – тщательно проработанную и вполне традиционную, но читатели увидели журнал только в следующем году[112] [23].
В начале зимы Обри возобновил отношения с Раффаловичем. Они снова вместе обедали, ходили на концерты и в театр. Бердслей опять взялся за портрет Андре пастелью, но работа, в отличие от развлечений, еще раз застопорилась. Впрочем, в каждой следующей записке Бердслей упоминал о ее скором завершении. Тон их переписки постепенно изменился. Из дорогого Ментора Раффалович превратился в дорогого Андре. Бердслей перестал быть Телемахом и стал просто Обри.
Художник сообщил дорогому Андре новости о «Савое» («новый журнал, который я вывожу в свет») и познакомил его с издателем. У Раффаловича сохранилась полузабытая рукопись романа, который он написал несколько лет назад, и Бердслей использовал свое влияние на Смитерса, чтобы тот пообещал издать его.
Обри выразил желание проиллюстрировать эту книгу. Он не создал ни одной полноценной серии иллюстраций после «Саломеи» и понимал, что его собственная новелла «Под холмом» появится у читателей не скоро, если им вообще суждено взять ее в руки. Обри хотел проиллюстрировать «Секрет Нарцисса» Эдмунда Госсе, но этот план не воплотился в жизнь. Сам Госсе, не считавший «Секрет…» достойным внимания художника, не был расстроен этим обстоятельством. Он побуждал Обри двигаться вперед и проиллюстрировать не какую-нибудь книгу-однодневку, а признанный шедевр старой английской литературы, который он увидит не так, как его видят все. По свидетельству Госсе, Бердслей обрадовался предложению, но попросил совета: «Поставьте мне задачу. Скажите, что делать, и я это сделаю». Мэтр предложил Обри три сюжета: «Похищение локона» Александра Поупа, «Вольпоне» Бена Джонсона и «Так поступают в свете» Уильяма Конгрива. Последний сразу привлек внимание Бердслея – он хорошо знал пьесу и любил ее. Еще в школе Обри для собственного удовольствия проиллюстрировал эту комедию в собрании сочинений Конгрива из серии «Русалка». Бердслей объявил, что выбирает «Так поступают в свете». Два других сочинения он пока что не «видит».
Тем не менее мысли Бердслея все чаще возвращались к «Похищению локона». Не исключено, что Обри увидел в этой работе возможность противостоять насмешке Уайльда над тем, что он восхищался творчеством Поупа. А может быть, это было влияние Смитерса, который всецело поддерживал его решение проиллюстрировать поэму… Безусловно, у издателя тоже были свои идеи о «подходящих» и «неподходящих» книгах. Так или иначе, Бердслей колебался в выборе между Конгривом и Поупом. И тут Смитерс предложил ему «Лисистрату» Аристофана. Комедия о «забастовке», устроенной жительницами Афин, – они отказали мужьям в своих ласках, не могла не интересовать такого человека, как Леонард. «Лисистрату» давно не переводили и не издавали, но в это время о ней снова заговорили. Комедию поставили в Кракове, и критики приняли ее благосклонно. Зрители и вовсе пришли в восторг – в театре каждый вечер был аншлаг.
Если «Лисистрату» можно поставить на сцене, почему ее нельзя проиллюстрировать? Конечно, тираж не будет большим, но любители почитать Аристофана и посмотреть Бердслея найдутся. Убыточной такая книга не станет.
Обри увлекся этой идеей. Мысль о скрытых возможностях пьесы будоражила его воображение. С неустанной энергией, столь характерной для него, Бердслей взялся за оба проекта. 16 декабря он сказал Смитерсу, что работа над «Лисистратой» продвигается отлично. Завтра утром он принесет первый рисунок. Через несколько дней Обри сообщил Раффаловичу о том, что приступил к иллюстрациям «Похищения локона».
И это еще не все. Бердслей предложил Хейнеманну создать серию – 12 рисунков к «Золушке». Их можно будет публиковать по одному в месяц, например в New Review. Впрочем, последний замысел так и не осуществился. Смитерс все более ревниво охранял свои интересы – он предложил Бердслею еженедельное жалованье в обмен на эксклюзивные права на его работы. Есть утверждения, что сумма составляла 20 фунтов в неделю, но документы указывают на 12 фунтов. Безусловно, и этих денег было достаточно. Стабильность способствовала хорошему настроению, а значит, и творчеству.
В конце года Бирбом опубликовал в The Pageant очередное эссе. Темы и фразы из него он впоследствии воспроизвел в письме Аде Леверсон. Темы были интересные – Макс, в частности, объявил, что готов отойти от дел. Бирбом заявил, что пора уступить место более молодым. «Я чувствую себя безделушкой, вышедшей из моды, – вздыхал он. – Я ведь принадлежу к эпохе Бердслея»[113].
В конце 1895 года эта эпоха действительно стала прошлой [24].
Глава VIII
Сколько еще осталось?
«Пак на Пегасе», иллюстрация для титульного листа журнала «Савой» (1896, № 3–8).
Вечером 22 января 1896 года Леонард Смитерс устроил небольшой званый обед в Клубе новой лирики на Ковентри-стрит. Отмечали выход в свет первого номера «Савоя». Собрание было камерным и сильно отличалось от пышного и многолюдного мероприятия, сопровождавшего выпуск «Желтой книги». Присутствовали, что называется, избранные. В роли хозяина выступал Смитерс, его соратников – Бердслей, Саймонс и Бирбом. Прекрасную половину человечества представляли Мэйбл Бердслей и миссис Смитерс, которая вообще-то редко появлялась на публике.
Компания собралась и ожидала приглашения занять места за столом. Саймонс достал два письма, в которых речь шла об У. Б. Йейтсе (тот, кстати, пришел вместе с молодым литератором Рудольфом Дирксом). Это были послания его высокодуховных литературных друзей, которые единодушно осуждали связь Йейтса с новым ежеквартальным журналом и его издателем. Саймонс стал читать первое письмо. Его автором был член Клуба рифмачей Т. У. Роллестон. Смитерс закричал: «Дайте мне письмо! Дайте! Я подам на этого человека в суд!» Саймонс отвел руку издателя, дочитал письмо и, убрав его в карман, начал читать второе – от ирландского поэта Джорджа Расселла, чей приговор оказался еще более суровым. Расселл назвал новый журнал обителью инкубов и суккубов.
Бердслей внимательно слушал. Потом, возможно заметив смущение Йейтса, который стал объектом этих нападок, он подошел к поэту и сказал: «Вы удивитесь тому, что я собираюсь сказать. Я согласен с мистером Расселлом, но вижу в сотрудничестве с, как он выразился, обителью инкубов и суккубов свои преимущества. Я полагаю, что есть определенное нравственное достоинство в том, чтобы делать работу, которой от тебя ждут, когда гораздо больше хочется заниматься совсем другим». Вероятно, признание Бердслея в сочувственном отношении к духовной жизни подтолкнуло Йейтса к тому, чтобы рассказать художнику о страсти, недавно вошедшей в его жизнь, – оккультизме. За столом Йейтс продолжил беседу с художественным редактором и стал обсуждать фольклорные истории о сатанинских ритуалах.
Увлечение той или иной магией в 90-е годы XIX столетия было повальным. Часто оно являлось своеобразной реакцией на далеко не всем понятные утверждения науки того времени. Многим казалось, что вместо того, чтобы делать жизнь яснее и проще, наука заменяла нерассуждающую веру гораздо менее определенными понятиями – материальность, относительность, дарвинизм. Столкновение с новым, совершенно иным и непредсказуемым миром породило ответное стремление к единству как раз в нематериальном. Кому-то хватало традиционных ценностей религии, а кто-то искал иные пути. В Европе было множество мистических и спиритических обществ каббалистического, розенкрейцерского и других направлений.
Надо сказать, что в 1885 году Йейтс познакомился с Джоном О’Лири, членом ирландского тайного общества фениев, после многолетнего заключения и изгнания вернувшимся в Дублин. Под влиянием нового знакомого он стал писать стихи и статьи в патриотическом ключе – в поэтике Йейтса появились образы древнеирландской кельтской культуры. Потом он заинтересовался оккультизмом. Йейтс, Джордж Расселл и еще несколько человек основали свое общество для изучения магии и восточных религий. Йейтс стал его председателем. Кстати, через два года он присоединился к теософскому обществу Елены Блаватской, но вскоре разочаровался в нем.
С 1890 года он стал членом ордена Золотой зари – магического общества, герметической организации, практиковавшей теургию, магию, алхимию и поощрявшей духовное развитие своих адептов. Йейтс выполнял все ее обряды и очень надеялся получить откровение свыше.
Ранние работы Бердслея, особенно два рисунка, сделанные для Pall Mall Magazine, давали людям основания думать, что он интересуется оккультизмом. Обри действительно иногда принимал участие в спиритических сеансах и даже получал некие «поразительные результаты», но к рассуждениям Йейтса он остался равнодушным. Бердслей с холодным прагматизмом, который всегда выходил на первый план, когда кто-то пытался использовать его склонность к фантастическому в своих целях, дал понять ирландцу, что сатанизм – это вообще не тема для разговоров. Впоследствии на каждую попытку Йейтса возобновить диалог Обри реагировал явно формальными замечаниями: «В самом деле? Весьма увлекательно!» или «Неужели? Как это мило!».
На другом конце стола Саймонс расписывал миссис Смитерс красоты европейских столиц. Потом он признался ей, что никогда не бывал ни в Риме, ни в Париже, ни в Мадриде, и изумился ее изумлению. Замечание Саймонса о том, что лучшая возможная жизнь для художника – путешествия, заставило Йейтса прервать дискуссию об оккультизме. Он бросился спорить, что художник лучше всего работает среди собственного народа и на земле своих отцов. Саймонс ответил, что новые виды, звуки и запахи завладевают разумом человека и обостряют его творческие способности. Когда Йейтс принялся горячо возражать, Элис Смитерс со свойственной ей деликатностью поспешила вмешаться. Она мягко заметила: «Мистер Саймонс похож на меня: ему нравятся перемены, но лучше небольшие, теоретические». Комичный пафос этих слов положил конец спору, но в них была и пророческая ирония. Бердслей, например, утверждал, что не может рисовать нигде, кроме Лондона, но в 1896 году в Дьепе работал весьма плодотворно.
Когда обед завершился, компания переместилась в Эффингем-хаус – квартиру Смитерса, расположенную над книжным магазином. Бердслей внезапно почувствовал себя хуже. Он полулежал на двух стульях в центре гостиной, а остальные собрались вокруг него. Потом Обри прилег в гостевой спальне, а вечеринка продолжилась. Смитерс, утиравший пот с лица, крутил ручку граммофона, а Йейтс, глядевший на веселье с плохо скрываемым раздражением, размышлял, под каким предлогом ему уйти. Так или иначе, этот наполовину комичный, наполовину инфернальный вечер закончился, и «Савой» был явлен миру [1].
В прессе и у читателей первый номер получил по большей части недоброжелательный прием. Редактор считал себя польщенным колкостями, воспринимая их как неизбежную награду подлинному искусству в мещанском мире. Безусловно, реакция была довольно сдержанной по сравнению с той бурей, которая разразилась после выхода в свет первого номера «Желтой книги». Никто не призывал запретить журнал и не требовал к ответу издателя.
Разумеется, последовали сравнения: практически все обозреватели упоминали о «Желтой книге». Довольно часто эти сравнения были благоприятны для «Савоя»: Sunday Times, Academy и Atnenaeum отдавали предпочтение новому изданию. Правда, критик из The Times предположил, что «Савой» окажется разочарованием для тех, кто надеялся увидеть «нечто более аморальное, чем его уже почтенный родитель». Самой враждебной в английской прессе стала газета Star, но, если знать о тесной связи критика под псевдонимом Услужливый с издательством Bodley Head, не приходится удивляться, что она назвала соперничающий журнал эксцентричным, безвкусным и просто очень скучным.
Упомянутую выше эксцентричность почти целиком следовало отнести на счет Бердслея. Не о Шоу, Йейтсе, Саймонсе и остальных же шла речь? Именно Бердслей в общественном восприятии ассоциировался с новым журналом, как было раньше с «Желтой книгой». Он был автором обложки, которую все с первого взгляда признали чисто бердслеевской, а в самом журнале можно было не только увидеть его рисунки, но и прочитать прозу со стихами.
Как художника Обри по-прежнему считали декадентом. Газета Sunday Times, которая, как Бердслей говорил Смитерсу, всегда относилась к нему дружелюбно, хвалила блестящий декоративный эффект его композиций, но согласилась с тем, что его талант находится на службе отчаянного декадентства. Эпитеты были и похлеще, но высказывалось и осторожное признание того, что мастерство Бердслея развивается. Его новый стиль, вдохновленный французской живописью XVIII века, удостоился сдержанных похвал. В Sketch с радостью отметили, что тип «женщины Бердслея» радикально изменился – она, в отличие от своих предшественниц, оказалась почти хорошенькой. Габриэль Лотрек, писавший для Courrier Franais, посчитал работы Обри менее «болезненными», чем раньше, и патетически заявил, что Бердслей обрел новую душу.
Первую часть новеллы «Под холмом» встретили менее однозначно. В Atneneum ее сочли главной темой номера, но хвалить не стали. В Academy историю посчитали, пожалуй, слишком далекой от оригинала. Обозреватель из Star позабавил Бердслея заявлением о своем стойком отвращении к его литературным экспериментам. Но самые сильные крики слышались с той стороны Атлантики: нью-йоркская газета World заклеймила новеллу как новое «извержение бердслеизма», а Sunday Times Herald из Чикаго, не желая отказываться от ассоциаций, возникающих при упоминании художника, с преступным Уайльдом, провозгласила, что это сочинение могло быть написано тем, чье имя сейчас в Англии порядочные люди не произносят [2].
Ада Леверсон предложила Бердслею и его соратникам своеобразную рекламу. Она вызвалась написать сатирическую пародию для Punch. Барнард согласился, и из-под пера Ады вышла шутливая хвалебная рецензия на «книгу недели под названием “Сэйвелой”»[114]. Главное внимание она уделила работам Симпля Сайменса, Вакса Мирбома и Дабуэя Вирдслея – легко узнаваемых персонажей. В отличие от критиков миссис Леверсон хвалила прозаическое сочинение последнего «Под Лудгейтским холмом» за лаконичный и энергичный стиль, абсолютную верность оригиналу и, что важнее всего остального, за его высокие нравственные достоинства.
Бердслей был очень доволен этой пародией не только потому, что она еще раз обратила внимание на его новеллу, но и потому, что в ней появился Симпль Сайменс. Теперь он именно так и называл старого друга. Надо сказать, что отношения между ними в последнее время испортились. Вероятно, Саймонс испытывал, что называется, профессиональную ревность, если не возмущение, тем, что Бердслей вторгся на территорию литературы. Обри, в свою очередь, везде говорил о своих литературных устремлениях, а когда Саймонс сказал, что может помочь ему получить билет члена Библиотеки Британского музея, настоял на том, чтобы представиться литератором, а не художником.
Саймонс, однако, связывал напряженность между ними с инцидентом, касающимся женщины. Есть упоминания о том, что они повздорили из-за певички в кафе «Талия». Бердслей очень дорожил своей репутацией светского человека – образ денди, раз и навсегда выбранный им, должен был оставаться незыблемым. Этому способствовали изысканные ланчи и обеды с Раффаловичем, вечера у Леверсонов, концерты, театры – он не пропускал ни одной премьеры… Но наряду с этим Бердслей стал все чаще заглядывать и в сомнительные заведения, в частности в «Талию». После скандала с Уайльдом прошел почти год, но Обри по-прежнему болезненно воспринимал холодные взгляды искоса, которым не было числа в обществе, даже не самом респектабельном.
Развлечения отнимали много времени и сил, но удивительное дело – на работе это не сказывалось. В первые месяцы 1896 года Бердслей создал самые сложные и совершенные по технике рисунки, которые он когда-либо сделал. Главной своей задачей в то время Обри считал иллюстрации к «Похищению локона». По стилю эти рисунки были одновременно усовершенствованием и упрощением перегруженных деталями иллюстраций к новелле «Под холмом». На свою склонность к придумыванию элегантной мебели и изысканных костюмов Бердслей накинул узду классической строгости. Основным стало равновесие: плотная перекрестная штриховка паркета контрастировала с оригинальным использованием точечных линий для обозначения кружев, вышивки и украшений и возвращением крупных участков белого, а иногда и черного цвета.
«Битва красавцев и красоток», иллюстрация к поэме Александра Поупа «Похищение локона» (1896).
Смитерс предлагал нестандартный ход – анонсировать поэму как украшенную, а не иллюстрированную, и это решение представлялось более чем уместным. Бердслей, сам очень довольный этим стилистическим отступлением, принес образцы первых рисунков Джозефу Пеннеллу, чтобы тот их оценил. В гостиной Пеннеллов Обри, к своему удивлению, увидел Уистлера. После первой встречи, состоявшейся весной 1893 года, они не поддерживали отношения – Бердслей демонстрировал подчеркнутое равнодушие, и Уистлер отвечал ему взаимностью.
Обри раскрыл свою папку и начал показывать Пеннеллу рисунки. Сначала Уистлер смотрел на иллюстрации к «Похищению локона» безразлично, потом с интересом и, наконец, с восторгом. Великие мастера часто бывают великодушными. Уистлер нашел в себе силы признаться в заблуждении: «Обри, я совершил огромную ошибку. Вы настоящий художник». Услышав это от того, кем он так восхищался, Бердслей, по свидетельству Пеннелла, прослезился. Уистлер повторил сказанное и добавил: «Это правда» [3].
В начале февраля Бердслей поехал в Париж. Компанию ему составили Смитерс и та самая певичка из кафе «Талия». Целью поездки, по определению Обри, была вакхическая экскурсия. В столице Франции троица встретилась с Доусоном, который уже находился там. Друзья познакомились с молодым критиком Габриэлем Лотреком, написавшим обзор «Савоя» для издания, с которым он сотрудничал. Обри поблагодарил Габриэля за то, что в его статье было больше юмора, чем собственно критических замечаний.
Вместе они провели несколько незабываемых вечеров, хотя их и омрачало одно обстоятельство. Бердслея раздражали вольные манеры Доусона, но больше всего то, что он безвкусно одевался. Он восхищался поэзией Доусона, но считал его невыносимо вульгарным. Впоследствии Обри жаловался Смитерсу, что своим потрепанным костюмом, просто неуместным в ресторане или театре, Эрнест оскорбляет его эстетическое чувство. Бердслей признавался, что, оказавшись в одной компании с Доусоном, он может сам погрузиться в молчание или сорваться на грубости. Впрочем, Эрнеста сие ничуть не смущало. Более того, он посвятил Бердслею одно из своих стихотворений и продолжал искать встреч с ним.
11 февраля они присутствовали на премьере «Саломеи» Оскара Уайльда в Thtre de l’Ouevre. Спектакль поставил Орельен Люнье-По. Присутствие первого иллюстратора пьесы не осталось незамеченным. Жан Лоррейн, поэт, прозаик, но прежле всего декадент, в частности, выразил сожаление, что режиссер не предложил Бердслею создать декорации и костюмы.
На следующий день Доусон сказал, что истосковался по морскому воздуху и уединению, и уехал в Бретань, в деревню Понт-Авен. Смитерс собирался вернуться в Лондон – пора было заняться делами. Певичка тоже собралась домой. Бердслей решил остаться в Париже. Обри процитировал миссис Смитерс – сказал, что нуждается в небольших переменах. Свободный от обязательств лондонской жизни, здесь он сможет сосредоточиться на работе.
Бердслей поселился в Htel St Romain на улице Сен-Рох рядом с площадью Пирамид, на которой установлен памятник Жанне д’Арк, напоминающий, что здесь при освобождении Парижа в 1429 году Орлеанская дева была ранена. Обри продолжал работать над иллюстрациями к «Похищению локона». Он почти не появлялся на светских мероприятиях, ссылаясь то на занятость, то на плохое самочувствие.
Сначала жизнь «трудолюбивого отшельника» увлекла Бердслея. Он даже стал экономить, но тут его хватило ненадолго. Скромные обеды в сети ресторанов Дюваля были признаны им отвратительными и несъедобными, срочно потребовалось обновить гардероб, а кроме того, жизнь была невозможна без книг. В то время как Смитерс продавал часть его собственной библиотеки, Бердслей рылся в лавках букинистов и приобретал новые дорогие тома. Потом он жаловался тому же Леонарду, что его безобразно обманули при покупке «Племянника Рамо», философско-сатирического диалога Дени Дидро, написанного в 60-е годы XVIII столетия, но впервые опубликованного только в XIX веке [4].
Подготовка материалов второго номера «Савоя» в основном легла на плечи Саймонса и Смитерса, находящихся в Лондоне. Печатать тираж должен был н Г. Николс, бывший партнер Смитерса, а издательский дом Chiswick Press. Формат был увеличен. Но главной новостью стало не то и не другое. Смитерс решил, что Саймонс должен быть назван на обложке как ответственный редактор.
Бердслей об этом пока не знал. Он пребывал на другой стороне Ла-Манша и обязался сделать новую обложку, внести свой вклад в рисунках, стихах и прозе, а «художественное содержание» в целом сохраняло отпечаток его руководства. Поступили работы от Пеннелла, Ротенштейна, Шэннона и Бирбома. Сикерт прислал рисунок, на котором был запечатлен Риальто – самый известный мост Венеции, один из символов города. Перед отъездом из Лондона Обри принял к публикации интересную работу У. Т. Хортона – своего бывшего товарища по Брайтонской средней школе.
Литературная часть журнала тоже была сформирована не без его влияния. Клара Сэвил Кларк, подруга Ады Леверсон, пообещала дать рассказ под псевдонимом Новый писатель. Протекция Бердслея обеспечила Джону Грею прием его стихотворения «Кузница». Собственный авторский вклад Обри задерживался из-за работы над иллюстрациями к «Похищению локона». Возможно, чтобы облегчить ему жизнь, у Чарлза Хольма попросили разрешения воспроизвести в «Савое» рисунок «Графиня д’Армальяк», купленный им на выставке Королевского общества портретистов. Хольм отказался – он хотел, чтобы «Графиню…» опубликовал журнал The Studio. Смитерс решил рискнуть, и включил в издание в качестве предварительной рекламы титульную иллюстрацию к «Похищению локона».
Особое положение Бердслея среди авторов «Савоя» подтвердилось тем, что в список иллюстративных материалов второго номера включили два его изображения – карикатуру Бирбома и эксцентричный автопортрет, где Обри изобразил себя привязанным к высокой герме – четырехгранному столбу, в Древней Греции завершенному скульптурной головой Гермеса, откуда и произошло название, а затем и других богов.
Смитерс поддерживал с Бердслеем постоянную связь – они писали друг другу почти ежедневно. В середине февраля Леонард приехал в Париж, где планировал провести несколько дней в отдыхе и развлечениях, а потом собирался съездить в Брюссель – узнать, что нового появилось у торговцев редкими книгами. Обри отправился провожать его, но на Лионском вокзале спонтанно решил составить издателю компанию. Он тут же купил билет на поезд и отправился в Бельгию вовсе без багажа. Все его вещи остались в Htel St Romain. Приятное ощущение, вызванное этой эскападой, длилось недолго. После нескольких дней «фламандского неистовства» – у Бердслея завязался роман с бельгийкой Район, его здоровье сильно ухудшилось. У Обри случилось несколько сильных приступов и горловое кровотечение, вынудившее его не покидать номер гостиницы. Бердслей почти не вставал с постели. Смитерс какое-то время ухаживал за ним, но его ждали неотложные дела. Леонард был вынужден вернуться в Лондон.
Обри доктора признали слишком слабым для поездки. Он остался в Брюсселе, но Смитерс не слишком тревожился – поблизости жил друг Николса, бывшего партнера Леонарда, которому он и препоручил художника. Тем не менее радоваться пока было нечему. Обри не мог даже выйти из комнаты. Он пытался найти утешение в работе, но сосредоточиться на ней не удавалось. Бердслей писал Смитерсу: «Я нервничаю, как кошка, и хватаюсь то за одно, то за другое. Не удивляйтесь, если рисунки, которые вы получите от меня, окажутся неравноценными».
Его одолевала тревога и мучали боли в груди, но в те дни Обри сделал новый макет обложки «Савоя» и рисунок «Вознесение святой Розы из Лимы»[115], который, по мнению самого Бердслея, обладал каким-то особым очарованием, хотя, какой смысл вложил сам художник в слово «очарование», остается только догадываться, а также некую «замысловатую безделицу», иллюстрирующую третью сцену «Золота Рейна». Кроме того, он сочинил стихотворение «Баллада о цирюльнике» – его, как и оба рисунка, предполагалось включить в новеллу «Под холмом». Все это он отправил в Эффингем-хаус.
Стихи о придворном цирюльнике, который, обнаружив, что из-за вожделения к юной принцессе стал хуже выполнять свои прямые обязанности – стричь и брить, убивает ее, безусловно, можно считать квинтэссенцией декадентского отношения к искусству, и уж точно – к плотским желаниям. Бердслей сразу начал иллюстрировать его, но тут пришло письмо от Смитерса. Издатель сообщал, что Саймонс считает балладу не совсем неудачной и хочет немного переработать ее. Бердслей пришел в ужас. Какое бесцеремонное вмешательство! Если Саймонс это сделает, то пусть и подписывает стихотворение своим именем [5].
Вскоре в Брюссель, чтобы ухаживать за братом, приехала Мэйбл. Это отвлекло Обри от тревог. Он стал выходить на улицу. Сестра всегда сопровождала его, и прогулки постепенно становились все длиннее. Скоро Бердслей уговорил Мэйбл пообедать в кафе «Рич», и они даже выпили бутылку «Латур Бланш» урожая 1874 года. Обри, усваивавший уроки Смитерса, стал ценителем хороших вин. В его письмах к издателю есть немало упоминаний о том или ином из них – и выспренных, и уничижительных. Ту бутылку Бердслей описывал как весьма «захватывающую и коварную».
Карьера Мэйбл складывалась не так успешно, как ей бы хотелось, но недавно она сыграла в пьесе «Вдова Чили», которую поставил Артур Буршер, и надеялась остаться в его труппе. Это означало, что ее пребывание в Брюсселе не могло быть долгим. Через неделю Мэйбл уехала. Вернувшись в Лондон, она рассказала о состоянии Обри матери. Элен заказала молебен за его здравие в церкви Святого Варнавы. Она надеялась, что молитвы помогут сыну и утешат ее. Миссис Бердслей говорила Россу, что у нее разрывается сердце, но в Бельгию не спешила.
Присматривать за Обри Мэйбл оставила Винсента О’Салливана, молодого писателя из числа знакомых Смитерса, родившегося в Америке, а вскоре в Брюссель приехал и сам Леонард, на сей раз с женой. Бердслей был по-прежнему слаб и не мог предаваться забавам, требующим много сил, но уже желал зрелищ. Как-то вечером все четверо отправились в оперу. Давали «Кармен». Во время спектакля произошел забавный инцидент – один из зрителей на галерке упал, засмотревшись на пышные формы миссис Смитерс, которая перед этим шутливо ответила на его пылкий взгляд соблазнительной улыбкой. Этим дело не закончилось. Когда компания ужинала в соседнем ресторане, мужчина появился там, занял столик напротив и снова стал пожирать глазами Элис. Силы Бердслея были на исходе, и О’Салливан повез его в гостиницу, так что развязку этой комедии оба пропустили. Смитерс впоследствии со смехом рассказывал, что предъявил незадачливому любителю оперы счет за «любование» своей женой, но нажиться ему не удалось.
«Прическа», иллюстрация к стихотворению Бердслея «Баллада о цирюльнике» (1896)
Словом, Смитерс был в своем репертуаре. Тем не менее о работе он не забывал. Издатель предложил Обри взяться за следующую работу и напомнил о «Лисистрате». Бердслей сказал, что приступит к ней сразу после того, как Леонард и Элис вернутся в Лондон.
Смитерсы уехали, но Обри был вынужден признаться себе, что до Аристофана дело сейчас не дойдет – у него не осталось ни моральных сил, ни физических. Он вообще не мог ни на чем сосредоточиться и рисовал очень мало. Тем не менее Бердслей сделал обложку для сборника стихов Доусона, который выпускал Смитерс. Поэт был чрезвычайно доволен, а сам Обри в частных беседах шутил, что простая арабеска, в которой доминировала буква Y, на самом деле означала вопрос: «ПочемУ эта книга вообще была написана?»
Другой маленький рисунок, который он сделал в то время, тоже имел метафорическое значение. Речь идет о «Паке на Пегасе», который украшал титульный лист всех выпусков «Савоя» начиная со второго. Здесь нельзя не услышать автобиографическую ноту. Бердслей отождествлял себя с проказливым эльфом Паком из шекспировского «Сна в летнюю ночь», мастером обмана и озорства, а присутствие Пегаса было отголоском знаковой статьи об искусстве рисунка Уолтера Крейна, где утверждалось следующее: «Когда трудности будут преодолены, оно [перо художнка] может оказаться пером из крыла самого Пегаса». Вглядитесь, и вы увидите, что в колчане у Пака находится перо, позаимствованное у крылатого коня, и чертежное перо, отличающееся от обычного канцелярского удлиненным тонким рабочим концом и размером – оно значительно меньше. Бердслей спешил утвердиться как мастер в избранном им жанре [6].
В повседневной жизни его свобода была гораздо более ограниченной, чем в творчестве. Местный врач прописал Обри новое лечение – вытяжные пластыри. Манипуляции приводили его в бешенство, но некоторый успех был достигнут. Вскоре Бердслей заявил, что снова может двигаться без каких-либо ограничений и в начале мая надеется вернуться в Лондон. Тем не менее он сказал, что хочет переехать, и попросил найти гостиницу, оборудованную лифтом. Ему все-таки трудно было подниматься по крутым лестницам…
Врач подтвердил, что через две-три недели можно будет ехать в Англию, а пока порекомендовал Обри новые пилюли. Наряду с этим он запретил Бердслею пить вино, что очень возмутило художника. Это был еще один пункт в длинном списке его недовольства: плохая погода сделала невозможными прогулки, интересные постояльцы уехали из гостиницы, персонал занимался подготовкой к свадьбе дочери хозяина, а всем остальным интересовался постольку-поскольку. Самым же невозможным стало известие о том, что слухи о его нездоровье достигли Лондона и подняли волну преувеличений. Они поползли дальше и пересекли Атлантику – американские газеты чуть ли не набрасывали некрологи…
Единственным приятным событием стал приезд Раффаловича. Андре навестил Бердслея и пригласил его на ланч. Они не виделись несколько месяцев, и в жизни Раффаловича произошло очень важное событие – он обратился в католичество. Надо сказать, что это стало для всех новостью. Андре никогда особо не интересовался религией и удивлялся истовой вере миссис Гриббелл. Раффаловича крестил отец Дж. М. Бамптон – священник церкви на Фарм-стрит в Мэйфэре. После этого Андре съездил в Италию, где, в частности, посетил Лорето, чтобы помолиться в базилике Пресвятой Девы Марии, а потом решил завернуть в Брюссель, узнать, как обстоят дела у старого товарища.
Раффалович был исполнен рвения, свойственного всем новоиспеченным католикам. В Лорето он просил Мадонну указать путь к вере всем его друзьям и врагам. Он молился даже об Оскаре Уайльде. Больше всего Андре хотел, чтобы на небесах услышали имя Обри Бердслея, тем более что его сестра Мэйбл тоже стала католичкой, как и Джон Грей. Винсент О’Салливан был воспитан в католической вере, а Валланс и Росс приняли ее сознательно, как и Доусон, обращенный в 1891 году. Другими словами, к этому времени все ближайшее окружение Обри было членами церкви, которая родилась из пронзенного сердца Христа, умершего на кресте, как говорили о себе сами католики.
Впрочем, сейчас первоочередные заботы Бердслея имели не духовный, а практический характер: он хотел побыстрее уехать из Брюсселя. Обри телеграфировал Мэйбл и попросил сестру сопровождать его домой, но у нее был ангажемент. Элен обратилась за помощью к Россу, но его тоже держали в Лондоне дела. Тогда миссис Бердслей, несмотря на то что чувствовала себя неважно, сама отправилась в путь, чтобы помочь Обри собраться. Росс тем временем снял для него квартиру в Кенсингтоне и обставил ее.
Все было сделано с учетом состояния Обри. Сразу после прибытия в Лондон его проконсультировал доктор Саймс Томпсон. Прогноз был крайне неблагоприятный. Мрачный вердикт стал для Бердслея неприятной неожиданностью – он ждал от своего лечащего врача совсем других слов. Впервые в жизни Обри был сильно угнетен и напуган состоянием своего здоровья. Разумеется, у него и раньше случались эпизоды депрессии, но они быстро сменялись вспышками оптимизма. Для людей, страдающих туберкулезом, вообще характерна смена настроения, тем более что у Обри бывали достаточно длительные ремиссии, и он забывал о том, что болен. Но с мая 1896 года его судьба была предрешена, и Бердслей, очевидно, уже догадывался об этом [7].
Радостью стало получение сигнальных экземпляров «Похищения локона». Смитерс напечатал поэму Поупа с быстротой, которая может поразить и современных издателей. Книга вышла замечательной. Бердслей сразу отправил один экземпляр Госсе вместе с сопроводительным письмом, исполненным показной скромности. Эдмунд пришел в восторг и особо похвалил изысканное золотое тиснение. В ответном письме он писал, что у Обри еще никогда не было сюжета, лучше приспособленного к его гению. «Иллюстрируя его, вы достигли высот оформительского искусства» – таким было заключение мэтра. Леди Олстон, подруга Элен, оценила книгу так высоко, что подарила свой экземпляр одному из членов королевской семьи. Слово было за критиками, и они его сказали.
В Manchester Guardian пришли к выводу, что рисунки Бердслея идеально гармонируют с текстом, а главное – с духом Александра Поупа, и этот вердикт подтвердила Saturday Review. Даже обычно враждебная Times сочла иллюстрации оригинальными. Общее мнение гласило, что, изображая главную героиню, Обри сделал первую уступку традиционному представлению о красоте женского лица. Неблагоприятные отзывы напечатали очень немногие издания. Правда, The Studio, чаще других защищавший Бердслея, на сей раз его лишь сдержанно похвалил. Анонимный обзор (есть свидетельства, что его написал Хольм) был посвящен новому стилю художника. Автор посчитал, что Бердслей потратил слишком много усилий на несущественные детали. Очарование его неповторимых линий затерялось в чрезмерной прихотливости декора, причем особой критике подверглось… изображение паркетного пола. Больше всего хвалили «Туалет Белинды» – на этом рисунке знатоки увидели хорошо сбалансированные контрастирующие массы черного и белого цвета. В США были не так единодушны. Нью-йоркский Metropolitan Magazine написал, что эта работа Бердслея стала позорным провалом.
Нельзя не сказать о том, что тираж «Похищения локона» оказался невелик. Смитерс планировал напечатать 1000 экземпляров, но сначала типография получила заказ только на 500. «Саломея» у Лейна, правда, тоже была малотиражной, но там эффект оказался гораздо более значительным. Она вообще стала заметной вехой в истории книгоиздания, но тут свою роль сыграли не столько проницательность и коммерческое чутье издателя, сколько скандальная слава Уайльда и оригинальность рисунков Бердслея, в то время просто непостижимая для публики. «Похищение локона» – классическая, неоднократно издававшаяся поэма с иллюстрациями, близкими к традиционному представлению о красоте, – не выдерживало сравнения с «Саломеей». Такого ажиотажа уже не было. Смитерс решил выпустить малоформатное подарочное издание, повторно использовав значительно уменьшенные рисунки Обри, и таким образом собрать с одного цветка мед второй раз – критики и читатели не смогут не отметить, как четко все видно и на его миниатюрах. Кто знает, сможет ли Бердслей и в дальнейшем работать в полную силу [8]?
Доктор Томпсон настаивал на покое и неукоснительном соблюдении режима, а лучше всего – на перемене обстановки. Обри отправили в пансион «Тьюфорд» в Кроуборо, графство Сассекс. Соседи оказались невыносимо скучными, соседки – все, как одна, добропорядочные дамы – не могли привлечь его внимания, но место Бердслею понравилось, и комнаты были удобными. Пансион находился недалеко от Лондона, и Мэйбл, Росс и Смитерс навещали Обри.
Приступы кашля стали реже. К нему постепенно возвращались силы, но рисовать врачи запретили. Конечно, это осложняло ситуацию. Подготовка следующего номера «Савоя» должна была заканчиваться, а главный иллюстратор журнала не создал почти ничего, кроме обложки и фронтисписа. Вероятно, недостаток художественного наполнения вынудил Саймонса принять «Балладу о цирюльнике» вместе с иллюстрацией, но Обри продолжал до последней минуты вносить в текст изменения. Это и оказалось его главным вкладом в третий номер. Издатель объявил о временном прекращении публикации отдельных глав новеллы «Под холмом» из-за болезни автора.
«Балладу о цирюльнике» подписал Обри. Несмотря на сомнения Саймонса, она получила хорошие отзывы. Особенно обрадовала Бердслея похвала Джорджа Мура. Тем не менее решение о приостановке выпуска истории о Венере и Тангейзере стало для него ударом, но подолгу работать он действительно пока не мог. Обри обдумывал свои планы на будущее и много читал.
Смитерс, по одним источникам – следуя совету Мэйбл или Раффаловича, а по другим – по собственной инициативе, прислал Обри шеститомник (лилльское издание 1882 года) Луи Бурдалу – французского духовного оратора, члена монашеского ордена иезуитов, часто произносившего проповеди перед двором – его называли королем проповедников и проповедником королей. Эти книги пришлись как нельзя более кстати, и вскоре Бердслей попросил Смитерса отправить ему сочинения Перси Биши Шелли, Мэттью Арнольда и Уильяма Вордсворта, ведь думающий человек не может обойтись одним лишь Бурдалу. Смитерса этот заказ очень порадовал – он теперь с большим оптимизмом смотрел на перспективы своего художественного редактора. Воодушевленный благожелательным приемом второго номера «Савоя» и увеличивающейся подпиской на третий, он объявил о планах превращения ежеквартального журнала в ежемесячный. Узнав об этом, Бердслей сказал Джону Грею, что это потребует громадной дополнительной работы, но видно было, что сие его не столько пугает, сколько радует [9].
Бердслей провел в «Тьюфорде» две недели и заявил, что немедленно возвращается в Лондон. Теперь ему все тут не нравилось. Элен в панике написала Россу. Она просила Роберта повлиять на Обри: «Упирайте на природные красоты этого места и то, что моему сыну необходимы чистый воздух и покой. Ваше мнение очень важно для него, в отличие от моего…» Бердслей на уговоры не поддался. Он приехал в город под предлогом необходимости медицинской консультации, и не услышал того, на что, вероятно, втайне надеялся. Доктор сказал, что отдых необходимо продолжить. Перебрали несколько вариантов. Сам Обри склонялся в пользу родного Брайтона, но врачи рекомендовали Эпсом. Все возвращалось на круги своя: больше 10 лет назад Элен привезла Обри в этот маленький сонный городок, чтобы он немного окреп.
«Лакедемонянские послы», иллюстрация к последнему акту комедии Аристофана «Лисистрата» (1896)
Теперь Бердслей поселился в гостинице Spread Eagle в центре Эпсома. Он занял прекрасный двухкомнатный номер. Ресторан в Spread Eagle оказался небольшим, но очень уютным, а главное, кухня здесь была выше всех похвал. Воздух в этой местности считался целебным – врачи не зря советовали Бердслею ехать на этот курорт, находившийся всего в 25 милях от Лондона.
Скоро Обри почувствовал себя лучше, дышать стало легче, и он наконец начал рисовать. За три недели Бердслей сделал восемь полосных иллюстраций к «Лисистрате». Все они были хорошо продуманы, тщательно проработаны и при этом не отягощены декоративными излишествами. В образах женщин, уверенных в своей силе, и обескураженных мужчин, которым отказали в ласках, те, кому он показал рисунки, увидели своеобразное изящество, сильно отличавшееся от сладострастного вуайеризма работ Фелисьена Ропса, славившегося своими эротическими и эротико-фантастическими работами, где характерные для символизма темы женщины-вамп и роковых соблазнов воплощались со скандальной откровенностью, а также других апологетов эротического рисунка конца XIX века. Бердслей изучил все доступные в то время росписи по этой теме на древнегреческих вазах и хорошо знал восточную живопись подобного рода. Кстати, фигуры на его рисунках выделяются на нейтральном тоне, как и на греческих амфорах. Словом, работы были мастерскими.
Эту физическую деятельность нельзя назвать напряженной, но даже она опять повлекла за собой ухудшение самочувствия. Пришлось обратиться к здешним врачам. Эскулапы из Эпсома сказали то, что доктор Томпсон пока не облекал в слова, – левое легкое Бердслея почти разрушено, а правое затронуто очагами болезни.
Он стал принимать выписанные лекарства, но пилюли не помогали, а только вызывали головную боль. Бердслею становилось хуже. В своей почти ежедневной переписке со Смитерсом он старался поддерживать непринужденный тон, но вслед за физическими страданиями пришли и душевные. Обри обуревал страх. Некоторое утешение он находил в «Духовных стихах» Грея – сборнике переводов латинских, испанских, немецких и французских стихотворений религиозного содержания, а также поэтических размышлений самого Джона на духовные темы. Бердслей считал эту книгу поистине восхитительной. Она стала для него настольной. Обри испытывал потребность в такой поддержке.
17 июля в Эпсом приехал Смитерс. Бердслей попросил Леонарда засвидетельствовать его завещание. Все свое имущество он оставлял Мэйбл.
Стоит ли удивляться тому, что на следующих работах виден отпечаток его мрачного настроения? Тем не менее Обри закончил иллюстрации к «Лисистрате». Смитерс тут же поручил ему сделать рисунки для рождественского подарочного издания – он планировал как можно быстрее напечатать «Али-Бабу и сорок разбойников».
Бердслей начал с рисунка испуганного Али-Бабы, заблудившегося в темном лесу. И тут видны его страх и неуверенность в будущем. Между тем совсем недавно он планировал написать небольшую книгу и даже придумал название – «Застольные беседы». Бердслей взял в руки перо, но на бумаге появились не буквы, а линии. Так был создан прекрасный рисунок, который художник назвал «Смерть Пьеро». Давнее отождествление Обри самого себя с белым клоуном из Бергамо придавало всему этому зловещий смысл. Рисунок предназначался для четвертого номера «Савоя», и Бердслей пообещал дать в него еще две-три работы. Он гнал от себя мысли, что единственный его рисунок в журнале будет воспринят как эпитафия. Ничего другого Обри сделать не успел, и в конце июля «Савой» вышел вовсе без его иллюстраций. Правда, он сделал новую обложку, а Смитерс повторил на титуле рисунок «Пак на Пегасе».
Издателя между тем ждало новое испытание. В надежде на прибыли он объявил о том, что «Савой» будет выходить ежемесячно, а У. Г. Смит, контролировавший все газетные киоски на железнодорожных вокзалах и имевший огромное влияние на книжную торговлю в целом, поставил редакцию в известность, что следующие выпуски журнала заказывать не будет. Саймонс поспешил в его офис, чтобы выяснить, чем обусловлено такое решение. Смит заявил, что, по общему мнению, распространение их издания наносит вред его репутации, в основном из-за того, что может быть расценено как пропаганда работ мистера Бердслея. Саймонс возразил – участие художника в третьем номере было минимальным, а в четвертом его работ не оказалось вовсе. Наряду с этим он сказал, что Бердслей рисует не первый год, его манеру все знают и многие находят спорной, но компрометировать издателей и уж тем более книготорговцев его творчество не может. Он попросил показать те рисунки, которые так возмутили всех. Сотрудник компании принес экземпляр «Савоя» и показал иллюстрацию, которую они считают особенно непристойной. Это был рисунок… Уильяма Блейка, одна из четырех иллюстраций для статьи Йейтса «Блейк как иллюстратор Данте». На ней был изображен обнаженный гигант Антей, встречающий Вергилия и Данте на берегу Коцита – адской реки плача и стенаний.
Саймонс вежливо указал на ошибку и заметил, что Блейк был очень одухотворенным художником. Смит извиняться не стал, но сказал, что может пересмотреть свое решение, если вопреки их ожиданиям «Савой» будет иметь большие продажи. Конечно, этого не произошло. Без поддержки его книготорговой сети продажи резко пошли вниз. Тираж пришлось сократить до 2400 экземпляров [10].
Между тем, хотя врачи считали, что состояние Бердслея несколько улучшилось, у него возобновились горловые кровотечения. Настроение у Обри было ужасное, и в конце июля стали обсуждать очередную смену обстановки. Врачи рекомендовали Дьеп, но Бердслей отказался ехать во Францию. Он снова заговорил о Брайтоне, но выбор медиков пал на Боскомб в окрестностях Борнмута в графстве Дорсет. Мэйбл бросила все дела и поехала на южное побережье, чтобы найти в городе удобное жилье для брата и матери. Элен сказала, что поедет с сыном и станет ухаживать за ним.
Обри сообщил о предпоагаемом переезде Раффаловичу. Андре и Джон Грей проводили лето в Уэйбридже около Эпсома. Они надеялись, что к ним присоединится и Обри, но этому помешала его болезнь. Бердслей не говорил Раффаловичу, что взялся иллюстрировать «Лисистрату», опасаясь его неодобрения. Конечно, Андре обо всем узнал, но после этого он лишь осведомился, к какой именно пьесе были созданы иллюстрации – к Аристофану или современному французскому варианту Мориса Доннэ.
Надо сказать, что Бердслей находился в своем роде между двух огней. Речь идет о его отношениях с Раффаловичем и со Смитерсом. Обри предпринял попытку повлиять на Леонарда, чтобы тот опубликовал роман Раффаловича «В поисках себя», но она не увенчалась успехом. С тех пор он преувеличивал благочестивость Раффаловича в глазах Смитерса и приуменьшал деловую хватку Смитерса перед Раффаловичем, а также то, как важно для него сотрудничество с издателем.
Интерес Обри к «Али-Бабе» после возвращения из Эпсома прошел. Он заявил, что, как только соберется с силами, начнет делать рисунки к одной из сатир Ювенала – «Против пороков женщин». Это был отложенный проект – последним опубликованным в «Желтой книге» рисунком стал фронтиспис, подготовленный для переиздания сочинений этого римского поэта. Смитерс тоже проявлял интерес к авторам той эпохи. В 1894 году он издал оды Катулла и анонсировал в них публикацию сочинений Ювенала. Пришло время претворить этот замысел в жизнь. Бердслей, воодушевившись, взялся не только проиллюстрировать, но и перевести римского сатирика.
Сам Обри всегда противился тому, чтобы его творения – не важно, рисунки это были или литературные произведения, – считали сатирическими. Тем не менее, взявшись за данный проект, он должен был иметь дело с текстами величайшего сатирика Античности.
Отношения Бердслея к женщинам не предполагало у него желания обличать их в каких-либо пороках и уж тем более бичевать за них. Он очень любил мать. Его лучшим и самым верным другом была сестра. Восхищение интеллектом Ады Леверсон Обри высказывал повсеместно. Другими словами, перед тем как иллюстрировать сатиру Ювенала, римлянина еще предстояло понять.
Стоит ли удивляться тому, что на одном из первых рисунков Бердслея была изображена не женщина, а Бафилл – греческий мим, чьи выступления, согласно Ювеналу, приводили римских матрон в исступление? Этот актер разработал начальные формы пантомимы, занявшей место исчезающей трагедии, как особого вида искусства. Бафилл, соперником которого был Пилад – мастер патетического и трагического танца, у декадентов конца XIX века являлся культовой фигурой. Жан Лоррейн написал о нем гомоэротическую поэму, а У. Г. Маллок в своей сатире «Новая республика» и вовсе заявил, что для современной эстетической школы юность Бафилла более важна, чем зрелость Наполеона. С учетом того, что Наполеон являлся одним из любимых героев Смитерса, возникает искушение истолковать этот сюжет как еще один вызов издателя и иллюстратора викторианскому обществу.
Вместе с тем существует и менее экстравагантное объяснение. Бердслей изобразил Бафилла в роли Леды, как, собственно, и было сказано у Ювенала. Образ танцующего юноши, изображающего женщину, должен был обладать особой привлекательностью для Джерома Поллитта, в конце концов и купившего этот рисунок [11].
В середине августа Обри и Элен переехали в Боскомб. Мэйбл сняла для них комнаты в пансионе, расположенном недалеко от моря. С балконов открывался вид на набережную и на причал. Бердслей был доволен.
Новое жилье ему тоже понравилось: кроме спальни он получил очаровательную гостиную и студию, также с видом на море. Из Лондона Бердслеи привезли часть мебели, включая две чиппендейловские кушетки. Мебель этого стиля, сделанную из красного дерева, отличают сочетание рациональности форм, ясности структуры предмета с изяществом линий и прихотливостью, что было близко Бердслею как художнику. Он очень любил эти кушетки. Стены Обри украсил репродукциями картин Ватто, Патера и Ланкре – художников, вдохновлявших его в то время. На столе в студии стояли два его любимых бронзовых подсвечника в стиле ампир. Бердслею было здесь комфортно, и он сразу приступил к работе.
Сам Боскомб показался Обри странным, но неинтересным местом. Его радовало общество матери и сестры – Мэйбл оставалась с ними еще целый месяц[116].
Скоро в Боскомб на несколько дней приехал Смитерс. Задерживаться Леонард не мог: его магазин переезжал с Эйрондел-стрит в Берлингтонскую аркаду – модный торговый пассаж, одновременно являющийся местом заседаний Королевской академии искусств.
Бердслей опять впал в тоску: местный врач оценил его состояние как неважное. Обри действительно страдал от постоянного кашля. В то время причины туберкулеза не были известны, а методы его лечения нам сейчас трудно признать научными. Каждый следующий доктор, приглашенный к такому пациенту, как правило, ставил под сомнение все предыдущие предписания и назначал собственную терапию. Эскулап из Боскомба не стал исключением. Предписанное им лечение подразумевало целый набор новых мер и должно было длиться несколько месяцев. Вместе с тем его прогноз нельзя было назвать оптимистичным. Уже во время первой консультации врач ясно дал понять, что беду вряд ли удастся предотвратить.
Возможно, ощущение того, что она действительно неотвратима, побудило Смитерса предложить Бердслею издать его лучшие работы отдельным альбомом. Даже если это так, в следующие недели сие поддерживало его дух гораздо больше, чем морской воздух. К Обри вернулась энергия, и его письма были полны планов и мыслей, касающихся альбома. Он рассылал письма всем издателям и частным лицам, чтобы получить права на публикацию приобретенных ими работ. Было решено, что к Денту и Лейну за таким разрешением обратится лично Мэйбл. Бердслей лихорадочно обдумывал, какие рисунки следует включить в альбом, не забывая об афишах. В итоге он отобрал 50 своих работ. Наряду с этим Обри попросил Валланса составить их полный список – его предполагалось опубликовать как приложение. Бердслей пожелал, чтобы в альбоме было и несколько его портретов.
Возможно, причиной поездки Обри в Лондон в конце августа стало желание получить разрешение на воспроизведение уже публиковавшихся рисунков. В первой же редакции его спросили о здоровье. «На моем пороге стоит смерть, – спокойно ответил Бердслей. – Но это не имеет значения». Потом он посмотрел на свой рисунок, висевший на стене, и воскликнул: «Как хорошо! Как замечательно! Я молодец!»
Эта поездка лишила Обри последних сил… Его отвезли в Боскомб, и он целый месяц оставался в своей спальне [12].
Рецидив был острым. Все, кто видел художника в то время, задавали себе вопрос, сколько ему еще отпущено. Он и сам начал сомневаться в том, что переживет зиму. Но, даже лежа в постели, Бердслей продолжал руководить составлением и подготовкой своего альбома, который получил рабочее название «50 рисунков». Друзья поспешили помочь ему. Дент предлагал любое содействие. Пеннелл, Бирбом и Клара Сэвил Кларк были готовы предоставить для подготовки фотоформ работы, которые они приобрели. Лейн дал разрешение на воспроизведение трех иллюстраций к «Саломее». Заупрямился и отказался уступить права на публикацию своих рисунков лишь один человек – Чарлз Хольм из The Studio. Бердслея это возмутило, и он сказал, что перерисует как минимум один из них. Несмотря на плохое самочувствие, он продолжал работать. От Смитерса еженедельно приходили чеки, и Обри старался, чтобы это была оплата, а не просто денежная помощь. Он создал композицию для обложки мемуаров придворного парикмахера французской королевы Марии-Антуанетты и фронтиспис для сборника рассказов Винсента О’Салливана, но самое главное – начал делать рисунки для следующего номера «Савоя».
Нельзя не отметить очевидное: хотя все это совпало с периодом нервного перенапряжения и физической немощи – многие рисунки, возможно, Бердслей делал, лежа в постели, они были прекрасны. Сам Обри остался очень доволен наброском, на котором обнаженная женщина протягивала руки к подносу с книгами, который ей принес слуга-карлик. Он называл данную работу показательным примером того, что его техника в последнее время существенно улучшилась, и указывал на это тем, кто считал лучшими его ранние рисунки.
Бердслей решил сделать подарок Денту, который позволил опубликовать в альбоме рисунки из выпущенных им изданий и из «Желтой книги». Он создал композицию «Возвращение Тангейзера на гору Венеры», переработав рисунок 1891 года, которым восхищался издатель. Дента такой поступок не оставил равнодушным. «Меня очень тронул этот прекраснейший рисунок, – писал он Элен Бердслей. – Боже, сохрани жизнь вашему мальчику!»
Под влиянием всего этого Дент решил предложить Бердслею проиллюстрировать «Путь паломника» Джона Беньяна – аллегорическое повествование о тернистом пути через болото отчаяния, долину тени смерти, ярмарку тщеславия и другие места, по которому следует герой повествования Кристиан (христианин), направляющийся в Небесный град. Издатель отправил художнику письмо. «Не отказывайтесь сразу! Возьмите книгу и прочитайте ее. Вы знаете, что такое настоящее страдание… Я считаю, что, если вы сможете сделать иллюстрации к “Пути паломника”, эта работа станет для вас вечным памятником». Книгу Обри приобрел, но нет никаких свидетельств, что он ее прочитал, а тем более начал иллюстрировать.
Рисунок для Дента был не единственным подарком, который сделал той осенью Бердслей. Уильяму Ротенштейну и Глисону Уайту он подарил композицию на титул их ежегодного альманаха The Pageant, лорду Карнарвону – виньетку для каталога его библиотеки, а The Parade – так называемый свиток.
Смитерс не одобрял такую щедрость. Ему было жалко не столько самих работ, сколько времени, потраченного на них Бердслеем. Все понимали, что его остается катастрофически мало. Обри мог бы потратить это время на него… Впрочем, в разговоре с Фредериком Эвансом Леонард цинично отметил, что после смерти Бердслея цены на его работы вырастут до небес. Когда художник вознамерился нарисовать новый плакат для Анвина, Смитерс напомнил ему, что не надо пренебрегать своими прямыми обязанностями. Пора вернуться к Ювеналу. Его побуждал к действию двойной успех «Похищения локона» и «Лисистраты», но Бердслею оказалось трудно сосредоточиться на третьей большой книге.
Обри приступил к «Сатирам», не имея четкого плана работы. Он сделал пять иллюстраций (по два рисунка Бафилла и Мессалины и композицию, которую назвал «Подсматривающий, или Нетерпеливый прелюбодей»), а также еще один фронтиспис. На этом интерес Бердслея к римлянину иссяк. Сатиры Ювенала присоединились к списку незавершенных работ, включавшему «Историю Венеры и Тангейзера», «Застольные беседы», «Али-Бабу» и «Секрет Нарцисса». Тем не менее Обри говорил, что обязательно к ним вернется.
Им завладела новая мысль. В свое время Бердслей включил в рукопись «Истории Венеры…» краткое описание «Золота Рейна», и сейчас решил развить эту тему, но отдельно. Нужно сделать иллюстрированный пересказ сюжета оперы Вагнера. Это будет первый том новой серии. Смитерс, воодушевленный тем, что Бердслей загорелся этой идеей, одобрил его план [13].
Пришли новости о «Савое» – радоваться было нечему. Первоначальный всплеск интереса к журналу сошел на нет. Продажи начали падать. Смитерс решил переплести нераспроданные экземпляры первых номеров и реализовать их в виде книг. Участие Бердслея в этой работе было минимальным – ему предстояло сделать только новую обложку для каждого выпуска. Рисунок «Женщина в белом», опубликованный в номере, вышедшем в сентябре, Обри создал еще в 1894 году под впечатлением работ Фредерика Эванса, а «Смерть Пьеро» включили в следующий номер.
Бердслей снова предложил опубликовать в «Савое» стихи Грея, но, судя по всему, редакторский контроль над «художественной» частью журнала он утратил. Рисунки Хортона продолжали в нем появляться, но Саймонс все громче говорил о традициях. На страницах «Савоя» стало больше экслибрисов XVIII века, рисунков Россетти и иллюстраций Блейка. Особого упоминания заслуживает появление в октябрьском номере карикатуры Фила Мэя. Этот художник соперничал с Бердслеем как выдающийся рисовальщик того времени. Реалии у него были другие – комические и «помойные», далекие от дендистского эстетизма Бердслея, как небо от земли, но при этом оба пользовались схожими приемами, адаптируя японскую технику рисования к современным вкусам. Стиль у каждого был личный, неповторимый. У Бердслея и Мэя имелись общие друзья – Брэндон Томас, Дуглас Слейден и Уильям Ротенштейн, но свидетельств того, что они встречались друг с другом, практически нет. Известно, что Мэй восхищался подарочным изданием «Похищения локона».
Бердслей посчитал, что карикатура Мэя в «Савое» выглядит очень неуместно. Так или иначе, Смитерс был вынужден объявить, что с января выпуск журнала будет прекращен.
В литературных и художественных кругах Лондона к краху «Савоя» отнеслись по-разному. Хьюберт Кракенторп убеждал Гранта Ричардса приобрести права на название и стать его новым редактором. «Савой» сможет возродиться из пепла, порвав с традицией Бердслея. У него отличные шансы на успех. Йейтс неохотно признал справедливость этого предположения. «Мы могли бы выжить, если бы журнал не ассоциировался с Обри», – писал он впоследствии. Справедливость сказанного подтвердилась самым неожиданным образом. Йейтс отправил в крупную ежедневную газету письмо, в котором пожаловался на интриги У. Г. Смита против журнала. Ему сказали, что опубликовано оно не будет, так как в нем речь идет и о Бердслее. Их редактор взял за правило никогда не упоминать это имя.
Осенью 1896 года о Бердслее практически ничего не писали в прессе и мало говорили в салонах, но Смитерс не собирался опускать руки. Он решился на смелый шаг и бросил молчавшим перчатку. Правда, они посчитали сие вовсе не вызовом, а мерой экономии. Так или иначе, издатель заявил, что последний номер «Савоя» будет целиком состоять из произведений его художественного и литературного редактора.
Уязвленный почти полным отсутствием своих работ в предыдущих выпусках, хотя во многом этого было вызвано тем, что он тяжело болел, Бердслей загорелся идеей и объявил о намерении создать для восьмого номера «Савоя» несколько «убийственных» рисунков. При этом в ноябре он представил в редакцию свое третье поэтическое произведение. Обри не забыл, как пренебрежительно отнесся Саймонс к «Балладе о цирюльнике», и решил на сей раз снискать лавры переводчика. В данном литературном опыте – переводе 101-й оды Катулла – продолжилась тема прощания, которая тянется через работы Бердслея от «Смерти Пьеро» до «Возвращения Тангейзера»…
Впрочем, издатель и здесь был практичен. Дело в том, что оды Катулла, выпущенные им в 1894 году, перевел Ричард Бартон, и перевод нельзя было назвать удачным. Во всяком случае, так считали знатоки, в первую очередь такие, кто мог прочитать стихи древнеримского поэта на латыни. Смитерс и сам рискнул перевести Катулла, правда в прозе. Вот отрывок из его перевода.
«Через разные земли и многие воды, брат, я прибыл к твоей скорбной могиле, чтобы отдать тебе последние почести и тщетно воззвать к немому праху после того, как судьба разлучила нас. Ах, бедный мой брат, похищенный злой судьбой!
Эти дары, по обычаю предков, я возложу на твою могилу. Прими их, омытые моими слезами, прости меня, брат, и прощай навсегда!»
Бердслей смог мастерски облечь это в стихотворную форму.
- Брат, через много племен, через много морей переехав,
- Прибыл я, скорбный, свершить поминовенья обряд,
- Этим последним тебя одарить приношением смерти
- И безответно, увы, к праху немому воззвать,
- Раз уж тебя самого судьба похитила злая, —
- Бедный, коль на беду отнят ты был у меня!
- Ныне же, как нам отцов завещал древний обычай,
- Скорбный обряд совершу, – вот на могилу дары;
- Пали росою на них изобильные братнины слезы.
- Их ты прими – и навек, брат мой, привет и прости![117]
Дар Бердслея как художника неоспорим, но и его поэтические способности трудно ставить под сомнение. Сам Обри был доволен результатом, как и Смитерс. А Грея, по словам издателя, перевод просто восхитил [14].
Ода, как и иллюстрация, сделанная к ней, дали Обри чувство удовлетворения и успеха. Между тем многое другое его тяготило. Парное молоко, солнце и воздух Боскомба никак не сказались на состоянии его здоровья. Он постоянно кашлял. Было несколько кровотечений. Дождливая погода и туманы не способствовали улучшению его самочувствия. Обсуждались планы переезда на юг Франции, но, несмотря на то, что такую перемену климата все считали необходимой, мать, сестра и друзья опасались, что у Обри не хватит сил на путешествие. Возникли и некоторые финансовые затруднения: мистер Деман, у которого одолжили денег в Брюсселе, требовал вернуть их поскорее, а модный портной Доре грозился подать в суд – у него имелся крупный неоплаченный счет. И наконец, словно всего этого было недостаточно, застопорились планы издания альбома «50 рисунков».
В начале октября кто-то из друзей (возможно, Поллитт) приехал к Бердслею на неделю погостить. Общество товарища благотворно подействовало на Обри. Его настроение, несмотря на непогоду, бушевавшую в Лондоне, ненадолго прояснилось. Были наконец подобраны «убийственные» рисунки для последнего номера «Савоя» – на это ушло больше времени, чем он предполагал. Основную часть подборки составляла серия виньеток, буквиц и декоративных линий, отделяющих текст, для «Золота Рейна», а также рисунки богини судьбы Эрды, русалок Воглинды, Вельгунды и Флосхильды, Альбериха – короля карликов-нибелунгов, обитателей земных недр, и дев-воительниц. Образ пышногрудой Эрды был наиболее откровенным, а Альбериха – самым глубоким по замыслу.
Бердслей и раньше говорил, что ощущает тесную связь с вагнеровскими персонажами – с Тангейзером или тем же богом огня Логе из «Золота Рейна», но имя Альберих было оригинальной немецкой формой имени Обри. Художник не мог остаться равнодушным к судьбе своего тезки, который ради власти отказался от любви. Бердслей наделил Альбериха носом, очень похожим на его собственный. Обри изобразил карлика после того, как Вотан и Логе обманом лишили Альбериха шапки-невидимки. Они согласились отпустить его при условии, что получат взамен все золото нибелунгов. У Альбериха осталось волшебное кольцо, и он, рассчитывая воспользоваться им, дал согласие. По его приказу нибелунги принесли сокровище, но Вотан потребовал и кольцо. Альберих отказался отдать его, и Вотан отобрал кольцо силой. Альбериха отпустили. Уходя, он проклял кольцо и тех, кто будет им владеть. Карлик на рисунке Обри в ярости, но он бессилен. Образ не подразумевает буквальной интерпретации, но намек на бедственное положение художника ясен: Бердслей многим пожертвовал для того, чтобы его гений признали, а теперь болезнь все громче заявляла о том, что придется отдать и самое дорогое – жизнь. Трудно удержаться от проклятий…
Кроме иллюстраций к «Золоту Рейна» Бердслей взял карикатуры на Мендельсона и Вебера из «Застольных бесед», но были и новые работы. Вагнеровская тема возродилась в изящном рисунке «Репетиция “Тристана и Изольды”» – одной из ряда иллюстраций, вдохновленных великой музыкой. Он также изобразил известных литературных героев – мольеровского Дон Жуана, виконта де Вальмона из «Опасных связей» и, что нельзя не признать провокацией, повесу и распутника, которому удавалось усыплять бдительность мужей, выдавая себя за евнуха, из «Деревенской жены» Уичерли. Был также рисунок, названный «Et in Arcadia Ego»[118], своеобразно пародирующий картину «Аркадские пастухи» французского живописца XVII века Никола Пуссена, однако вместо привычного пастушка здесь мы видим немолодого денди, чей щеголеватый наряд и изогнутый силуэт усиливают комизм ситуации. Есть мнение, что этот рисунок задумывался как дружеская насмешка над новым адресом фирмы Смитерса и им самим.
Тем не менее Бердслея одолевали мрачные мысли. Он впал в депрессию. Пробиться через его угрюмое молчание не могли даже мать и сестра. Элен в конце концов купила канареек, чтобы тишина в доме не была такой гнетущей. Птицы радовали ее и даже немного отвлекли Обри. Во всяком случае, так он писал Смитерсу [15].
В конце октября после короткой ремиссии у Обри случилось повторное горловое кровотечение. Он попытался скрыть это от матери. Бердслей не хотел тревожить ее и сестру. У Мэйбл снова был ангажемент, и труппа собиралась ехать на гастроли в США. Обри боялся, что она откажется от такой удачи, если посчитает его состояние угрожающим.
Приступ, как и необходимость скрывать его от родных и друзей, отняли у него последние силы. Элен, измученная тем, что сын замкнулся в себе, и напуганная его мертвенной бледностью, решила, что кроме всего прочего Обри беспокоится о деньгах. Вдруг Смитерс откажется от еженедельных выплат? О ее тревогах узнал Роберт Росс и тут же предложил свою помощь.
Мэйбл не знала худшего, но и того, что было ей известно, хватало для беспокойства. Со своей стороны, она старалась сделать все, что могла, чтобы настроение брата улучшилось. Возможно, по ее просьбе Раффалович стал чаще писать Обри. Вместе с письмами Бердслей получал и небольшие знаки внимания – цветы и шоколад. Андре попросил Обри назвать книги, которые ему могут понадобиться для работы, или те, которые он просто хочет иметь.
«Альберих», рисунок из задуманной серии «Золото Рейна» (1896)
В посланиях Раффаловича стала все громче звучать «церковная» нота: он хотел, чтобы Обри познакомился со священниками храма в Боскомбе, и брался поспособствовать этому. Миссия Андре увенчалась успехом. В начале ноября Бердслея навестил отец Шарль де Лапостур. В письме к Андре Обри назвал его очаровательным и симпатичным человеком. Этот визит оказался первым, и последним, – вскоре священник уехал из Боскомба, но теперь разговоры на религиозные темы Обри вел с приехавшим в Боскомб Винсентом О’Салливаном – тот поселился по соседству.
Дела Смитерса шли на лад. По словам издателя, он совершил очень удачную сделку в Америке. Видимо, это действительно было так, потому что Леонард решил купить особняк на Бедфорд-сквер. Эта новость порадовала Бердслея. Раз у Смитерса все хорошо, и он может рассчитывать на регулярные выплаты.
Итак, для «Савоя» были выбраны последние рисунки. Как ни скверно чувствовал себя Бердслей, творческая пустота ему претила. Издатель тоже понимал, что без дела Обри просто не сможет. Нужно было определить, каким станет следующий проект. Бердслей отклонил предложение сделать обложку для повести Бальзака «Златоокая девушка», проиллюстрированной Кондером. Их отношения – как личные, так и творческие – в то время препятствовали любому сотрудничеству. Произведения Йейтса Обри заинтересовали больше. Поэт ставил в вину художнику крушение «Савоя», но продолжал восхищаться его работами. Йейтс воспользовался его афишей для театра «Авеню» как основой для фронтисписа к своей драме в стихах «Страна, желанная сердцу» и хотел, чтобы Бердслей сделал рисунки к «Сумрачным водам» – произведению, которое он недавно закончил. Обри это предложение обрадовало, но он обдумывал и другие проекты. Между делом Бердслей решил проиллюстрировать дешевое издание переводов Джона Драйдена – «Метаморфозы» Овидия – и тут же начал работу над первым рисунком, изобразив Аполлона и Дафну. Потом он загорелся другой идеей – Госсе предложил проиллюстрировать «Пути мира», но тут вмешался Смитерс. Издатель решил напечатать в серии «Библиотека Пьеро» стихотворную пьесу Эрнеста Кристофера Доусона «Пьеро минуты». В графике Бердслея этот персонаж и раньше представал в странном окружении, а на заставке для книги Доусона он вообще не имеет ничего общего с традициями стиля, в котором изображался. Всего Обри сделал пять иллюстраций, отложив в сторону все остальное. Возможно, его вдохновило и то, что в пьесе Доусона «Лунная дева» вскоре должна была сыграть Мэйбл [16].
Элен поехала в Лондон, чтобы проводить дочь в Америку. Обри остался один. Он радовался прекрасной погоде – осень действительно была теплой и потрясающе красивой и в то же время задавал себе вопрос, суждено ли ему дождаться возвращения сестры. Обри чувствовал себя немного получше и даже стал гулять по набережной. В пансион приехали несколько человек, проводящих здесь не первую зиму, и атмосфера оживилась. «Здесь меня все обожают», – с мальчишеским простодушием писал Бердслей Смитерсу. У него сложились хорошие отношения с миссис Тоул, дочерью сэра Генри Тейлора, видного государственного чиновника викторианской эпохи. Она много рассказывала Обри о «великих викторианцах», обещала свозить его в Шелли-парк, познакомить с леди Шелли – женой племянника поэта и дать возможность увидеть книги и вещи великого романтика.
Бердслей закончил рисунки к пьесе Доусона и объявил, что готов приступить к более существенной работе. Возвращаться к отложенным планам он не захотел и обратился за советом к Раффаловичу и Грею. Друзья прислали Обри целый список, включающий в себя «Историю одной гречанки» Антуана Прево, первый роман Стендаля «Арманс», над которым он работал в январе – октябре 1826 года (впервые роман был издан в августе 1827-го, а второе издание вышло после смерти автора в 1853 году) и автобиографический роман Бенжамена Констана «Адольф», принесший ему мировую славу. Больше всего Бердслея заинтересовал Констан, но сначала он решил сделать рисунки к «Опасным связям» Шодерло де Лакло.
После того как в «Савое» был опубликован «Виконт де Вальмон», Обри перечитал роман и стал обдумывать другие иллюстрации к этому произведению. Он хотел попробовать то, что в душе уже назвал техникой полутонов, – нечто радикально отличающееся от четких линий «Лисистраты» и точек «Пьеро минуты». Бердслей недавно открыл для себя Пьера Поля Прюдона, французского живописца и графика времен революции и Первой империи, и теперь хотел воспроизвести его манеру в своих рисунках, отодвинув декоративные элементы, преобладавшие в его последних работах, на задний план.
Эта идея очень понравилась Смитерсу. Он поручил Доусону перевести книгу. Бердслей сказал, что сделает серию декоративных буквиц и 10 полосных иллюстраций, однако, несмотря на первоначальный энтузиазм, работать так и не начал. По словам Обри, ему приходилось ждать перевод, чтобы понять, какие буквицы понадобятся. Почему нельзя было делать большие рисунки, – тайна. Скорее всего, понимая, как мало у него остается времени, Бердслей был готов схватиться за все сразу. Он начал рисунок к пьесе Йейтса, но тот тоже не был завершен [17].
Приближалась зима. Обри охватила смутная тоска. Кровотечения прекратились, но он страдал от зубной боли и невралгии. Бердслей никого не хотел видеть. Исключение он делал только для самых близких друзей. Обри пригласил в Боскомб Росса и пожаловался в письме: «Я превратился в бледную тень веселого бездельника эпохи рококо, которым был когда-то». Роберт приехал, но уныние Обри не рассеялось. Зубы его совсем замучили. Как только Росс вернулся в Лондон, Бердслей настоял на том, чтобы удалить больной зуб, оказавшийся «настоящей скалой», как он написал впоследствии Раффаловичу. Обри опасался, что этим дело не ограничится, и стал исправно посещать дантиста. Тем не менее он не оставлял надежду вернуться в столицу.
Утром 10 декабря Бердслей вместе с матерью отправился на прогулку. Они дошли почти до вершины холма, который вел к тропинке на утесах, и тут Обри закашлялся. На платке, который сын прижимал к губам, Элен увидела пятна крови. Они кое-как доплелись до маленького летнего домика у подножия холма, где был питьевой фонтанчик. Впоследствии Элен рассказывала Россу, что кровотечение оказалось очень сильным. Обри выпил немного холодной воды, и кровь остановилась. Мимо проходили пожилые мужчина и женщина. Элен попросила их присмотреть за ее сыном, а сама пошла искать инвалидную коляску. Бердслея перевезли в Пайр-Вью и уложили в постель. Он долго лежал неподвижно, только дрожал всем телом, но в конце концов погрузился в сон.
Этот приступ и последовавшие за ним (кровотечения с перерывами продолжались почти целую неделю) вверг Элен в панику. Теперь, когда Мэйбл уехала, а Роберт Росс находился в Лондоне, она почувствовала, как они с сыном одиноки и уязвимы. Возможно, Обри ощущал ее страх, но что он мог сделать? Разве что написать Смитерсу и заказать ему рождественский подарок для матери.
Сам Бердслей пытался уверить себя в том, что ничего страшного не происходит. В том же самом письме он делился со Смитерсом следующими соображениями: «Все произошедшее с нами показалось мне подходящим сюжетом для картины. Настоящей, большой картины». Обри ни в коем случае не хотел снова погрузиться в депрессию – теперь для него это состояние было сродни преступлению. По словам Бердслея, он разгонял тоску прилежной работой, хотя эта работа была в основном умственной. Вероятно, Обри обдумывал композиции для «Опасных связей», но не создал ни одного рисунка. Он не рисовал, но много читал. Это способствовало улучшению его настроения и побуждало высказать свою точку зрения. В частности, Бердслей заявил матери, что в «Риме» Эмиля Золя из цикла «Три города» есть весьма нелепые пассажи о Боттичелли. Его порадовало подарочное издание «Карикатур на 25 джентльменов» Бирбома. «Разумеется, – написал Обри в благодарственном письме, – больше всего мне нравится собственный портрет». Другой приятной неожиданностью стало зимнее солнце, а будоражащей новостью – слабое землетрясение (благодатная тема для разговоров за завтраком). Радовали подарки Раффаловича, длинные письма Мэйбл и визит Пеннеллов, которые проводили Рождество в Борнмуте.
Наконец были доставлены сигнальные экземпляры альбома «50 рисунков Обри Бердслея» (кстати, Обри посвятил его Пеннеллу). Он замаскировал свое наслаждение сетованиями на только ему видимые изъяны в оформлении, сказав, что они вызваны совершенно недостойной спешкой при подготовке.
Отметим, что в ноябрьском выпуске Magazine of Art была напечатана статья Маргарет Эрмор «Обри Бердслей и декаденты», с опозданием подтверждавшая его положение ведущего представителя художественного движения, почти прекратившего свое существование. По утверждению Эрмор, в рисунках Бердслея наиболее полно выражалось все типичное для декаданса: презрение к классической традиции живописи, нормам морали и этики, холодный взгляд на жизнь как таковую и при этом блестящее мастерство ее изображения. По ее мнению, Бердслей мог, не погрешив против истины, сказать: «L’art dcadent, c’est moi»[119]. Причины этой «болезни», как считала критик Magazine of Art, заключались в том, что он оказался подвержен тлетворным веяниям, пришедшим в их высоконравственное отечество с другой стороны Ла-Манша. Тем не менее Эрмор была готова признать, что в последнее время появились некоторые основания для оптимизма. Работы Бердслея для «Желтой книги» были лихорадочно порочны и приторно гнусны (!), но в иллюстрациях к «Похищению локона» Поупа и рисунках, сделанных для «Савоя», видны признаки «выздоровления» их автора. К сожалению, сей вердикт не остановил агонию журнала в розовой обложке[120].
Последние работы Бердслея, особенно его иллюстрации к либретто опер Вагнера, опять вызвали возмущение. Обозреватель из Academy назвал их чудовищными. «Нет никакой причины, по которой мистер Бердслей не должен был создавать такой рисунок, как нечто под названием “Эрда”, коль скоро это ему угодно, – писал он. – Но у редактора журнала, называющего себя художественным, есть все основания для отказа в публикации». Даже Макс Бирбом сожалел, что его друг опять пытается шокировать публику. «Художник не должен делать этого просто из озорства», – написал он [18].
В целом критические выпады оставили Бердслея равнодушным, но статья в Magazine of Art его задела. Обри писал Раффаловичу, что журнал должен извиниться за нее перед ним и его друзьями. Тем не менее, несмотря на заявления о неприязни к самому определению «декадент», он продолжал время от времени демонстрировать декадентские манеры.
В это время и началась рекламная кампания для популяризации альбома «50 рисунков Обри Бердслея» Ее частью стало интервью художника The Idler, появившееся в марте 1897 года[121]. Он снова надел свою маску. Избегая самого термина, Обри провозглашал соответствующие лозунги. Он восхвалял искусственность и говорил о красоте безобразия. Поза была намеренно провокационной: Бердслей признавал, что может рисовать лишь при искусственном свете – если ему хочется работать днем, то приходится задергивать шторы и зажигать свечи.
Он не стал ограничивать свои комментарии изобразительным искусством. Обри признался, что в равной мере любит хорошие книги, хорошую мебель и хороший кларет. Он высокомерно посоветовал журналисту попробовать «Шато-Латур» урожая 1865 года. Это был вызов не только представителям буржуазии, но и аристократам. Или Бердслей строил собственные планы на будущее, хотя оно представлялось более чем неопределенным?
Интервьюер попросил его назвать своих любимых авторов. Художник не думал ни минуты и сказал: «Бальзак, Вольтер и Бердслей». Он, правда, добавил, что сейчас читает много богословских сочинений. Свои работы Обри обсуждать не стал, заметив только одно: «Разумеется, у меня есть цель. Это гротеск. Если я не вижу гротеска, то я не вижу ничего. При этом я всегда делал свои зарисовки, как говорится, ради забавы… Я забавлял себя работой, и, если это забавляло публику, тем лучше для меня». О своем нынешнем физическом состоянии Бердслей сказал следующее: «Это большое счастье – даже будучи на пороге смерти, заниматься тем, что тебе больше всего нравится. Не знаю, сколько мне еще отпущено, но скажу откровенно: быть рабом своих легких и дышать на берегу моря и в сосновом лесу в надежде продлить бренное существование, мне кажется просто глупым».
Конечно, это была бравада. Мир Бердслея раскололся надвое: то, что уже было, и то, чему он еще мог стать свидетелем. Приближение Рождества сделало эту трещину еще глубже. Обри писал Раффаловичу: «Как жаль, что этот замечательный праздник в своем общественном и коммерческом аспекте почти для всех становится неприятным временем», а в письме Смитерсу раздраженно восклицал: «О боги! Что за несносный праздник это Рождество!» Тем не менее Бердслей расстроился, что не может посетить торжественную полуночную мессу. Как хорошо было бы прослушать ее в Бромптонской оратории…
Рождество в Пайр-Вью прошло очень трогательно. Перед завтраком Обри увидел около своего прибора множество маленьких подарков – его поздравили соседи по пансиону. Грей прислал ему пятитомник Уолтера Лендора «Воображаемые разговоры» – произведение, содержащее свыше 150 диалогов между людьми всех эпох на исторические, общественно-политические и литературные темы, выпущенный издательством Vale Press. Госсе написал письмо, полное похвал за прекрасную работу, проделанную в 1896 году, и заверений о его гарантированном месте в истории живописи XIX века. Раффалович прислал книгу воспоминаний о Ватто и некий «благородный» подарок – скорее всего, денежный чек. В дальнейшем Андре присылал их регулярно.
Обри был слишком слаб, чтобы присутствовать на церковной службе, но мать решила как-то компенсировать это. Элен подарила сыну несколько богословских трудов, в основном католических священников.
За рождественским обедом Обри почувствовал озноб. Ему пришлось покинуть общество и лечь в постель. К ночи лихорадка усилилась. По-видимому, это было началом очередного приступа. Болезнь достигла кульминации. Наутро решили собрать большой консилиум – нужно было обсудить дальнейшие действия и способы лечения. Так завершался год [19].
Глава IX
Смирение
«Возвращение Тангейзера на гору Венеры» (1896)
Прогноз оказался неблагоприятным. Состояние Бердслея ухудшалось и сильно тревожило врачей. Опять заговорили о переезде – надежда была только на климат. Сам Обри между тем надеялся, что у него всего лишь простуда, и не оставлял мысль о том, чтобы вернуться в Лондон. Врачи об этом не хотели даже слышать. В конце концов он согласился на новый пансион немного западнее Борнмута.
Несмотря на близость к Боскомбу, с точки зрения медиков, это место имело неоспоримые преимущества перед соседним курортом. Он отличался необычно мягким климатом, и здесь выпадало меньше всего осадков в Англии. Роза ветров тоже была весьма благоприятной. Но больше всего врачи уповали на благотворные для здоровья, особенно если речь шла о больных туберкулезом, сосновые леса, благоухание которых наполняло здешний воздух. Город становился модным курортом и быстро развивался – здесь жили уже 38 тысяч человек, но лесные массивы это не затрагивало. Прекрасные сосны, многим из которых было больше 150 лет, делали местность похожей на южноевропейскую. Виды тут казались «вполне итальянскими».
Впрочем, переезд в царство сосен пришлось отложить, хотя он был полностью подготовлен, даже имелась договоренность об упаковке библиотеки Обри и ее хранении у местного книготорговца. 17 января произошло очередное кровотечение. Неделю жизнь Бердслея висела на волоске. Он был так слаб, что не мог встать с постели. В это время пришло письмо от Мэйбл – она задерживалась в США. Гастроли завершились, но ей предложила ангажемент театральная компания Ричарда Мэнсфилда. Этой несомненной удачей мисс Бердслей в последнюю очередь обязана актерскому таланту. Скорее свою роль сыграли ее личное обаяние и связи: коммерческим директором у Мэнсфилда служил Чарлз Кокран, старый друг Обри. Это известие вызвало у Обри тоскливые мысли: он боялся, что, когда Мэйбл вернется домой, его уже не будет в живых…