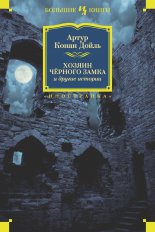Обри Бердслей Стерджис Мэттью

Предложение Фреда Брауна оставалось в силе, и рисунок, взятый из редакции, стал одним из двух, принятых комиссией. Вторым была «Саломея»… Бердслей встретил теплый прием у членов клуба. Макколл пригласил его на обед и познакомил с несколькими другими участниками выставки, в частности с молодым художником Альфредом Торнтоном.
Выставка открылась в галерее Дадли в середине апреля. Рисунки Бердслея были выставлены вместе с полотнами Моне, Дега и Сарджента, а также с работами более близких ему по возрасту Чарлза Фупса, Уолтера Сикерта и Филипа Уилсона Стира. Даже в этой компании он произвел впечатление. Бердслея не упоминали во всех обзорах, но его заметили и похвалили. В Magazine of Art посчитали, что «причудливые рисунки мистера Обри Бердслея… обладают болезненной притягательностью». Критик из Artist назвал их тонко продуманными, хотя и эксцентричными. Макколл, писавший для Spectator, закончил свой обзор упоминанием «одного-двух примеров прихотливого таланта мистера Бердслея, умеющего создать композицию и обладающего техническими ресурсами для проработки тонких линий и насыщенных темных тонов» [6].
Апрель принес и другие радостные вести. Был выпущен буклет, анонсирующий выход в свет романа «Смерть Артура», – сложенный лист бумаги с рамкой работы Бердслея, названием одной из глав с декоративной буквицей и изысканным рисунком, который ранее произвел столь глубокое впечатление на Пеннелла. Это дало будущим читателям первое представление о том, что их ждет.
Почти одновременно читатели увидели первый номер The Studio с обложкой Бердслея, восемью его рисунками и статьей Пеннелла о новом иллюстраторе. Статья оказалась короткой, но, хотя автор впоследствии утверждал, что старался быть максимально сдержанным, у Обри были основания радоваться ей. Сомнения Пеннелла оказались незначительными, а похвалы щедрыми. Он считал, что в рисунках Бердслея безупречное исполнение сочетается с замечательной изобретательностью. По словам Пеннелла, молодой человек взял за основу своего стиля все школы и эпохи – мастеров XV века, японских живописцев и прерафаэлитов, отбросив ограничения каждой из них. Пеннелл признавал, что в некоторых иллюстрациях к «Смерти Артура» ощущается чрезмерное влияние Берн-Джонса, но полагал, что сие осознанный выбор Бердслея для работы над конкретным заказом, и указывал на то, что в его портретах и «японских» рисунках, не говоря уже об «импрессионистских» пейзажах, не видно никакого влияния прерафаэлитов.
Как и следовало ожидать, он отдельно похвалил готовность Бердслея воспользоваться средствами механической репродукции для публикации его рисунков, что позволяет увидеть подлинное мастерство их создателя, а не чью-то чужую интерпретацию. Пеннелл назвал рисунок «Мерлин забирает младенца Артура», иллюстрирующий и статью, одним из лучших примеров механической гравюры, если не самым замечательным, который он когда-либо видел. Перейдя к определению особого качества рисунков Бердслея, он сосредоточился на сложном сочетании простых линий и интересном расположении блоков черного цвета. Завершил статью мастер высокопарным утверждением в стиле Уистлера, что даже художникам Бердслею удалось понравиться больше, чем он сам того хотел.
Безусловно, первый номер The Studio не стал бенефисом Обри Бердслея. Там имелись статьи, посвященные Фредерику Лейтону, Фрэнку Брангвину, Лэзэнби Либерти, Р.Э.М. Стивенсону, К. У. Фурсу или написанные ими, а также материал о Ньюлинской школе книжной иллюстрации и экслибрис. Тем не менее Бердслей там не затерялся. Благодаря пяти полосным иллюстрациям он был представлен лучше, чем президент Королевской академии художеств.
Благожелательная статья в первом номере специализированного художественного издания не могла стать пропуском в мир славы и мгновенно снискать молодому человеку популярность. О появлении журнала написали немногие. Pall Mall Gazette вскользь упомянула о нем, Artist и Academy опубликовали благосклонные обзоры, но не назвали имени Бердслея, в London Figaro нового иллюстратора заметили, но сочли его рисунки надругательством над живописью, бессильными подражаниями Берн-Джонсу в его худшей манере, с псевдояпонскими эффектами. И тем не менее это укрепило репутацию Бердслея и представило образцы его работ публике за пределами ближнего круга друзей и знакомых. Журнал, часть тиража которого распространялась за пределами Англии, также донес его имя до читателей из Франции, Италии, Германии и США [7].
Сам Обри, кстати, тоже собирался за границу. Весной он планировал второй раз съездить в Париж, чтобы посетить художественные салоны. Бердслей обсудил эти планы со своим новым другом Оскаром Уайльдом, и они решили ехать вместе. Это могло быть упоительным: восходящая звезда книжных иллюстраций, имеющая столь прихотливые вкусы, и знаменитый литератор, великий эстет, гуляющие рука об руку по парижским бульварам! Бердслей предвкушал грядущие удовольствия. Он поспешил сообщить Кингу о своих намерениях. Поездке помешал Альфред Дуглас…
Уайльд был женат и имел двух маленьких детей, но с конца 80-х годов все чаще стали говорить, что обществу супруги, да и вообще женщин, он предпочитает общество мужчин. Уайльд словно выставлял напоказ свою тайную и незаконную страсть… Он долго был увлечен молодым поэтом Джоном Греем, чья внешность и даже фамилия стали внешностью и фамилией героя романа, снискавшего Уайльду славу. В 1891 году неистовый Оскар, как называли его друзья, познакомился с лордом Альфредом Дугласом. Молодой аристократ обожал сочинения Уайльда, а Уайльд, в свою очередь, восхищался Дугласом tout court[58]. У него было все – молодость, красота, титул и аристократическое пренебрежение к мнению других людей. Как можно не любить такого?
Страсти там кипели нешуточные. Очень скоро Дуглас стал просто тиранить Уайльда. Капризный и требовательный даже в мелочах, узнав о не мелочи – поездке в Париж, Альфред пришел в ярость. Без него! С каким-то молодым художником! Ни за что! Никогда! Словом, Уайльд остался в Лондоне, а Обри собрался в мае поехать в Париж с Мэйбл и Пеннеллами.
Разочарование, которое он мог испытывать, немного компенсировала перспектива сотрудничества с Оскаром по возвращении из Франции. Похвала Уайльда, статья и иллюстрации в The Studio и успех на выставке Клуба новой английской живописи способствовали тому, чтобы Джон Лейн заказал Бердслею серию из 10 полосных иллюстраций для англоязычного издания «Саломеи». Какая другая работа могла стать более волнующей и богатой возможностями? Обри сразу согласился. Он уже многое перенял от Уайльда. Лейн предложил ему 50 фунтов, но Бердслей попросил выплатить гонорар в гинеях, что считалось высшим шиком. Дуглас не захотел оставаться в стороне и взялся за перевод. Бердслей собирался в Париж, воодушевленный открывавшимися перед ним горизонтами [8].
Перед отъездом ему предстояло решить несколько неотложных задач. По условиям его договора с Дентом относительно «Смерти Артура» к 15 апреля следовало предоставить иллюстрации к двум главам книги – IV и V, которые составляли вторую часть серийного издания. Тем временем Кейли из Pall Mall Magazine, вероятно под влиянием статьи в The Studio и успеха рисунков Бердслея на выставке, обратился к нему с просьбой проиллюстрировать рассказ в жанре ужасов. Обри получил текст «Поцелуя Иуды» в Брайтоне, куда отправился навестить старых друзей. Кинга в городе не было, но Бердслей хотел встретиться с Пэйном и Маршаллом. Он вообще любил свою alma mater.
Сроки действительно поджимали, и Обри сказал, что сделает эти рисунки во Франции. Это было явным позерством. Его поездка таким образом приобретала профессиональный оттенок, тем более что Пеннеллы тоже брали с собой работу: Джозеф готовил серию гравюр о гаргульях Нотр-Дама, а Элизабет делала обозрение парижских салонов для Fortnightly Review.
Обри, Мэйбл и Пеннеллы пересекли Ла-Манш в начале мая. В Париже они поселились недалеко от Лувра, в гостинице с забавным названием Htel de Portugal et l’Univers, любимом месте Пеннеллов. Чопорный Бердслей был сконфужен объятиями и крепким поцелуем консьержки, которая вела себя с Джозефом и Элизабет очень непринужденно.
В Париже жило множество англоязычных художников и писателей, приехавших покорять столицу мировой культуры. Сейчас, в преддверии открытия выставок, они просто заполонили город. Здесь были, в частности, Чарлз Уибли, Р.Э.М. Стивенсон, К. У. Фурс и Джеймс Гатри, но Обри заинтересовали не они, а молодая супружеская чета из Америки, Генри и Алина Харленд.
Писатель Генри Харленд фантазировал не только на страницах своих произведений. Ему недавно исполнилось 32 года, но он уже несколько раз выдумал свою биографию. То Генри утверждал, что родился в Санкт-Петербурге, рос в Риме, а образование получил в Париже… То он намекал, что является внебрачным сыном императора Франца-Иосифа… То сообщал о том, что собирается стать священником… Он редко упоминал, что на самом деле родился в Нью-Йорке, а его первым литературным успехом была серия новелл о жизни евреев, написанная под псевдонимом Сидни Луска. В Европу вместе с молодой женой он приехал в 1891 году. Супруги любили Париж, но поселились в Лондоне, и Харленд стал публиковать рассказы в английских еженедельниках. Первый сборник «Пропавшая мадемуазель» выпустил Хейнеманн, и вскоре его примеру последовали другие. Природная жизнерадостность и тонкое чувство юмора Харленда помогли ему завести множество друзей, а слабое здоровье (он, как и Бердслей, болел туберкулезом) вызывало у всех, кто о нем знал, сочувствие. В литературных источниках есть упоминания о том, что Обри встретился с Харлендом случайно, в приемной хирурга Саймса Томпсона, но теперь известно, что их познакомил Джозеф Пеннелл весной 1893 года [9].
На открытии нового салона на Марсовом поле царил ажиотаж. Все разглядывали Уистлера и Пюви де Шаванна. Люди отталкивали друг друга, чтобы увидеть проходивших мимо Золя и Каролюс-Дюрана. Жадные взоры выискивали знаменитостей. Впрочем, некоторые обратили внимание и на картины.
Бердслей заранее подготовился к выходу на эту переполненную сцену. Часть своего заработка он потратил на обновы. В то время как все посетители оказались на разных полюсах – традиционный гардероб и экстравагантная богемность, Обри сделал собственный выбор. Его костюм был прекрасно оркестрованной симфонией в серых тонах: серые сюртук и брюки, серые перчатки, серый цилиндр. Плюс золотистый галстук и легкая трость в руке. Минус шаркающая походка. Высокий, худощавый, с необычной стрижкой, Бердслей привлек к себе внимание.
Интересных картин оказалось много. Импрессионизм, символизм, пуантилизм – представлены были все современные школы. Берн-Джонс прислал свою «Русалку». Швейцарский символист Карлос Шварбе, изображавший женщин только тогда, когда нужно было представить смерть или страдание, показал еще один причудливый образ того, что будет после жизни. Чарлз Кондер, молодой австралиец, работавший в Париже и впервые выставлявший свои картины, приготовил для салона несколько небольших пейзажей. Кстати, они очень понравились Макколлу.
В перерывах между посещением салонов Бердслей действительно работал. Он быстро закончил иллюстрацию для «Поцелуя Иуды» – замечательный рисунок, простой, но одновременно обладавший зловещей силой, и отправил его в Лондон. Обри старался не обращать внимания на одышку и не раз поднимался на крышу Нотр-Дама, отвлекая Пеннелла от его зарисовок. Во время одного из этих визитов он изобразил Пеннелла в виде Стрикса, самой чудовищной гаргульи собора[59].
Бердслей также поднимался по узкой крутой лестнице в студию Уильяма Ротенштейна в мансарде на Монмартре. Ровесник Обри Ротенштейн, сын торговца из Брэдфорда, уже три года изучал живопись в Париже. Две его картины в импрессионистском стиле, как и работы Бердслея, появились на выставке Клуба новой английской живописи. Благодаря своей кипучей энергии и непоколебимой самоуверенности Уильям прекрасно себя чувствовал в самом центре парижского мира молодых живописцев и литераторов. Он был другом Тулуз-Лотрека и Верлена. Его любил Уистлер.
Бердслей изо всех сил старался завоевать дружбу (и восхищение) Ротенштейна. Сначала тот скептически относился к Обри. Щегольский костюм его не впечатлил, а резкий монотонный голос и нервные манеры Бердслея претили его парижской чувствительности. Он даже усомнился в художественном мастерстве своего гостя, обнаружив в его линиях «что-то жесткое и бесчувственное», а в композиции «нечто мелкое и узкое». Тем не менее неизменная учтивость Бердслея вкупе с новообретенной уверенностью способствовали тому, что вскоре эти сомнения у Ротенштейна рассеялись. Обри прибегнул к такому верному средству, как тонкая лесть. Впоследствии Ротенштейн не раз говорил: «Бердслей проявил большой интерес к моим картинам». Так было положено начало еще одной дружбе [10].
Весенний Париж оказался превосходным местом для отдыха и развлечений. Бердслей, очень довольный успехом и полный планов на будущее, был готов к тому, чтобы получать от них удовольствие. Он пил вино и кофе в Люксембургском саду и в Латинском квартале. Всех лондонских художников и писателей, оказавшихся в «столице искусства», опьянил ее воздух. Они то и дело подшучивали друг над другом, и Бердслей, уже ощущавший себя своим в этом обществе, самозабвенно присоединялся к общему веселью. Он присутствовал на вечеринке, которая началась за столом, стоявшим на улице перед Пале-Рояль, а закончилась в ближайшем ресторане после жалоб кучеров и вмешательства полиции. Однажды при возвращении домой после ночи, проведенной в кабачках на Монмартре, в карету, где был и Обри, набилось так много людей, что на спуске у экипажа отвалилось дно. Кто-то выпал на дорогу… Кто-то успел ухватиться за стенки кареты… Судьба милостива к пьяным – она уберегла всех от увечий.
Эскизный портрет Джозефа Пеннелла в образе чудовища из Нотр-Дама (1893)
Присутствие в компании Мэйбл, Алины Харленд и нескольких других женщин придавало обстановке некоторую напряженность, и, вероятно, случалось всякое. Джозеф Пеннелл впоследствии вспоминал об этом так: «Иногда происходили экстраординаные события, и о некоторых из них я даже сейчас не могу рассказать».
Конечно, они поехали в Версаль. Там, возле маленького озера напротив Трианона, Обри, Мэйбл и все другие отлично отдохнули. Они лежали на траве под цветущими каштанами и, по замысловатому выражению Пеннелла, «призывали свои души». Вскоре поблизости появилась группа американских туристов. Чарлз Фурс встал и во всеуслышание объявил, что собирается искупаться в озере. Женщины высказали желание присоединиться к нему, и все сделали вид, что сейчас будут раздеваться. Американцы застыли в изумлении и через минуту ретировались. Возвращаясь в конце дня в Париж, компания подняла на платформе такой шум, что пришлось вмешаться дежурному по вокзалу.
В другой день они устроили экскурсию на лодках в Сен-Клу. Ветер сдувал соломенные шляпы, и не только женщины, но и мужчины повязали головы платками. В таком экстравагантном виде они присоединились к местному свадебному кортежу, а потом, гуляя по парку вокруг старинного замка, изображали статуи богов и богинь. Макколл, работавший над вступлением к книге о росписи на греческих вазах, рассуждал об античном искусстве и мифологии.
Во время этой поездки вообще было много дискуссий на данную тему. О позициях спорящих и содержании некоторых бесед можно судить по обзору Элизабет Пеннелл для Fortnightly. Она высказала мнение, что в смысле новых картин и скульптур год был неудачным, но для некоторых полотен нашла слова похвалы. Обзор завершался утверждением, что на самом деле наиболее активны и очень оригинальны лишь те, кто создает только черно-белые рисунки. Элизабет отметила, что развитие фотографии заставляет молодых рисовальщиков стремиться к результатам, с которыми не может соперничать никакая камера. Эта мысль воспламеняла воображение Бердслея. Если «жизненная сила современного искусства» переходит в графику, как предположила миссис Пеннелл, то, возможно, ему и не следует заглядывать дальше.
В последний вечер в Париже, после той самой поездки в Сен-Кло, они пообедали в маленьком ресторане у реки – не в зале, а на террасе. Там стояла клетка с попугаем, который бесконечно повторял: «Aprs vous, Madame, aprs vous, Monsier»[60]. У Макколла была при себе «посмертная маска прекрасной утопленницы» – он купил ее в парижском морге. Макколл повесил ее на ближайшее дерево, а Обри и Мэйбл «отдавали ей почести» в некоем причудливом ритуале. Поистине фантасмагория [11].
Бердслей явно старался выделиться среди остальных, но это не всем было по душе. Манерность и намеренно провокационные высказывания о живописи и литературе мало кому нравились. Его презрительное замечание о «бессмысленном следовании устаревшим принципам и соблюдении таких же законов» привело к жаркому спору со Стивенсоном и Гатри. Стивенсон, написавший для первого выпуска The Studio статью с опровержением некоторых тенденций в современном искусстве, взял покровительственный тон. Он глубокомысленно рассуждал о достоинствах традиции и часто повторял: «…в мое время», подчеркивая, сколь велика дистанция между ним и «юным» Обри. Бердслей был этим очень раздражен.
Кстати, его первая встреча с Уистлером оказалась малоприятной. Однажды вечером они с Пеннеллом пошли в оперу слушать «Тристана и Изольду». Возвращаясь из театра, друзья увидели Уистлера, сидевшего на веранде Гранд-кафе в обществе какого-то мужчины. Пеннелл подошел поздороваться, а потом представил Уистлеру Бердслея. Мэтр кивнул, но не более того. Обычно доброжелательный к молодым людям, тут он повел себя очень сдержанно, если не сказать неприязненно. По-видимому, Уистлер уже что-то слышал о рисунках Бердслея в первом номере The Studio. Когда через день Пеннелл снова встретился с ним, Уистлер среди прочего спросил: «Что вы думаете об этом юнце?» – и, не дожидаясь ответа, тут же вынес собственный вердикт: «Он слишком самоуверен. Я говорю о творчестве».
Пеннелл стал защищать своего молодого друга и попросил разрешения привести Обри на небольшой прием, который Уистлер и его жена устраивали в ближайшее воскресенье вечером. Мэтр неохотно согласился. Второе «явление» Бердслея Уистлеру оказалось таким же неудачным, как первое. Художник его просто игнорировал. Обри тем не менее не стал об этом печалиться. Среди гостей был его поклонник, Пюви де Шаванн. Он сердечно приветствовал молодого человека и пригласил посетить его студию. На приеме также присутствовал Стефан Малларме, уже провозглашенный вождем символизма, которым Бердслей искренне восхищался, не в последнюю очередь потому, что Малларме практиковал типографский монтаж некоторых своих стихотворений. Именно он впервые – в эстетике восприятия поэтического произведения – заговорил о значении визуального впечатления стихов.
Через несколько дней один богатый англичанин пригласил Бердслея и Пеннелла пообедать в кафе на Елисейских Полях. Такое же приглашение получил и Уистлер. Он его принял, но на обед не пришел. Для Обри это стало тяжелым ударом. В тот вечер он нарисовал едкую карикатуру на Уистлера и подарил ее Пеннеллу.
Да, рассказ Пеннелла о первом неблагоприятном впечатлении, которое Бердслей произвел на Уистлера, выглядит ярко и убедительно, но к нему нужно относиться с некоторой осторожностью. Будучи биографом и другом Уистлера, Пеннелл высоко ценил эту дружбу и стремился представить себя как единственное связующее звено между Уистлером и остальным миром – или, в данном случае, между ним и Бердслеем. Но ведь в Париже были и другие люди, которые могли свести их друг с другом. Один из завсегдатаев парижских салонов вспоминал вечеринку в студии Уистлера, где присутствовал Бердслей, так: «Он мало говорил и большую часть времени что-то рисовал в блокноте». Это свидетельствует о том, что Бердслей был вхож в круг Уистлера, а уж находил ли он там радушный прием, бог весть [12].
Нарушить очарование той весны не могло ничто, и Обри вернулся в Лондон в прекрасном настроении. В июне была опубликована первая часть «Смерти Артура», а также сборник «Острословие» Сиднея Смита и Ричарда Бринсли Шеридана – в нем рисунки Бердслея «удостоились» твердого переплета. «Смерть Артура» распространялась по подписке, а «Острословие» предназначалось для «понимающей» аудитории, поэтому обзоров в прессе было немного, но The Studio написал о том, что в «Смерти Артура» главной изюминкой стали иллюстрации и это обещает мистеру Бердслею блестящее будущее в качестве художника-оформителя.
«Острословие» The Studio тоже не оставил без внимания. В журнале похвалили гротески Бердслея, сочтя их попыткой символизировать шутки, а не просто иллюстрировать их. Обозреватель сожалел лишь о том, что рисунки были маленькими и это уменьшило художественное воздействие некоторых из них. Сие беспокоило и Бердслея, причем не только в «Острословии», но и в «Смерти Артура». По словам Валланса, Обри вообще был разочарован качеством печати и тем, до какой степени красота рисунка, к созданию которого он приложил столько сил, утрачивается при чрезмерном уменьшении. Когда Бердслей увидел, что его причудливо детализированный медальон с изображением Мерлина уменьшился почти до размера монеты, его постигло разочарование[61].
Работы по-прежнему было много, но строгие сроки ее сдачи превратились в тягостное бремя. Обри откладывал до последнего дня и часто рисовал в спешке. Как свидетельствует Валланс, по своему характеру Бердслей не был создан для ежедневного усидчивого труда, пусть даже творческого: «Вместо того чтобы развиваться в одном ритме с неторопливым течением времени, его настроения и интересы изменялись и перескакивали с одного места на другое, еженедельно или даже ежедневно, быстро и непоследовательно».
Летом 1893 года настроения и интересы Обри менялись особенно стремительно. Он забросил ежедневную работу для PMB и с энтузиазмом взялся за рисунки к «Саломее». Как всегда, новый проект вызвал желание рисовать в новом стиле. Для того чтобы уловить призрачный эротизм пьесы, Бердслей разработал манеру, которую сам назвал мистической. Японские элементы оставались преобладающими, и знакомые символ – розы Берн-Джонса, павлины Уистлера – по-прежнему находили свое место, но использовались теперь значительно меньше. Бердслей помещал фигуры на чистом белом фоне, почти отказался от богато декорированных рамок и делал лишь несколько простых линий даже для создания эффекта драпировок.
Будущий стиль просматривался уже в двух иллюстрациях для Pall Mall Magazine, но Росс без колебаний приписал его строгость своему влиянию – он ведь так много сказал о росписи на греческих вазах! Вдохновленный разговором с Макколлом за столиком в парижском кафе, Бердслей внимательно изучил все амфоры Британского музея. Тем не менее «мистический» элемент в его творчестве скорее нужно искать у Карлоса Шварбе и других молодых символистов из континентальной Европы. Кроме того, Бердслей услышал Уайльда, сказавшего, что у Саломеи на каждом рисунке должно быть новое лицо. Он пришел в восторг от этой работы. Обри почти ежедневно приносил свои последние работы в книжный магазин Лейна и Мэтьюза на Виго-стрит – там их внимательно рассматривали и обсуждали. Бердслей говорил Россу, что дело у него продвигается сказочно быстро [13].
Другим радостным событием начала лета стал переезд семьи в новый дом. Заработки Обри (даже при постепенных выплатах, практикуемых его издателями, он получил за 10 месяцев больше 300 фунтов) вместе с деньгами, доставшимися по завещанию мисс Питт, впервые позволили Бердслеям арендовать комфортное жилье. Недолго думая, они въехали в дом № 114 на Кембридж-стрит. По меркам Пимлико, это было весьма достойно. Фасадом дом выходил на западную часть церкви Святого Гавриила, и из окон открывался вид на Варвик-сквер. Арендный договор составили на имя Мэйбл, так как она уже достигла совершеннолетия и не была обременена долгами, в отличие от своих родителей. Внутренней отделкой и обстановкой занимался Обри.
Он обратился за советом к Валлансу, который в прошлом году написал серию статей «Об обстановке и украшении дома», но сдержанность в стиле Морриса, которую тот порекомендовал, не встретила у Обри понимания. Две соседние комнаты на втором этаже были превращены в гостиную. Стены, там, где не стояли книжные шкафы, выкрасили в оранжевый цвет. Полы и двери были черными. Мебель подобрали тоже черную. Портьеры – темные, тяжелые – сделали «на французский манер». Контрастную ноту в цветовую гамму внесла обивка мебели в сине-белую полоску.
Кстати, сама мебель была простой. Обри всегда любил высокие кресла и столы в стиле эпохи Регентства из темного дерева. Все, кто здесь бывал, сошлись во мнении – комната производила впечатление сумрачной, темной и строгой, почти аскетичной. Были и некоторые украшения – белый гипсовый слепок улыбающейся девушки, несколько эстампов в рамах и рисунков самого Обри. Продолжая сочинять миф о себе, он повесил на стену эскиз карнавального шествия, который сделал в восьмилетнем возрасте и подарил деду, и портрет Рафаэля, обозначавший переход к его первому индивидуальному стилю. Существует предположение, что Обри даже переписал этот портрет, чтобы подчеркнуть его оригинальность и новизну.
Главная точка приложения сил Бердслея и Валланса, все-таки поучаствовавшего в оформлении дома, находилась в гостиной, но есть упоминания и о других комнатах, в частности о маленьком кабинете, обтянутом светлой гобеленовой тканью. Это указывает, что оформители ничего не упустили из виду.
Бердслей мало что делал просто так, и возникает искушение интерпретировать его оранжевые стены в гостиной на Кембридж-стрит как аллюзию к знаменитой «оранжевой комнате», созданной Дэз Эссентом, героем романа «Наоборот» Жорис-Карла Гюисманса. Этот декадент, кстати, предпочитал бездействие не из-за лени или отсутствия возможностей, а от глубокого разочарования в действительности. Сам писатель объяснял выбор цвета так: «Что до этих изможденных, лихорадочных созданий хрупкого сложения и нервного темперамента, чей чувственный аппетит стремится к копченым и остро приправленным блюдам, их глаза всегда предпочитают самый болезненный и раздражающий цвет с кислотным блеском и неестественным великолепием – оранжевый».
Бердслей, несомненно, готов был поиграть и в декадента. Уже усвоивший «кодекс денди», Обри довел свой продуманный антинатурализм до мысли, что работать он может только при свете свечей. Во всяком случае, одна из первых посетительниц дома на Кембридж-стрит обнаружила его рисующим в комнате с опущенными шторами, когда на улице ярко светило солнце. Сначала Обри даже отказался выйти к чаю, который сервировали на маленьком балконе второго этажа, но после того, как Элен отнесла сыну чашку, он вскоре захотел на воздух. Гостья сделала вывод, что ему с самого начала не терпелось вырваться из этой душной комнаты [14].
Декорирование нового жилища заняло у Обри много времени. Он мечтал уехать из Лондона. Вся их компания – Макколл, Торнтон, Харленды и другие – арендовала дом в Сент-Маргерит-сюр-Мер на побережье Нормандии и предложила Мэйбл с братом присоединиться к ним, но обязательства – работа над «Саломеей» и «Смертью Артура» – сделали это невозможным для Бердслея. Мэйбл очень хотела поехать, и решили, что ее будет сопровождать Элен. Письма сестры и матери позволяли Обри незримо присутствовать в Нормандии. Он узнавал не только об играх и развлечениях – пикниках, шарадах и концертах, но и о художественных теориях, обсуждаемых за рюмкой вермута в беседке, увитой плющом.
Чарлз Кондер жил в соседнем отеле, часто виделся с ними и принимал участие в их беседах. Темой одной из оживленных дискуссий послужил рисунок, который сделал один художник из этой компании, чтобы проиллюстрировать статью, написанную Харлендом. Он сетовал на то, что в таких случаях приходится исходить из того, что уже написано о творчестве этого живописца, и ориентироваться на мнение критиков. Макколл подхватил сию идею и предложил создать журнал, где будут публиковаться только репродукции картин и сведения о жизни художников.
Бердслея, кстати, тоже заботила независимость позиции иллюстратора. В своих рисунках он всегда старался избегать прямой связи с текстом и пытался привлечь внимание читателей другими способами. В то лето Обри получил предложение от нового журнала St Paul’s. Ему планировали заказать серию рисунков на библейские темы в том самом «мистическом» стиле, и Бердслей задумался о том, как включить в канонические сцены современные персонажи. Такие трюки действительно привлекали внимание аудитории, но главной его целью было достигнуть фактической независимости рисунков от текста. В то время как Харленд и Макколл занимались теорией, Обри уже планировал создать книгу – именно книгу, где будет сюжет! – рисунков вовсе без текста или с небольшим стихотворным сопровождением. Этот проект Бердслей назвал «Маски». В книге должен был быть пролог, написанный от лица Пьеро, под маской которого Обри видел себя самого. Он думал, что сможет убедить издателя St Paul’s, имевшего сатирическое приложение Pick-me-up, выпустить серию таких книг, и видел «Маски» первой из них. Обри надеялся, что стихи напишет Росс, однако этот замысел так и остался нереализованным [15].
Что же отвлекло Бердслея? Из Парижа приехал Уильям Ротенштейн. Джон Лейн заказал ему 12 литографических портретов оксфордских знаменитостей. Ротенштейн обосновался в университете, но проводил много времени в Лондоне. Бердслей предложил Уильяму, когда он будет в городе, жить на Кембридж-стрит. Их дружба укрепилась, и теперь они даже иногда работали вместе.
Обри и Уильям сидели по разные стороны черного стола, словно партнеры на переговорах. Бердслей мог одновременно и рисовать, и поддерживать беседу. Они говорили об искусстве. Обри во многом разделял взгляды Ротенштейна, но иногда горячо спорил. Сохранилась запись, из которой можно сделать вывод, что Бердслей в таких разговорах упражнялся во враждебных выпадах против Уистлера, которого защищал Уильям. В этом фрагменте, написанном рукой Обри, «Р» обозначает Ротенштейна.
Р. Интересно, чем сейчас занимается мастер?
Я. Полагаю, рисует свой портрет в натуральную величину.
Р. Ты иронизируешь? Почему? Тебе не нравятся работы Джима? Entres nous[62], мне он дал очень многое.
Я. Да, я знаю. Ты страдаешь от жестоких приступов уистлеровской белой горячки.
Ротенштейн дождался возможности ответить, когда они обсуждали Берн-Джонса. В последнее время о великом прерафаэлите говорили все меньше, и теперь Бердслей утверждал, что как художник он был слишком оторван от жизни, хотя как мастер композиции остается неподражаемым. Ротенштейн тут же съязвил: «Подражаемым, Обри. Тебе ли не знать! Вполне подражаемым!» Стрела так точно попала в цель, что этой остротой стал пользоваться и сам Бердслей.
Такие диалоги в полной мере соответствовали духу дружбы и остроумия, который поистине был духом Бердслея. Подобные отношения одновременно подразумевали дружескую поддержку и создавали атмосферу соперничества, где власть авторитетов признавалась и вместе с тем ниспровергалась, хотя манера, свойственная для такого общения и времяпрепровождения, часто была заимствованной у тех же самых авторитетов, таких как Уистлер и Уайльд.
В 1893 году сие содружество только начало формироваться. Росс являлся его членом, но, будучи критиком, а не художником, он находился, что называется, с краю. Вскоре Ротенштейн объявил о том, что нашел человека, который может стоять в центре. В Оксфорде он познакомился с Максом Бирбомом, который тогда заканчивал Мертон-колледж. Бирбом был сводным братом знаменитого актера и антрепренера и театрального режиссера Герберта Три. Макс общался с Уайльдом и перенял у того тягу к позерству. Парадоксальный юмор у него был и свой. Благодаря остроумию, оригинальным карикатурам и статьям о стиле в современной одежде он стал звездой студенческого периодического издания Spirit Lamp. Ротенштейн считал Макса самой яркой личностью в Оксфорде. Уильям привел своего нового друга на Кембридж-стрит и познакомил с Бердслеем. Между молодыми людьми мгновенно возникла симпатия, которая быстро переросла в крепкую духовную связь. Их очень позабавило то, что разница в возрасте у них составляла всего три дня – младшим оказался Обри. Оба восхищались талантами друг друга и уважали некоторые различия в мнениях.
Бирбом обеспокоился, узнав, что у Обри есть серьезные проблемы со здоровьем, и старался по мере сил сдерживать его лихорадочную энергию. Он восхищался глубокими познаниями Бердслея. Они обменялись дружескими карикатурами. Бердслей комически обыграл трехдневную разницу в возрасте, изобразив Бирбома младенцем в цилиндре, тогда как сам он был в чепчике, и для того, чтобы заверить нового друга в их «бессмертии», добавил этот рисунок к последней серии иллюстраций для «Острословия».
Ротенштейн полностью освоился в художественном и литературном мире Лондона. Кроме того, он ввел Бердслея в круг золотой молодежи того времени. Уильям представил его членам Клуба рифмачей (Rhymer’s Club), в который входили, в частности, Уильям Йейтс (один из его основателей), Лайонел Джонсон, Эрнест Доусон и Артур Саймонс – литераторы разнообразных дарований. Каждый из них искал свой путь разрыва с традицией викторианского стихосложения. Уильям привел Обри в «Долину» – дом рядом с Кингз-роуд, где жили Чарлз Рикеттс и Чарлз Шэннон, художники, посвятившие свою жизнь работе и друг другу. Они время от времени выпускали журнал Dial, где их гравюры, выполненные в текучей прерафаэлитской манере, соседствовали со статьями о разных аспектах современной культуры, в первую очередь французской.
Стать своими людьми в «Долине» хотели многие. Оскар Уайльд называл ее единственным домом в Лондоне, где никогда не бывает скучно. Рикеттс восхищался Уайльдом. Он делал обложки, фронтисписы и иллюстрации практически ко всем его книгам, и это могло послужить преградой для общения с молодым художником, работавшим сейчас над «Саломеей». Есть основания полагать, что отношения между Бердслеем и обитателями «Долины» не сложились [16].
Обри доставляли большое удовольствие воскресные утренние собрания в студии Уилсона Стира на Чейн-Уолк, где оживленные дискуссии вели импрессионисты из Клуба новой английской живописи. Особенно интересен ему был Уолтер Сикерт, лидер и теоретик этой группы.
Бердслей продолжал встречаться с Уайльдом. Вместе с ним, Россом и, конечно, Альфредом Дугласом он несколько раз ходил смотреть «Женщину, не стоящую внимания». То, что Оскаром был увлечен и Бирбом, лишь обостряло интерес Бердслея. Оба упражнялись в остроумии в разговорах о мастере, заимствуя темы для веселья и у него самого. В письмах Бирбома его университетскому другу Реджинальду Тернеру есть много таких отголосков, а в письмах Бердслея того времени уже ощущаются стилистическая уверенность и растущее честолюбие. Уайльд был доволен этими попытками подражания. Он их, конечно, ожидал. Неистовому Оскару доставляло удовольствие видеть рядом собственные «отражения». Он познакомил своих молодых друзей с Фрэнком Харрисом, редактором Fortnightly Review. Иногда они все вместе обедали и к компании часто присоединялся Ротенштейн.
Вероятно, Бирбом представил Бердслея Аде Леверсон, хозяйке литературного салона. Мистер и миссис Леверсон, которой тогда было немногим больше 30 лет, жили в Южном Кенсингтоне. Кстати, Уайльд называл Аду остроумнейшей женщиной в мире – ее игривые колкости очень оживляли это мужское общество.
Самые тесные отношения у Бердслея сложились с Ротенштейном и Бирбомом. Их роднил дух товарищества и общих честолюбивых устремлений… Раньше такая духовная связь у Обри была с Кокраном и Скотсон-Кларком[63].
В сей радостной обстановке Бердслей встретил свой двадцать первый день рождения. Он многого достиг и был уверен, что добьется еще большего. Его здоровье в последние несколько месяцев не ухудшалось. Безусловно, все это вселяло в Обри оптимизм.
Лейн был очень доволен Бердслеем и побуждал его рисовать еще и еще. Хотя работа над «Саломеей» не закончилась, он заглядывал вперед и согласился издать «Маски» со стихами Бирбома. Наряду с этим Лейн заключил с Бердслеем договор на создание обложек и фронтисписов для «Языческих записей» Кеннета Грэма и сборника новелл Джорджа Эджертона[64]. Бирбом тем не менее не раз говорил, что Лейн не способен оценить более тонкие аспекты мастерства Бердслея. По его словам, как-то раз издатель сказал: «Как мне повезло с этим молодым Бердслеем! Только посмотрите на технику его рисунков! Какое мастерство! Он никогда не выходит за рамки!» Может быть, это и выдумка, но замечание можно считать характерным. И если художественный вкус Лейна был ограниченным, то его коммерческая хватка и умение рекламировать и продвигать товар не вызывали сомнений. Он понимал потенциал своей восходящей звезды и высоко ценил Ротенштейна и Бирбома. Трое друзей сделали Лейна объектом для своих шуток, но его практичность пошла им на пользу.
На день рождения Лейн подарил Бирбому два пробных оттиска иллюстраций к «Саломее». Праздновали совершеннолетие в «Короне», где собирались молодые поэты из Клуба рифмачей и другие представители лондонской богемы. Там был и Артур Саймонс, музыкальный критик и поэт. Его сборник «Силуэты», выпущенный Лейном в июне, вызвал скандальное неодобрение, к немалому удовольствию издателя. Саймонс являлся апологетом поэзии не «идей», а «впечатлений и ощущений», не традиционной красоты, но «странных» форм. Он обращался за вдохновением к стихам и своих последователей и, хотя некоторые критики называли его декадентом, принимал это определение как комплимент. Саймонса многое могло сблизить с Бердслеем, но их встреча в «Короне» оказалась неудачной. До разговора дело не дошло, а с виду Саймонс посчитал художника самым неприятным и жеманным молодым человеком из тех, кого он когда-либо встречал [17].
Тем не менее Бердслей уже нашел свое место в культурном контексте, очерченном Саймонсом и теми, кто ругал его «Силуэты». Связь с Францией была прочной. В середине августа в парижском Le Livre et l’Image вышла короткая, но лестная статья о нем и его работах. 25 августа на первой полосе лондонского еженедельника Morning Leader был напечтан материал о Бердслее с его портретом. Автор назвал молодого художника умным символистом. Обри остался доволен таким проявлением внимания к его персоне, но притворно ужаснулся «жуткому» портрету и тому факту, что указали его возраст. Он понимал, что с газетами и журналами можно (и нужно) заигрывать. Он хотел подольше оставаться блестящим молодым дарованием, а тут вдруг говорят, что ему уже 21 год! В Morning Leader также упоминалось, что скоро читатели увидят более полный обзор творчества Бердслея. Критическую статью о нем пишет Теодор Вратислав.
На следующей неделе в The Artist and Journal of Home Culture, редактором которого являлся Чарлз Кейнс Джексон, под псевдонимом Пастель появился материал «Некоторые рисунки Обри Бердслея». Джексон был другом Глисона Уайта, и вполне возможно, что тот стал инициатором публикации этой статьи.
Рассуждения Вратислава в Morning Leader почти исключительно основывались на рисунках, опубликованных в The Studio. В целом автор высказывал благожелательное мнение. Он отметил некоторые недостатки в технике Бердслея, но оправдывал их чрезвычайной молодостью художника. Самому Вратиславу, кстати, тогда было 22 года.
В Morning Leader Обри назвали символистом, но Вратислав считал его декадентом. Приписывая Бердслею традиции французской культуры, он обратил внимание на любопытный факт: при бесспорном влиянии современного французского искусства на английскую литературу это влияние остается почти незаметным в английской живописи. Вратислав назвал Гюстава Моро, Одилона Редона и Фелисьена Ропса соратниками Гюисманса и Верлена в области изобразительного искусства. В Англии литературное декадентство Оскара Уайльда, Джона Грея и Артура Саймонса не находило отражения в живописи до тех пор, пока часть этой пустоты не заполнили рисунки Бердслея.
Художественная критика питает отвращение к вакууму. Вратислав ощутил «пустоту», посмотрел по сторонам и увидел Бердслея… Остросоциальная дискуссия о «современном неврозе, тяге ко всему странному и извращенному и восхищении декадентским стилем», которая ранее была ограничена литературой, теперь, с помощью Бердслея, могла распространиться на живопись. Вратислав оставил без внимания иллюстрации к «Смерти Артура», сосредоточившись на ужасах «Саломеи», загадочности «Зигфрида», карикатурном демонизме «Мадам Сегаль» и жуткой жестокости «Поцелуя Иуды». По его мнению, в этих рисунках Бердслей представил сконцентрированный «невроз эпохи» и удовлетворил собственную потребность в «странном». Этот вердикт гарантировал Бердслею место в центре «культурной» сцены. Несмотря на то что статья была напечатана в специализированном художественном журнале, она заложила фундамент будущей широкой дискуссии о художнике и его творчестве [18].
Элен и Мэйбл вернулись из Франции в начале сентября полные восторгов и идей. Дружба с Харлендами, начавшаяся в Париже и окрепшаяся в Сент-Маргерит, продолжилась в Лондоне. Миссис Бердслей, ее сын и дочь стали постоянными гостями на субботних вечерах, которые Харленды устраивали у себя на Кромвел-роуд.
Бердслеи, которые жили теперь комфортно, тоже решили участвовать в светской жизни как хозяева салона. Их приемным днем стал четверг. В соответствии с требованиями этикета, приглашения подписывала Элен, но принимали гостей ее дети. Мэйбл, по свидетельству некоторых друзей, надевала платья в стиле дам с картин великих мастеров Возрождения, сидела в гостиной на стуле с высокой резной спинкой и поднималась, чтобы приветствовать каждого нового гостя, с изящной, хотя и немного манерной учтивостью. Обри сам предлагал собравшимся чай и пирожные, подчеркивая непринужденность обстановки. Макс Бирбом писал, что на этих неформальных, почти интимных приемах его друг проявлялся со своей лучшей стороны. Вычурность исчезала, и всем была видна врожденная доброта Бердслея.
По словам Бирбома, на каждом приеме из рук в руки передавались три или четыре рисунка Обри. Бердслей расцветал от похвал своих старых и новых друзей. На Кембридж-стрит бывали не только его собратья по художественному цеху – Бирбом, Ротенштейн, Росс, Сикерт, Стенбок и другие, – но и бывшие сослуживцы из страховой конторы. Мэйбл приглашала знакомых преподавателей из Политехнической школы. Один раз четверг посетил Оскар Уайльд. Как-то зашел Фрэнк Харрис.
Винсент в этих светских собраниях участия не принимал. Судя по всему, переезд на новую квартиру совпал с очередным охлаждением отношений между ним и Элен. Отсутствие главы семьи становилось причиной разных домыслов – о разводе с женой, о его отсутствии в Лондоне и даже о его… смерти [19].
Обри наслаждался каждым моментом свободы и пришедшей славы, но шокировать окружающих это ему не мешало. В сентябре он написал Лейну, на неделю уехавшему в Париж вместе с Ротенштейном, что собирается отправиться в ресторан наряженным как уличная девка и устроить настоящий кутеж. Неизвестно, было это просто неуместной шуткой или Обри осуществил свой план. Есть намеки, указывающие на то, что Бердслею действительно нравилось носить женскую одежду: на двух опубликованных карикатурах он изображен в таком наряде, а в пародийном скетче Ады Леверсон для журнала Punch имелся персонаж по имени Малыш Бомонт, в котором просматриваются черты Бердслея и Бирбома, не раз говорившего в узком кругу, что питает слабость к женским платьям. Впрочем, все это представлялось как комедия. На одном из рисунков Бердслея того времени изображена модно одетая девушка и стоит подпись «Il tait une bergre». По-французски это значит «Была одна пастушка» (название популярной песни из репертуара Иветты Жильбер), но где-то фразу ошибочно перевели как «Был один пастух» и решили, что на рисунке изображен мужчина, одетый в женское платье. Стало быть, сие – символ горестного состояния современных нравов и извращенных предпочтений молодых людей, в круг которых входил и Обри Бердслей.
Здесь нужно быть осторожными в оценках. Возникает искушение толковать интерес Бердслея к женской одежде как признак его неустойчивого эмоционального состояния, но, наверное, правильнее будет соотнести это с его любовью к театральным эффектам и грубоватым шуткам. Обри часто был легкомысленным даже при выборе повседневной одежды. Стремясь подчеркнуть свою юность, он снова стал носить черный пиджак до пояса в виде фрака без фалд – яркую примету студентов Итона и рубашки с отложным воротником. Один репортер заметил: «Этот способ подчеркнуть художественную индивидуальность не хуже любого другого, и он действительно создает вполне определенное впечатление». Одевшись так, Обри пришел в гости к Генри Харленду и представился мастером Тиббеттом. Харленду понадобилось несколько минут, чтобы узнать в высоком юноше, облаченном в «итонский» пиджак, Бердслея, а Обри был в восторге от своей выходки [20].
Это «хочу и буду» все заметнее проявлялось и в его рисунках. Иллюстрации к «Саломее» открывали широкие возможности для художественных вольностей, но той осенью они стали не единственной причиной конфликта с издателем: договор на иллюстрации к Лукиану для Lawrence & Bullen Дент расторг. Бердслей предоставил лишь пять рисунков, три из которых были отвергнуты, вероятно из-за их непристойности.
Между тем он был бы рад сохранить эту работу и отказаться от некоторых других обязательств. В конце сентября недовольство всем, что было связано со «Смертью Артура», достигло кульминации, и Обри объявил о своем намерении отказаться от дальнейшего сотрудничества, хотя он сделал только половину иллюстраций.
Элен пришла от этого в ужас. Она тайно написала Россу, умоляя его повлиять на Обри, воззвать к его здравому смыслу. «Чудовищно, что он даже думает о том, будто может вести себя так безответственно, – сокрушалась она. – Его работа над “Смертью Артура” сейчас действительно не совсем ладится, но Обри сам виноват в этом. Это капризы и нежелание прилагать усилия, чтобы переделать то, что ему якобы не нравится… Впрочем, дело даже не в этом. Он связан договором, а мистер Дент, как и его подписчики, потратил деньги на проект. Если Обри откажется от своих обязательств, это будет позором для него». одобное поведение заслуживало у Элен самой суровой оценки – джентльмен так поступить не мог. Мать сожалела о том, что ее сын уже взрослый и ему нельзя дать розог, и полагалась на то, что Росс и Валланс пристыдят его и заставят вести себя подобающим образом.
В конце концов здравый смысл и чувство долга возобладали. Надо полагать, угрозы Обри вообще были не совсем серьезными. Обозначив таким образом свой протест, он неохотно вернулся к работе над «Смертью Артура». В следующие восемь или девять месяцев каждая новая серия иллюстраций давалась ему со все большим трудом. Бердслей не укладывался в оговоренные сроки. Он приводил фантастические оправдания, уверял, что закончил делать рисунки, к которым даже не приступал, а потом напрягал все силы и работал с утра до вечера. Не дождавшись обещанного, Дент посылал на Кембридж-стрит курьера в надежде все-таки получить иллюстрации или даже приезжал за ними сам.
Однажды после отчаянного призыва от издателя Элен поднялась наверх, чтобы вразумить сына, и обнаружила его лежащим в постели. На упреки матери Обри ответил стихами:
- Пребывает художник в прострации.
- Он для Мэлори слал иллюстрации,
- Захотели еще.
- Он ответил: «Зачем?
- Вам достаточно для демонстрации!»
Отношение Бердслея к тексту Мэлори становилось все более высокомерным и пренебрежительным. Обри сказал Россу, что роман кажется ему слишком затянутым, а вскоре сознался, что так и не потрудился прочитать книгу до конца.
В попытке сделать страдания своего иллюстратора не такими сильными, Дент пересмотрел условия договора и позволил ему делать по пять иллюстраций на разворот вместо десяти полосных. Это избавило Бердслея от разработки новых сюжетов и позволило ему рисовать лишь половину каждой декоративной рамки – вторая половина зеркально воспроизводилась при печати. Но признаки нежелания заниматься этим проектом остались заметными: в двухполосной иллюстрации «La Beale Isoud at Joyous Gard»[65] можно увидеть композицию оригинального рисунка – в правой части Бердслей вместо группы фигур оставил одну женщину, да и та стоит спиной. Разумеется, это могло быть выстраданным решением художника, долго думавшего над смыслом – если не текста, то хотя бы своего рисунка, но в первую очередь в голову приходят мысли о том, что он просто спешил.
Денту все чаще приходилось повторно использовать иллюстрации, открывающие главу, чтобы набрать требуемый объем. Особенно часто это стало повторяться во второй половине книги. Впрочем, иногда на Обри снисходило вдохновение. Среди заглавных рисунков к последней части есть интересные работы, но средневековый дух ранних иллюстраций становился все более упрощенным, а их общий тон – чрезмерно чувственным. Взаимосвязь между рисунками, открывающими главы, и текстом, которая с самого начала была косвенной, подчас становилась случайной, а то и произвольной.
Те, кто рассматривал Бердслея как наследника традиции прерафаэлитов, готового поддержать ее, начали сомневаться в нем. Особенно остро этот удар переживал Валланс. По его мнению, Обри поддался влиянию новых интересов, знакомств и увлечений: «Уличная живопись под названием импрессионизма, изображение чудовищных и искаженных форм под названием японской живописи и все самое неискреннее и развращенное в работах французских декадентов увлекли Бердслея в сторону от истинного пути».
Пренебрежение Обри взятыми на себя обязательствами также стало причиной ухудшения отношений с Берн-Джонсом. Бердслей продолжал бывать у него, но, когда Берн-Джонс спросил, как продвигается работа над «Смертью Артура», ответил, что будет чрезвычайно рад, когда она закончится. Берн-Джонс поинтересовался, зачем он при таком отношении вообще взялся иллюстрировать Мэлори, и Бердслей не отказал себе в злорадном удовольствии сообщить учителю, который никогда не испытывал материальных затруднений и ни в чем себя не ограничивал, о своем чисто коммерческом интересе. Он сказал, что взялся за работу, потому что получил предложение от издателя, а не из-за любви к Мэлори, и добавил, что терпеть не может его роман, как и все, связанное со Средневековьем.
Бердслей не мог не понимать, что эти слова ранят Берн-Джонса, но силу удара не рассчитал – художник расстался со своим бывшим подопечным. «Я совершенно ясно дал понять, что больше не хочу его видеть», – сказал он[66].
Поведение Бердслея было неумным и мелочным. Он, очевидно, придерживался другого мнения, руководствуясь изречением Уайльда, что в искусстве il faut toujours tuer son pere[67]. В безжалостной откровенности слов, сказанных во время последнего визита Бердслея в Гранж, просматривается нечто, похожее на отцеубийство [21].
Между тем Бердслей попытался «убить» и Уайльда, хотя здесь приемы были более тонкими. В словесных ристалищах с Ротенштейном и Бирбомом он постоянно подшучивал над манерами Уайльда. Обри высмеял ставшую притчей во языцех эрудицию и оригинальность автора «Саломеи» в рисунке «Оскар Уайльд за работой», где драматург, сидевший за столом, был изображен в окружении «вспомогательных пособий»: Библии, сочинений Суинбёрна и Готье, «Трех повестей» Флобера и, самое главное, справочников – англо-французского словаря и словаря французских глаголов для начинающих учить этот язык. Он теперь часто включал карикатуры на реальные персонажи в свои работы. Уайльд в венке из виноградных листьев появился в образе Бахуса на рисунке, открывающем очередную главу «Смерти Артура» (книга XI, глава 4), и на фронтисписе, нарисованном для сборника пьес Джона Дэвидсона. Когда обозреватель Daily Cronicle предположил, что последняя карикатура была ошибкой вкуса, Бердслей поспешил ответить, что Уайльд, безусловно, достаточно красив даже для того, чтобы выдержать испытание портретом. Он оставил без внимания предположение, что персонификация Уайльда как бога виноделия отражала одну из вредных привычек драматурга, хотя неистовый Оскар, измученный капризами Альфреда Дугласа, в последнее время действительно много пил.
Бердслей включил завуалированные карикатуры на Уайльда даже в иллюстрации к «Саломее». В изображении драматурга, одетого магом и возвещающего о прибытии Иродиады и ее свиты, есть элемент драматической иронии. Но более изощренным и коварным приемом было неоднократное появление черт автора на лике Луны – бедной печальной Луны, которая по ходу пьесы снова и снова уподоблялась безумной пьяной женщине, повсюду ищущей любовников. Судя по всему, Бердслей переводил строгий символизм пьесы на менее возвышенный уровень, создавая образ Уайльда как несчастного в своей страсти сластолюбца. Он также сбивал внутреннее эротическое напряжение драмы, внедряя в свои рисунки скрытые непристойности. То, чего Уайльд пытался достичь с помощью стихов на грани слова, которое еще может быть сказано, Бердслей просто низвел до озорства.
Конечно, Уайльда эти выходки раздражали. За его саркастическими замечаниями о художественном мастерстве Бердслея скрывалась глубокая обида. По словам Оскара, оно было похоже на абсент – так же удивляло фактом своего существования среди других напитков. Он не снисходил до того, чтобы жаловаться на карикатуры, но считал грубые подробности раздражающе докучливыми, словно непристойные каракули, которые рано созревший мальчишка рисует на полях тетради с прописями. Уайльд искал объективные обоснования для своего недовольства и не раз говорил Риккетсу, что рисунки Бердслея слишком «японские» для пьесы, написанной в «византийской» манере. Независимо от того, насколько справедлив этот вердикт, за ним стояло тревожное осознание того, что Бердслей является не столько его учеником, сколько соперником: иллюстрации угрожали «затмить» текст.
«Женщина Луны» – иллюстрация к «Саломее» (1893). Бердслей придал луне карикатурные черты Уайльда
Между талантом обоих – драматурга и художника – и того, что они готовы были предложить пблике, существовало фундаментальное различие, становившееся все более очевидным. По сути дела, Уайльд был сентиментальным романтиком. Он, безусловно, находился в зените своего творческого успеха, но скандальная слава из литературных произведений перешла в жизнь. Связь Уайльда с Дугласом эпатировала общество. Он тратил свои деньги и время на то, что не могло не вызывать осуждения. Бердслею сентиментальность и романтизм были чужды. По замечанию их общего друга, Оскар любил багрянец и золото, а Обри не знал других цветов, кроме черного и белого. Такое разное восприятие, и здесь речь идет не только о палитре, неизбежно приводило к взаимной напряженности.
Хотя внешне отношения между ними оставались дружескими, в них появилось подводное течение – конкуренция и даже взаимное пренебрежение. Уайльд пытался победить в незримом споре с Бердслеем своим остроумием, но злобный оттенок его шуток делал их для Обри почти безболезненными. Сам он высмеивал грубую чувственность Уайльда. Драматург, в свою очередь, к месту и не месту говорил об удивительной асексуальности Бердслея. Он подчеркивал, что тот, очевидно, любит одну Францию: «Наш дорогой Обри – слишком большой парижанин. Он не может забыть, что однажды побывал в Дьепе». Страсть Обри к литературе и его восхищение Александром Поупом получали такой приговор: «Существует два способа не любить поэзию: просто не любить ее, или любить Поупа».
Бердслей на все это только криво улыбался. Для него, действительно хорошо знающего литературу, не было секретом, что в теории живописи и рисунка Уайльд не силен. Это придавало Обри уверенность в собственном превосходстве. Иногда он отпускал по этому поводу язвительные замечания, но по большей части шипы, о которые мог уколоться Уайльд, торчали из рисунков Бердслея.
Лейна немало тревожили такие художественные провокации против Уайльда и будущих читателей. Он опасался, что все это поставит под угрозу коммерческие перспективы издания. Определенная скандальная слава могла принести кое-какие дивиденды, но непристойности на страницах книги мешали открыто ее рекламировать и продавать. Лейн стал изучать рисунки с лупой и, объятый тревогой, иногда находил скабрезности там, где их не было, а очевидное не видел. Даже Бердслей был вынужден признать, что Лейн справедливо отверг первый эскиз рисунка для оглавления: обнаженная женщина, стоявшая на коленях перед фаллическим символом, шокировала бы сначала владельцев книжных магазинов, а потом и всех остальных. Рассматривая «Выход Иродиады», Лейн так сосредоточился на обнаженной фигуре справа, что не заметил эрекцию у уродливого слуги царицы с другой стороны и то, что подсвечники своей формой больше всего напоминали фаллосы.
Обри обязался представить другой рисунок, пока книга будет в работе. На нем оказался обнаженный паж с причудливо свернутым фиговым листом на чреслах… В четверостишии, которое Бердслей написал на экземпляре гранок, видно неприкрытое ехидство:
- Из-за одной обнаженной фигуры
- Рисунок не выдержал редактуры.
- Это было обидно, но им лучше видно,
- Что будет полезней для нашей культуры.
Лейн теперь жил как на вулкане. Он снова просмотрел все рисунки и привлек к этому процессу других сотрудников. По утверждению Бердслея, его иллюстрации породили настоящую фронду, во главе которой встал Джордж Мур [22].
Последовали санкции. Хотя книжные блоки уже были составлены, еще три рисунка – «Иоанн Креститель и Саломея», «Туалет Саломеи» и «Саломея дирижирует оркестром, сидя на кушетке» – решили убрать и заменить другими иллюстрациями. Почему эти рисунки подверглись гонениям, понять трудно. Тема стала плодородной почвой для многолетних споров и сплетен, но ответ так и не был найден. Представленная на всеобщее обозрение женская грудь на иллюстрации «Иоанн Креститель и Саломея» или обнаженный паж на рисунке «Туалет Саломеи» не могли быть признаны неприемлемыми – такие же подробности имелись на нескольких оставленных в книге иллюстрациях. Оскорбительный характер «Саломеи на кушетке…» ясен еще меньше. Может быть, его отвергли, так как рисунок перекликался с одним из гротесков для «Острословия», или из-за того, что он не имел отношения к тексту пьесы, или даже потому, что Лейн опасался читательских ассоциаций относительно свечи, которую держала в руках Саломея…
Впрочем, связь между иллюстрациями и текстом нельзя было назвать главной заботой издателя, о чем свидетельствует комментарий Бердслея о рисунках, выбранных на замену. Он, в частности, сказал, что «Черный капот», который поставили вместо «Иоанна Крестителя и Саломеи», похож на современную картинку из модного журнала. Лейну между тем пришла в голову блестящая мысль. Он решил сделать на титуле надпись «Пьеса с рисунками Обри Бердслея», похоронив саму идею иллюстрирования.
Это была не единственная задача, которую пришлось решать издателю. Уайльд и Дуглас разошлись во мнении относительно качества перевода пьесы. Бердслей поспешил вмешаться. Он заявил, что прекрасно понял все нюансы и может великолепно перевести «Саломею». Судя по всему, Уайльд был настолько разочарован своим сердечным другом как переводчиком, что наступил себе на горло и принял это предложение. Бердслей работал над переводом половину сентября, но к тому времени, когда он показал свой труд Уайльду, раздражение драматурга его художественными шалостями достигло апогея, а размолвка с Альфредом оказалась забыта. Во всяком случае, согласно свидетельству Дугласа, Уайльд назвал вариант Бердслея совершенно безнадежным, а то, что сделал сам Альфред, требующим небольшой доработки. Это стало сильным ударом по самолюбию Обри.
Его здоровье тоже пошатнулось. У него опять несколько раз шла горлом кровь. Обри не поехал к Ротенштейну в Париж, как собирался. Работу над «Саломеей» он продолжил. Одна из подруг Мэйбл вспоминала об этом времени так: «Я разговаривала с сестрой Обри, а сам он работал за столом, иногда оборачиваясь и делая замечания. Потом он резко вставал, прижимал к губам носовой платок и выходил из комнаты. На платке можно было видеть пятна крови…»
Тем не менее драматические перипетии работы над иллюстрациями к пьесе Уайльда дали Бердслею новую возможность упражняться в остроумии. «У меня выдалась горячая неделя общения с Оскаром, Дугласом и компанией, – писал он Россу. – В последнее время число телеграмм и мальчиков-курьеров, приходивших ко мне, стало просто скандальным». Обри с наигранным возмущением описывал Уайльда и Лейна как «поистине ужасных людей». И тут же снова объединяется с Уайльдом, чтобы воспрепятствовать Лейну, который собрался использовать для переплета «совершенно кошмарный… ирландский материал».
Росс в то время жил в Швейцарии, в Давосе. Причиной «эмиграции» стал скандал с участием его самого, Дугласа и некоего 16-летнего школьника, общество которого чрезвычайно нравилось им обоим. Бердслей явно наслаждался атмосферой опасности и общественного неприятия, в которой пребывали его друзья, чуть ли не открыто обвиняемые в содомии. Сам он встал в позу стороннего наблюдателя, удивлявшегося нетерпимости обеих сторон [23].
Конечно, у Обри был интерес к плотским отношениям. Он провел Бердслея по многим «дворикам и аллеям» литературы XVII–XVIII веков. Ротенштейн подарил ему альбом японских эротических эстампов, купленный в Париже. У самого Ротенштейна имелось такое же издание, которое он давал смотреть очень немногим. Каково же было его удивление, когда во время своего первого визита на Кембридж-стрит после возвращения из Франции он увидел на стенах гостиной аккуратно обрамленные эстампы!
Чувственность рисунков Бердслея стала более отчетливой и заметной. Это касалось не только откровенно эротических сцен, таких, например, как танец Саломеи, но и внешне невинных сюжетов. На зимнюю выставку Клуба новой английской живописи он дал стилизованный рисунок «Девушка и книжная лавка». Макколл в своем обзоре для Spectator на этот раз был скуп на похвалы и посчитал композицию книжной лавки хорошо организованной, а даму выписанной слишком каллиграфично. Критик из Public Opinion увидел гораздо больше.
Он признавал, что изображение лавки обладает восхитительным очарованием рисунка для детской книги, но все остальное вызывало у него сарказм. Девушку критик назвал непонятной японско-египетской фигурой и, хотя в целом оценил рисунок как привлекательный, заметил, что это несомненно привлекательность вырождения и упадка. В завершение своего обзора он написал: «Все эти вещи находятся вне контекста здравого смысла и не могут найти поклонников среди людей с интеллектом и здоровыми представлениями о нравственности». Приблизительно такую же оценку получили три рисунка бельгийца Фелисьена Ропса, работавшего в стиле символизма.
С точки зрения Вратислава, рисунок был хорош по линиям, но навевал неприятные чувства. Бердслей остался доволен этим вердиктом и шутливо писал Россу, что критики считают его апологетом бесполого сладострастия.
На выставке был и портрет «мистера Бердслея» кисти Ротенштейна, который Макколл назвал восхитительно зловещим. Таким образом, зрители могли составить представление о внешности создателя «японско-египетской» фигуры. Сочетание художественного и личного профиля могло о многом им сказать.
Это была эпоха бурного развития прессы. В 90-е годы XIX столетия журналисты уже поняли, что «личные подробности» интересны публике не меньше, чем факты, и их энергия все чаще оказывалась направленной на создание, рекламирование, а иногда и общественное уничтожение новых «личностей». Для Бердслея в конце первого года его профессиональной карьеры появление на главной лондонской выставке с рисунком, сочетавшим в себе, по мнению критиков, все элементы современного художественного авангарда, было успехом, о котором он даже не мог мечтать. Плюс к этому публика увидела его портрет [24].
В 1893 году легкий налет «вырождения и упадка» не мог причинить вреда репутации Бердслея. Издатель Фишер Анвин оценил все это и поспешил купить «Девушку и книжную лавку» в надежде, что рисунок послужит основой для превосходного плаката. Художественные возможности афишной и плакатной графики были интересной темой. В Англии признавали достижения в этой сфере на той стороне Ла-Манша и желали создать нечто подобное у себя. Такие мысли мало кому не приходили в голову в ноябре, когда в Графтонской галерее открылась, по словам Бердслея, прелестная выставка французских работ. Наряду с впечатляющим собранием произведений прикладного искусства и графики на ней были представлены несколько литографий Пьера Боннара и Эдуара Вюйяра, а также удостоившаяся больших похвал серия плакатов Эжена Грассе.
Бердслей внимательно их изучил. Его неуемное художественное любопытство разогрели воспоминания о Париже. Он просмотрел все современные афиши в Графтоне и начал искать более ранние французские работы. Обри стал собирать книжную серию «Les Artistes Clbres», выпущенную в Париже издательством Pearson et Cie, – книги о творчестве великих и малоизвестных мастеров XVIII века: Фрагонара, Моро (просто восхитительно!), Ватто, династий Кошенов и Сент-Обенов. Он искал их работы и скоро открыл для себя магазин, где сравнительно недорого можно было купить хорошие репродукции.
Мир элегантного отдыха, созданный этими художниками, – ftes galantes[68] и прогулок верхом, балов и фривольных сценок в будуарах – был близок воображению Бердслея. Особенно его заинтересовал Антуан Ватто, личность которого раскрывалась не только в книге из серии «Les Artistes Clbres», но и в «Воображаемых портретах» главного идеолога эстетизма Уолтера Патера. Ватто тоже болел туберкулезом и не чуждался восточных эффектов. В своих сhinoiseries[69] он играл с ними примерно так же, как Бердслей играл с элементами японской живописи. Безусловно, влияние Ватто и его современников на Обри не могло быть мгновенным. Чтобы усвоить пройденное, требовалось время.
Бердслей знал людей, считавших творческие идеи того периода далеко не исчерпанными. Молодые поэты Доусон и Грей, а также Вратислав вслед за Верленом взывали к исчезнувшему миру ftes galantes и художникам, изображавшим то самое прошлое. Бердслея, собственно, художником никто не считал, но если он хотел соперничать, например, с австралийцем Чарлзом Кондером, живущим в Париже, который в сентябре представил на суд лондонской публики в галерее Гупиль несколько воздушных акварелей, напомнивших о придворных забавах, то должен был соответствовать этому званию. Возможно, сие и побудило Обри принять предложение Пеннелла о нескольких уроках, но в его портрете Генри Ирвинга в образе Бекета, созданном в то время, изящество мастеров XVIII века почти незаметно. Бердслей много экспериментировал и с гравюрами, но тоже без особого успеха.
Однажды вечером в мюзик-холле Empire он сделал набросок пастелью певицы Ады Лундберг. Вскоре Обри в этой же импрессионистской манере создал эскиз портрета знаменитой французской актрисы Габриэль Режан, вечной соперницы великой Сары Бернар, делившей с ней славу звезды «прекрасной эпохи». Обри нарисовал Габриэль в профиль и посчитал свою работу довольно забавной. Впрочем, все более поздние портреты актрисы (Бердслей сделал их несколько) были выполнены пером и чернилами.
В ноябре Верлен приехал в Англию читать лекции[70]. По обе стороны Ла-Манша его уже провозгласили пророком декадентства, а прибытие поэта в Лондон совпало с публикацией статьи Артура Саймонса «Декадентское движение в литературе», где автор попытался связать воедино некоторые нити этой субкультуры. Выступление Саймонса было частью дискуссии, периодически вспыхивавшей на страницах газет весь предыдущий год. Для одних ее участников слово «декадент» являлось оскорблением, а другие произносили его с гордостью. Все соглашались с тем, что истоки декадентства нужно искать во Франции, хотя исторически оно обозначало культурные явления еще Римской империи II–IV веков, но понятие оставалось слишком расплывчатым. Саймонс решил исправить это и четко определить термин «декаданс». В статье речь шла только о литературе, но она представляла интерес и для художников. У самого Бердслея и у тех, кто был знаком с его работами, она вызвала неоднозначные отклики.
Итак, Саймонс предположил, что литературное декадентство можно разделить на две части – своего рода импрессионизм и символизм. Импрессионисты слова, по мнению автора, пытались раскрыть истину через проявление чувств, а символисты, описанные в более туманных выражениях, показывали суть вещей, увиденных «духовным взором». Он провозгласил, что, раз декаданс обладает всеми качествами, обозначающими конец великих эпох, которые мы находим в греческом и римском декадентстве, значит, и эпоха, доставшаяся им, тоже великая. Статья была полна определений: «напряженная самоуглубленность», «неустанное любопытство в исследованиях», «чрезмерное усовершенствование того, что уже было усовершенствовано», «духовная и нравственная извращенность». Саймонс писал, что декадентское искусство отражает все настроения и манеры изощренного и пресыщенного общества, но сама его искусственность есть способ оставаться верными природе.
Свои аргументы он подкрепил ссылками на французских писателей, наиболее полно представлявших декадентский стиль: братьев Гонкур, Верлена, Малларме, Метерлинка, который, хотя и был по рождению бельгийцем, писал на французском языке, и Гюисманса, а также включил в этот перечень некоторых авторов из Голландии, Италии, Испании и Скандинавии. Следы этого движения в Англии Саймонс нашел в «болезненной курьезности» прозы Патера и радикальном импрессионизме стихов У. Э. Хенли. Хенли, на самом деле едва ли бывший импрессионистом, а уж тем более радикальным, удостоился особой похвалы за свои стихи о Лондоне. «Быть современным в поэзии, – писал Саймонс, – значит представлять себя и свое окружение… во всем понятной и вместе с тем поэтической форме. Возможно, это самое трудное, но, несомненно, и самое интересное художественное достижение».
Многие термины, которые «узаконил» Саймонс, уже использовали и критикующие работы Бердслея, и те, кто ими восхищался. Эта связь, впервые отмеенная Вратиславом, дала новую пищу для размышлений. Бердслея окончательно причислили к декадентам. Он поддерживал это мнение не только своими рисунками, но и манерами, а также поступками. Тем не менее даже среди декадентов Обри был чем-то особенным. Дело в том, что работы Бердслея никак не выражали его чувства. Другие люди искусства старались передать тончайшие, почти неразличимые оттенки своих ощущений – в литературе, живописи, музыке, а у Обри цветов было всего два: белый и черный. Его рисунки и его личность оказались бесконечно далеки от полутонов, неясных контуров и меркнущего света, столь свойственных декадентам, но это различие лишь начали замечать.
Саймонс, перечислявший апологетов декаданса, почему-то забыл упомянуть Эдгара Алана По, которого многие считали воплощением названного стиля. Бердслей, несомненно, обратил на это внимание: Эдгар По с недавнего времени занимал большое место в его мыслях. Обри получил письмо из Чикаго – издательство Stone and Kimble предложило ему сделать восемь рисунков к новому изданию рассказов По. Бердслей с готовностью согласился и сам назвал сумму гонорара – 5 фунтов за каждый рисунок [25].
Рождественская елка на Кембридж-стрит в том году была украшена невероятным образом. Обри и Мэйбл повесили на нее в том числе карикатуру на Уистлера и томики стихотворений Верлена, один из которых им прислал Макколл.
Впрочем, праздник омрачила новая болезнь Элен. Ей предстояла операция, а потом реабилитация в женской больнице мисс Тайди на Харли-стрит. После того как Элен встала с постели, ее постоянно навещали Обри и Мэйбл, друзья семьи, в частности Герни и Олстены, а также Роберт Росс и Уолтер Сикерт. Друзья Бердслея знали, какое место в его жизни занимает мать [26].
Глава VI
Слава и богатство
Рисунок для рекламного буклета «Желтой книги» (1894)
В последний день 1893 года Обри и Мэйбл были приглашены на ланч к Харлендам на Кромвел-роуд. На улице стоял один из самых плотных и промозглых лондонских туманов, затопивший улицы и не пропускавший слабый солнечный свет. После ланча все сели в гостиной около камина и стали жаловаться на свои горести: придирки редакторов, скупость издателей и то, как мало осталось понимающей искусство публики.
Скоро добрались и до главной темы – нелепого подчинения живописи, музыки и литературы миру коммерции. Она постоянно обсуждалась прошлым летом в Сент-Маргерит-сюр-Мер и побудила Бердслея к созданию уже упоминавшихся «Масок» и журнала, где репродукции картин и рисунки должны были бы стать «основным блюдом», а текст «гарниром». Идея принадлежала Макколлу, но в последнее время к ней часто обращался Харленд, внеся поправку – издание лучше сделать не только художественным, но и литературным. И конечно, беспристрастным, без похвал и критики. Пусть все решают сами читатели. Бердслей его всячески поддерживал.
Сейчас они обсуждали проект нового ежеквартального журнала, который будет представлять литераторов и мастеров графики как два отдельных мира и обеспечит им самим постоянную интересную работу. Харленд собирался заняться литературной частью, а Бердслей должен был отвечать за художественную. По словам Алины Харленд, вскоре они погрузились в обсуждение практических деталей… Из студии принесли книги, и началось изучение новых и редких изданий. Сразу было решено, что по качеству и достоинствам художественного наполнения новый журнал должен находиться на невиданной ранее высоте.
Потом встал вопрос о названии. У Бердслея возникла нетривиальная ассоциация с туманом за окном. Он предложил назвать журнал… «Желтой книгой» (Yellow Book). Оригинальность этой мысли вдохновила всех присутствующих, и название решили оставить по крайней мере до тех пор, пока не найдется что-нибудь получше. О тумане как таковом вскоре забыли – появились другие ассоциации и даже ироническая перекличка с «Голубой книгой», в которой велись записи заседаний английского парламента.
И конечно, нельзя было не вспомнить о дешевых изданиях французских романов – их легко узнавали по характерным желтым обложкам. Издатели сделали литературу общедоступной и очень гордились этим. Друзья решили, что следовать по их стопам не зазорно, и Бердслей открыто признал, что их альманах будет оформлен как обыкновенные французские романы, хорошо зная о том, что для англичан во французских романах не было ничего «обыкновенного». Произведения Золя, Гюисманса, Флобера и других авторов тревожили воображение британских обывателей, если не ужасали их. Периодическое издание в желтой обложке неизбежно должно было унаследовать эту скандальную славу.
Когда Бердслей предложил сие название в гостиной Харлендов, образ нового ежеквартального журнала существовал лишь в мыслях собравшихся около камина и легко мог рассеяться, словно лондонский туман. Этого не произошло – чуть ли не на следующий день Бердслей и Харленд приступили к претворению своей мечты в жизнь. Они решили обсудить проект с Джоном Лейном, и тот пригласил их на ланч в клуб «Хогарт». Возможно, как впоследствии утверждал издатель, в его кабинете им было бы слишком тесно, но мы рискнем предположить и другое. Похоже, Лейн уже тогда постарался отстранить от обсуждения этой темы собственного партнера – Элкина Мэтьюза.
Бердслей и Харленд, горевшие энтузиазмом и нетерпением, изложили свой план. Лейн сразу понял, что игра стоит свеч. «Мы сели за стол ровно в час дня, – вспоминал потом Харленд. – В пять минут второго Лейн согласился поддержать наше издание, если я стану литературным редактором, а Обри – художественным». Даже с учетом известной склонности Харленда к преувеличениям, Лейн очень быстро принял положительное решение. Не исключено, что он тоже обдумывал идею издания ежеквартального альманаха для «культурной» публики, и, безусловно, он знал о беседах на эту тему Бердслея и Харленда. Впрочем, более важно, что Лейн сразу увидел коммерческую выгоду периодического издания, которое могло стать отличной площадкой для литераторов и художников, уже находившихся в поле его зрения, и точно станет магнитом для остальных.
Им удалось достигнуть согласия по многим вопросам. Во-первых, журнал будет оформлен не менее красиво, чем книга. Во-вторых, живопись и литература будут представлены независимо друг от друга. В-третьих, подбирать материалы нужно, не принимая во внимание их «злободневность». В-четвертых, оно же во-первых, Оскара Уайльда к сотрудничеству они приглашать не станут. Правда, несколько лет спустя Лейн говорил об этом как об особом желании Бердслея и утверждал, что отношения между ними после того, как Обри делал рисунки к «Саломее», остались очень напряженными, но утверждение, что в начале 1894 года они практически не разговаривали друг с другом, нельзя считать беспристрастным и обоснованным. Скорее всего, и Бердслей, и Харленд, и Лейн опасались, что, если в этой пьесе дадут роль Уайльду, он постарается стать на сцене главным.
Если соглашение о том, кто не будет участвовать в проекте, не вызывало сомнений, то вопрос об участниках и отборе материалов для публикации потребовал больше времени. Оба редактора и издатель достигли понимания в том, что главной целью «Желтой книги» должен быть протест против «сюжетных иллюстраций» в книжной графике и «слезливой сентиментальности и счастливых концовок» в литературе.
Первоначальная идея Харленда об альманахе, который будет представлять «новое движение», быстро расширилась и превратилась в нечто менее определенное. По предложению Лейна он решил привлечь к сотрудничеству представителей альтернативных «движений», причем не только молодых несентиментальных реалистов, таких как, скажем, Кракенторп, и еще менее сентиментальных декадентов, в частности Саймонса и Вратислава, но и более известных авторов – Генри Джеймса, Эдмунда Госсе и Ричарда Гарнетта.
Бердслей согласился с таким планом действий. Он надеялся, что «Желтая книга» станет прибежищем для авторов, которых не жалуют в традиционных журналах, потому что их творчество слишком «рискованно» [1].
В дни, последовавшие за этим судьбоносным ланчем, было много дискуссий о возможных форматах, шрифтах и затратах. И конечно, об авторах. Клуб «Хогарт» стал похож на штаб армии. Молодой курьер из издательства Bodley Head вспоминал, как все это происходило. Лейн врывался в свой офис на Виго-стрит в сопровождении Бердслея и Харленда, а через несколько мгновений все трое выбегали на улицу и, словно подхваченные порывом ветра, неслись в клуб. Лейн постоянно носил с собой образцы бумаги, переплетной ткани и шрифтов. На создание «Желтой книги» были пущены в ход все производственные и оформительские резервы, имевшиеся у Bodley Head.
Цвет обложки был очень важен для Бердслея, но главным стал книжный формат издания – новому альманаху предстояло существовать дольше одного сезона. Это будет не похоже на Edinburg или Quarterly! Издание не в обложке, а в переплете. Настоящая книга в хорошей обложке ярко-желтого цвета. И называться она будет «Желтой книгой». Обри всегда ставил акцент на втором слове.
Каждый день выдвигались и обсуждались имена потенциальных авторов и художников. Принимались – или не принимались – они открытым голосованием. Несмотря на предполагаемое разделение между иллюстративным рядом и текстом, оба редактора – художественный и литературный – и тем более издатель сочли для себя возможным вторгаться в сферу интересов друг друга, справедливо рассудив, что дело у них общее. Бердслей сопровождал Харленда, когда тот ходил к Генри Джеймсу, чтобы предложить ему дать свой рассказ для первого выпуска «Желтой книги»[71]. Художественный редактор несколько раз писал Роберту Россу – на бумаге с гербом клуба «Хогарт» – о том, как продвигается работа над новым альманахом. Росс тоже получил предложение внести свой вклад в это литературно-художественное издание, которое планировалось выпускать ежеквартально.
Наряду с этим Обри обратился с предложением к Нетте Сиретт, подруге Мэйбл, работавшей с ней вместе. Нетта не хотела больше преподавать и желала попробовать себя в издательской деятельности. А еще Бердслей при поддержке Лейна, несмотря на сомнения Харленда, настоял на участии в их новом проекте Бирбома. Много лет спустя Бирбом вспоминал это так:
«Сцена: Кембридж-стрит, Пимлико… ранний вечер.
Участники: Обри Бердслей и я.
О. Б. Как поживаешь? Садись! У меня отличные новости. Джон Лейн собирается выпускать ежеквартальный журнал – тексты и рисунки под одной обложкой. Генри Харленд будет литературным редактором, а я займусь художниками. Присоединяйся, будет очень весело!»
В случае с Бирбомом Бердслей лишь наполовину узурпировал полномочия Харленда. Макс собирался публиковаться в «литературной» части, но Обри настаивал на том, что его художественные способности не уступают литературному дару, и предложил другу не только писать, но и рисовать карикатуры. Харленд и Лейн тоже были готовы давать советы относительно «художественной» части. Лейн заручился поддержкой художника Дж. Т. Неттлшипа, который написал для издательства Bodley Head книгу о Браунинге. Скорее всего, именно Харленд обратился с предложением о сотрудничестве к Л. Б. Гулду и Альфреду Торнтону. Кондер не присоединился к этому проекту – между ним и Харлендом возникла размолвка из-за нескольких картин, которые Харленд взял на хранение с намерением продать их (впоследствии недоразумение было улажено). Таким образом, Кондер не был в первом списке будущих авторов, что не дало Бердслею возможности предложить сотрудничество Макколлу – тот горой встал за Кондера.
Сам Обри общался с собратьями по карандашу и пастели в Клубе новой английской живописи. Там он в первую очередь обратился к Сикерту, Стиру и, разумеется, Ротенштейну. Кроме того, Обри привлек к сотрудничеству Лоренса Хаусмана, молодого иллюстратора, который недавно начал создавать причудливые фронтисписы в прерафаэлитском стиле для книг Bodley Head. В соответствии с заявленной политикой эклектизма, Бердслей обращался и к «старым мастерам». Среди членов клуба было несколько графиков, которых ему удалось заинтересовать. Эннинг Белл, старейшина цеха книжных экслибрисов, оказался поклонником работ Бердслея, а Чарлз Фурс, писавший в традиционной манере, дружелюбно относился к нему. Оба согласились сотрудничать с новым журналом. Бердслей также связался с Риккетсом и Шэнноном – наставниками Ротенштейна. Сначала они приняли предложение, но пошли на попятную еще до того, как их имена появились в анонсирующем новый альманах буклете. Видимо, художники опасались того, что участие в выпуске «Желтой книги» может помешать работе по созданию их собственного журнала The Dial, который должен был быть представлен вниманию публики в мае [2].
Больше Бердслею повезло с Джозефом Пеннеллом. Однажды вечером Обри вместе с Харлендом подошел к нему в клубе «Хогарт».
Харленд поздоровался и сказал: «Мы собираемся редактировать новый журнал. Издавать его будет Джон Лейн». – «Кто это “мы”?» – поинтересовался Пеннелл. «Я и Обри, – улыбнулся Харленд. – Он будет отвечать за рисунки и иллюстрации, а я за тексты».
Пеннелл был ошарашен.
«Но вы же ничего не знаете о редактуре! – воскликнул он. – Никто из вас, даже вместе со мной, не сможет вести журнал». – «Почему не сможет? – пожал плечами Бердслей. – Но вы, конечно, могли бы нам в этом очень помочь».
Пеннелл, удивленный тем, что Обри держится столь уверенно, заявил (не исключено, больше всерьез, чем в шутку), что сам предпочитает быть художественным редактором, а его, Бердслея, хотел бы иметь в качестве художника, но тем не менее, зараженный их энтузиазмом, он выслушал планы создания «Желтой книги». Впоследствии Пеннелл вспоминал, что они обошлись без обсуждения подробностей печати и авторских гонораров. Было лишь неукротимое желание сделать лучший художественно-литературный журнал по обе стороны Ла-Манша.
Еще более лакомой «добычей» стал Фредерик Лейтон. С прошлой весны, когда Бердслей увидел свое имя рядом с именем мастера в первом выпуске The Studio, между «новым иллюстратором» и президентом Королевской академии художеств возникла неожиданная симпатия и даже, что еще более удивительно, взаимное уважение. Уже ни для кого не являлось секретом, что Лейтон высоко оценивал работы Бердслея. Обри сумел дать ему понять, что признателен за это. Он обращался к патриарху живописи за советами и даже спросил, не позволят ли ему оформить обложку книги о Лейтоне, которую готовил Эрнест Рис.
Королевская академия художеств располагалась рядом с издательством Bodley Head, и это побудило Лейтона побольше узнать о художниках, работавших для Лейна. Он часто заходил в книжный магазин на Виго-стрит и подчас говорил, что не исполняет свои обязанности в Академии художеств так же хорошо, как в другой академии – по соседству. Во время одного из таких визитов Лейтон просмотрел последние работы Бердслея и не смог удержаться от похвалы: «Какие замечательные линии! Этот юноша прекрасный художник!» Потом он вполголоса добавил: «…но Обри совсем не умеет рисовать…» Лейн возразил: «Сэр Фредерик, я знаю множество людей, которые умеют только рисовать». И Лейтон грустно улыбнулся: «Да, разумеется. Я понимаю, что вы имеете в виду. Вы правы». В широких художественных кругах президент Королевской академии художеств выступал как защитник творчества Бердслея. Лейтон не был щедр на комплименты, но как-то раз сказал, что художественный редактор «Желтой книги» был величайшим мастером графики, которого когда-либо знал мир.
Мастер согласился предоставить рисунок для первого номера нового издания, и Лейн весьма воодушевился его участием. Он питал огромное уважение к авторитетам и по-прежнему сомневался в Бердслее, которому тогда шел всего двадцать второй год.
Вот воспоминания Артура Во, молодого журналиста и критика, о встрече с Лейном и Харлендом в Национальном клубе в саду Уайтхолла в первые дни января 1894 года. Они завтракали с Эдмундом Госсе, прикидывали, как заручиться поддержкой в своем новом деле, и обсуждали будущих авторов. Когда Лейн заговорил об оформлении журнала и упомянул о том, что художественным редактором будет Бердслей, Харленд сделал паузу, а потом сказал, что они могут обратиться к Лейтону и Фурсу. В этой уловке не было необходимости – Госсе давно являлся поклонником Бердслея и, как и сам Во, считал его великим рисовальщиком и лучшим кандидатом на эту должность.
Тем не менее данный разговор демонстрирует нам любопытное сочетание смелости и осторожности в подходе Лейна, его сомнения в коммерческом успехе нового издания и тревогу в связи с возможной реакцией общества, если читатели посчитают, что приличия нарушены. Впрочем, энтузиазм, с которым воспринимались все новости о проекте, успокаивал сомнения Лейна и приглушал голоса несогласных. Артур Во написал статью в американский журнал The Critic, поэтому слухи о «Желтой книге» и об участии Бердслея в этой работе достигли Нового Света едва ли не раньше, чем распространились в Британии. Конечно, сей недостаток вскоре восполнился: связи Лейна в лондонской прессе – многие из его начинающих поэтов и молодых романистов зарабатывали на жизнь журналистикой – гарантировали, что соотечественники Обри быстро оказались в курсе происходящих событий. Проект нового периодического издания, по словам Харленда, стал одной из важных тем городских разговоров. Рекламный буклет уже готовили к выпуску и собирали материалы для первого номера.
Возможно, Бердслей адаптировал один из своих рисунков, сделанных им для серии «Маски», и нарисовал пробную обложку, которую он сам назвал изумительной. Обри показал рисунок всем, и все согласились. За одним исключением. Бирбом как-то встретился в кафе с Уайльдом. Неистовый Оскар сказал, что Обри только что ушел отсюда. Да, Бердслей показал ему рисунок. Нет, он ему не понравился. Бирбом спросил почему. «Обнаженная шлюха, которая улыбается через маску, просто ужасна, – пожал плечами драматург. – Впрочем, ничего другого Обри рисовать не умеет» [3].
На первый план вышли практические соображения. Лейн хотел привлечь к работе издательство Ballantine Press – оно будет готовить к печати тексты. Для подготовки репродукций он выбрал Swan Electric Engraving. Рисунки предстояло печатать на ручных прессах на мелованной бумаге – каждый будет размещен на правой странице и защищен тонким листом папиросной бумаги. Лейн договорился с бостонской издательской фирмой Copeland & Day о распространении «Желтой книги» в Америке и с компанией Robert A. Thompson & Co об агентских услугах в британских колониях. Объем номера был установлен в 250 страниц, а тираж определен в 5000 экземпляров. Цена планировалась около 5 шиллингов – в то время недешево. Тогда многие романы стоили 3 шиллинга 6 пенсов, а большинство иллюстрированных еженедельников можно было купить за 1 шиллинг. Цена гарантировала определенный уровень – много выше среднего – и позиционировала «Желтую книгу» как нечто особое, если не эксклюзивное.
По общему согласию с самого начала за бюджет журнала отвечали Бердслей и Харленд. Они получали процент от продаж и должны были из этой суммы оплачивать все литературные и иллюстративные материалы. В их компетенцию входило заключение контрактов с авторами, а прибыль, оставшаяся после выплаты гонораров, друзья делили пополам. В первом приливе вдохновения, когда журнал существовал лишь в безграничном царстве их воображения, Бердслей и Харленд думали, что они смогут на этом разбогатеть. К концу января «Желтую книгу» ждали в такой напряженной атмосфере, что предполагаемый тираж казался незначительным. Лейн говорил, что их потенциал – 15 000 экземпляров.
Стало быть, редакторы считали вероятные доходы. При 15 % отчислений с продаж для первых 5000 экземпляров и 20 % при дальнейшем увеличении тиража они уже видели в своих руках почти 200 фунтов. При продаже 10 000 экземпляров сумма, соответственно, возрастала вдвое. 400 фунтов! В пока еще сомнительном, но допустимом случае продажи 15 000 экземпляров редакторы получали на издание огромные деньги – 600 фунтов. Разумеется, это не была прибыль, которую они могли разделить между собой. Гонорары авторам предполагались значительные – 250 полос рисунков, иллюстраций и текста высшего качества стоили немалых денег. Разумеется, можно было выплачивать минимальный процент от редакторской доли, но Харленд и Бердслей понимали, что литераторы или художники назначат за свои труды более низкую цену, если им заплатят сразу, чем в том случае, если придется ждать месяц-другой и чувствовать себя зависимыми от того, купят журнал или не купят. Кроме того, не в силах оторвать взор от радужной картины, нарисованной Лейном, Бердслей и Харленд не хотели делиться будущей прибылью. По их мнению, оптимальным вариантом являлись наличные выплаты авторам. Так всем будет лучше. Им-то уж точно. Их ждут слава и богатство. Великая слава и огромное богатство.
Тем не менее отдадим Бердслею и Харленду должное. По их оценке, авторские гонорары для первого выпуска «Желтой книги» должны были составить не менее 200 фунтов. Примерно три четверти этой суммы предназначались литераторам, а остальные 50 фунтов – художникам. Эти затраты покрывались при продаже 5250 экземпляров – тиража, который в наэлектризованной атмосфере слухов казался почти ничтожным. С предпринимательским рвением, совсем не характерным для творческих людей, они разработали план, подразумевавший заем 250 фунтов у частных инвесторов. После выхода альманаха и его продажи они получат свою долю, а их кредиторы вернут деньги с процентами. Бердслею все эти разговоры и подсчеты очень нравились – он по-прежнему рассматривал финансовые вопросы как важную часть своей работы.
На самом деле все вышло не так. 200 фунтов для авторских гонораров были предоставлены не в виде кредита, а пришли от Лейна, который счел необходимым пересмотреть схему процентных выплат. Он сократил ее до 10 % для первых 1000 экземпляров, 15 % для следующих 4000 и 20 % для большего тиража. Продажи в США и колониях приносили только 5 % от общей выручки.
Какую сумму редакторы выплатили авторам первого номера, точно неизвестно. Она, несомненно, приближалась к 200 фунтам, но частично была уплачена самим друзьям за их собственные работы. Харленд включил в номер два своих рассказа (вероятно, запросив около 12 фунтов), а Бердслей помимо обложки и титульного листа планировал поставить в номер три или четыре своих рисунка, за которые мог получить до 30 фунтов. За исключением обложек, рисунки оставались собственностью художников. Издатели закрепили за собой право только на одну репродукцию, но владели печатной формой, сделанной с рисунка, и, таким образом, могли договариваться о повторных публикациях в других изданиях. Это была хорошая сделка для Бердслея и других художников «Желтой книги»[72]. Такие условия предлагали немногие периодические издания.
Конец XIX века ознаменовался расцветом иллюстрированных газет и периодических изданий, и художники поняли свою силу и осознали коммерческие возможности. Это осознание способствовало тому, что в конце 1893 года Джозеф Пеннелл основал Общество иллюстраторов. Бердслей, конечно, стал членом этой организации, которая в первоначальном виде была задумана по профсоюзному образцу. Не исключено, что договоры, которые Обри заключал с авторами «Желтой книги», отражали цели, ожидания и даже рекомендации этого общества.
Дата выхода в свет первого номера была назначена на 16 апреля 1894 года. Редакторским штабом стала квартира Харленда на Кромвел-роуд. Бердслей проводил там много времени. Объем работы был таким, что иногда Обри даже оставался на ночь. Со своей частью журнала он справлялся сам, а Харленду помогала Элла д’Арси, впоследствии сама ставшая писательницей [4].
Вся эта шумиха пошла на пользу Бердслею. До сих пор его знали как иллюстратора «Смерти Артура», «Острословия», автора нескольких книжных обложек и рисунков в журналах. Кому-то он был известен как автор статьи в The Studio и коротких заметок для PMB. Это был ограниченный круг знатоков и коллег, признание которых стало достаточным для того, чтобы о нем изредка упоминали критики периодических художественных изданий и испытывали коммерческий интерес издатели, но недостаточным для всеобщей известности. Обри был скорее модным, чем знаменитым.
В феврале вышло в свет английское издание «Саломеи» с его поразительными рисунками. Бердслей обрел новый статус. Тираж был небольшой – 755 обычных экземпляров и 125 «специальных», но репутация Уайльда и скандальная история пьесы гарантировали ей внимание прессы, а иллюстрации Бердслея оказались настолько оригинальными, что сами по себе заслужили видное место в критических обзорах.
Мнение о том, что эти рисунки противоречили традиционным отношениям автора и иллюстратора, если не переворачивали их с ног на голову, стало общим лейтмотивом критики. Сотрудник журнала The Studio, хотя и не вполне одобрял все эти новшества, написал, что неукротимая личность художника господствует над всем. В Saturday Review отметили, что рисунки Бердслея не могли быть «вполне удовлетворительными» для мистера Уайльда: «Иллюстрации, словно издевательски пародирующие стиль Фелисьена Ропса, но при этом украшенные “японскими” элементами, – это новая разновидность литературной пытки, и нет сомнения, что на дыбу вздернут автор “Саломеи”. Мистер Бердслей просто смеется над мистером Уайльдом». В The Times предположили, что Бердслей высмеивает не только Уайльда, но и всех англичан, общепринятую мораль и все остальное. Иллюстрации Обри были осуждены как фантастические, гротескные, невразумительные и отвратительные. Они изображают нравы Иудеи, задуманные мистером Оскаром Уайльдом, в стиле японского гротеска и манере французского декадентства. Критик пришел к сдедующему выводу: «Должно быть, это шутка, но нам она кажется крайне неудачной». Высказывалось и противоположное мнение – Бердслей в своем творчестве совершенно серьезен. Ричард ле Гальенн из издательства Bodley Head, который писал для газеты Star, заявил, что рисунки Бердслея «…это что-то такое, чего предпочитаешь не видеть». Суровый критик из Art Journal назвал «Саломею» жуткой в своей причудливости, нагнетающей атмосферу порочности и вообще просто ужасной.
Конечно, технические достижения Бердслея и его оформительский вкус трудно было не признать. Лучшим рисунком серии назвали «Павлинье платье», хотя его связь с текстом для всех осталась загадкой. Существование какой-либо связи между тем, что написал Уайльд, и тем, что нарисовал Бердслей, вообще стало горячо обсуждаемой темой. Вопреки всеобщим сетованиям о полном отсутствии этой самой связи и даже о своего рода конфликте текста и иллюстраций, некоторые критики предполагали наличие более тонких и аллегорических точек соприкосновения. Были и такие, кто утверждал, что Бердслей попытался создать нечто совершенно новое в книжной графике. В Art Journal писали, что рисунки мистера Бердслея находятся в полной гармонии с текстом и являют собой пример импрессионизма в иллюстративном мастерстве, к которому никто до сих пор даже не пытался подступиться. Журнал The Studio поставил вопросы, как точно рисунки могут соотноситься с текстом и какова может быть их главная цель или смысл их символики, но отвечать на них не стал. Обнаружил связь и рассказал о ней Вратислав, писавший в The Artist. По его мнению, пьеса Уайльда была предметом, особенно хорошо подходившим для иллюстраций Бердслея. Критик полагал, что и драматург, и художник называют себя декадентами, ибо каждый из них любит странное и фантастическое и отвергает банальное и привычное.
Вратислав признавал, что Бердслей не иллюстрировал своего автора на манер Вьержа или любого другого традиционного художника, а дал волю собственной фантазии, так что, когда его рисунки более или менее совпадают с текстом, кажется, что это в равной мере может происходить и случайно, и намеренно. Впрочем, в том, что касалось «Черного капота», он заявил, что нет никакого совпадения ни с пьесой, ни с остальными рисунками, поэтому, по его мнению, эту иллюстрацию вообще не следовало включать в книгу.
Связь творчества Бердслея с декадентством, импрессионизмом и символизмом, в общих чертах намеченная в прошлом году, теперь подтвердилась. Представление о нем как о прерафаэлите, сформировавшееся после первых выпусков «Смерти Артура», разлетелось вдребезги. Обозреватели, столкнувшись с экстраординарным мастерством Обри и отметив новизну его рисунков и силу их воздействия на публику, поспешили отнести Бердслея к любому из последних течений в современной культуре. Или сразу ко всем… Эта связь, конечно, укреплялась характером и содержанием пьесы Уайльда. В истории о Саломее были представлены многие декадентские образы – красота в союзе с жестокостью, роковая женщина, власть искусства над жизнью, но оформление Бердслея сделало их пугающе жизненными. Умышленные анахронизмы, такие как французские романы на туалетном столике Саломеи, многих раздражали, но некоторым давали богатую пищу для размышлений. Критик из Saturday Review связал их со стилем Беноццо Гоццоли – художника эпохи Возрождения и итальянских примитивистов. Вратислав утверждал, что, пользуясь такими деталями, Бердслей делал героиню древней или современной по своему усмотрению, представляя не отдельную историческую фигуру, а женщину, которая во все времена и во всех странах использует блеск своей осознанной красоты и притягательность своей неосознанной развращенности.
Многие согласились с вердиктом The Studio, что Бердслею удалось выразить саму сущность декадентства конца века и что его Саломея была типичной представительницей этого периода.
Обри имел основания быть довольным собой: он стал более широко и скандально известным. Книгу заметили в Европе, и Le Libre Esthtique – группа радикальных бельгийских живописцев предложила Обри показать свои иллюстрации на их первом художественном салоне в Брюсселе. За океаном на него тоже обратили внимание: в Америке иллюстрации Бердслея получили широкое освещение в периодических изданиях, посвященных живописи и литературе, – с оттенком скандальности. Бостонская публичная библиотека поместила свой экземпляр книги под замок. Читателей это только воодушевило – продажи по обе стороны Атлантики шли хорошо, хотя в обычном переплете книга стоила 15 шиллингов, а в подарочном оформлении – вдвое больше [5].
Критики подтвердили дурные предчувствия Уайльда. Тем не менее по здравом размышлении он решил, что после выхода иллюстрированной «Саломеи» в свет публичные жалобы будут бесполезными и причинят ему еще больший моральный ущерб. Драматург во всеуслышание заявил, что считает рисунки замечательными. Несмотря на негласное исключение из «Желтой книги», он продолжал общаться с Бердслеем, хотя в этом общении явно ощущалось недоброжелательное соперничество.
Они вместе посетили театр «Сент-Джеймс», чтобы увидеть миссис Патрик Кемпбелл во «Второй миссис Тэнкерей» Артура Пинеро – главной премьере сезона. Уайльд послал актрисе записку за кулисы и сообщил ей, что мистер Обри Бердслей, блестящий художник и, как и все художники, большой почитатель ее таланта, просит оказать ему честь познакомиться. Драматург попросил разрешения привести своего юного друга в ее гримерную после третьего акта и как бы вскользь добавил: «Мистер Бердслей недавно проиллюстрировал мою пьесу “Саломея” и хочет положить к вашим ногам подарочный экземпляр». Обри вряд ли понравился бы этот снисходительный тон, но он радовался возможности быть представленным миссис Кемпбелл и познакомить ее со своим творчеством. Возможно, актриса уже слышала о нем. Слава Бердслея росла. Его рисунок для обложки «Ключевых записок» Джорджа Эджертона получил широкое признание и удостоился благосклонного внимания критиков. Книга стала очень популярной, и в начале марта в Punch появилась пародия на один из рассказов из этого сборника под названием «Ее записки» за подписью Борджиа Смаджингтона, сопровождавшаяся «японской» иллюстрацией мистера Артурио Вискерлея. Упоминание – любое! – в таком издании, как Punch, дорогого стоило [6].
Лейн, как и его партнер, был доволен публикацией «Саломеи». Бердслея связывали с ними обоими особые отношения. Конечно, первым знакомым и самым близким человеком для Обри в издательстве Bodley Head стал Джон Лейн, но и с Элкином Метьюзом он тож много общался.
Мэтьюз жил замкнуто, в своем эстетическом мире. В его дом в Бедфорд-парке, пригороде западного Лондона, были вхожи немногие. Возможно, через него Бердслей познакомился с доктором Тодхантером, видной фигурой в Клубе рифмачей, и Флоренс Фарр, очаровательной актрисой, которая и сама писала пьесы. Несколько лет назад Фарр сыграла главную роль в стихотворной драме, поставленной в клубном театре Бедфорд-парка, и после этого стала бывать у Метьюза. В начале 1894 года Фарр готовилась сыграть в «Комедии вздохов» с одноактной прелюдией, написанной молодым поэтом У. Б. Йейтсом, который тоже жил в Бедфорд-парке. Этот проект поддерживала Энни Хорнимэн, богатая и обладающая творческим воображением покровительница театрального искусства. Женщины попросили Бердслея нарисовать афишу, которая также послужит обложкой для театральной программы[73].
Обри это предложение заинтересовало. Плакатная графика в последние годы XIX века была очень популярна. Работы Шере, Грассе, Виллетта, Тулуз-Лотрека и других французов сформировали стиль, черты которого можно было увидеть на лондонских афишах, созданных Дадли Хардли, Морисом Гриффенхагеном и Джоном Хасселом. Уже сложилось мнение, что такие работы, несмотря на свою недолговечность, тоже являются произведениями искусства. Плакаты Шере и других художников выставлялись в галерее Гупиль в прошлом году, и Бердслей восхищался их цветовой насыщенностью.
Один из главных эффектов удачной афиши – насыщенность палитры, однако Обри для своей первой попытки в данном жанре выбрал привычную схему – черное и белое. Он не был колористом, хотя в данном случае и рассматривал темно– и светло-зеленую цветовую схему. Обри сказал Фарр, что после изготовления цинковой формы афишу можно будет отпечатать в любом цвете по выбору заказчика. Если подход Бердслея к палитре был осторожным, то его композиция отличалась смелостью: темноволосая женщина с пухлыми губами в декольтированном платье, стоявшая наполовину скрытой за полупрозрачной занавеской.
Рисунок после короткой задержки, когда в качестве сценической площадки был подтвержден театр «Авеню», воспроизвели не с цинковой формы для многокрасочной печати с раздельным наложением красок, а в виде литографии. В цвете – голубом, зеленом и бледно-желтом. В The Studio к «палитре» Бердслея отнеслись неодобрительно, но внимание зрителей она приковала. Афишу они увидели в начале марта. Эта работа Обри вызвала неоднозначные отклики. По замечанию Глисона Уайта, она стала, вероятно, первым знакомством с творчеством Бердслея для «человека с улицы». Это было достопамятное, хотя и не вполне радостное знакомство. По сообщениям в прессе, образ вызвал насмешки и даже возмущение публики. Punch тоже не смог удержаться от комментария. Под копией рисунка Бердслея в журнале поместили статью Оуэна Симэна со стихотворной вставкой, обращенной к «мистеру Обри, источнику хмельного вдохновенья», чья «афиша для комедий вожделенья» мозолит глаза всем лондонцам.
Рисунок для афиши и программы театра «Авеню» (1894)
Фигуру на афише Симэн назвал японской девушкой в стиле Россетти. Он не ограничился этим рисунком. По его мнению, «новая английская живопись», апологетом которой Симэн назвал Бердслея, была новой лишь в том, что не являлась живописью. Она вымученна и искусственна. «Красота, взращенная на законах природы, стоит десятка таких монстров», – вынес он свой вердикт. Предполагаемое «безобразие» женского образа стало общим припевом в этой песне. Критик из Globe восхитился композицией, назвав ее оригинальным образцом построения, тонко продуманным и привлекательным своей новизной, но сетовал, что у загадочной женщины оказалась неоправданно отталкивающая внешность. Его коллега из Pelican посчитал ее в целом крайне неприятной. Недоброжелатели утверждали, что даже лошади лондонских кебменов шарахаются от этой афиши. Журнал The Artist сделал из этого вывод, что отношение к плакату свидетельствует о непопулярности искусства такого рода, но, если подытожить общее впечатление, сам факт, что произведение поп-арта впервые предстало как нечто «исключительное», был очевидным достижением.
Афиша Бердслея чуть не затмила две постановки, которые она анонсировала. При этом нельзя не отметить, что пьеса Тодхантера, несмотря на сдержанность, все-таки была новаторской: некий критик предположил, что автор намеревался «донести ветер перемен, о которых говорится в “Ключевых записках”, до рампы, и некоторые его порывы зрители несомненно почувствовали». Сделав обложку для «Ключевых записок» и афишу для «Комедии вздохов», Бердслей утвердил себя в центре современной массовой культуры. Новизна была одним из самых модных веяний того времени. Эпитет «новый» глубокомысленно прикреплялся почти к любому проявлению человеческой деятельности. Punch высмеивал эту тенденцию, называя ее новой новизной, и предполагал, что известный афоризм вскоре будет звучать так: «Ничто не старо под луной». Бердслей быстро оказался тесно связанным со всеми последними новшествами – «новой литературой», «новой драмой» и «новой живописью». Благодаря сатире Оуэна Симэна на свою работу он даже оказался героем «нового юмора». Растущая слава Бердслея не могла не способствовать интересу к обещанной публике «Желтой книге» [7].
Периодические печатные издания становились все востребованнее и популярнее. Это нельзя было не принимать во внимание. В ожидании выхода в свет нового альманаха был выпущен буклет. На его первой странице опять оказалась странная «японская девушка в стиле Россетти» – этакая хищница среди полок в книжной лавке, известной знатокам как магазин издательства Bodley Head на Виго-стрит. В дверях, рассматривая ее с капризным неодобрением, стоял пожилой Пьеро, в котором те же знатоки могли узнать Элкина Мэтьюза.
В буклете излагались цели нового издания: «“Желтая книга” призвана как можно дальше отступить от старой недоброй традиции периодической литературы. Это будет иллюстрированный журнал, но в стиле лучших образцов книгоиздания, современный, выдающийся в литературном и художественном отношении и популярный в лучшем смысле этого слова. Мы ставим перед собой задачу стремиться к сохранению изящного, приличного и сдержанного вида и поведения, но в то же время будем смелыми в своей современности и не дрогнем под неодобрительным взором миссис Гранди[74]. Также обещаем, что “Желтая книга” станет самым интересным и необычным изданием в своем роде. Она будет очаровательной, дерзкой и блистательной».
Из трех заключительных определений Обри Бердслею больше всего нравилось второе: ему хотелось быть дерзким. При поддержке и содействии Бирбома он намеревался устроить подрывную кампанию, невзирая на гнев не только «миссис Гранди», но и своих художественных наставников.
Макс написал сатирическое эссе об Оскаре Уайльде под названием «Взгляд в прошлое через замочную скважину». Это псевдоисторическое сочинение, где Уайльд рассматривался как реликтовый персонаж начала викторианской эпохи, который достиг успехов – более чем скромных – благодаря своей неосознанной склонности к плагиату, позабавило Бердслея и утвердило во мнении, что уж он-то никак не находится в тени неистового Оскара. Впрочем, для публикации эссе не годилось – оно было слишком нескромным и обидным. Хотя Лейн согласился не включать Уайльда в число авторов «Желтой книги», вредить его репутации на страницах нового издания он не собирался. На это сочинение Бирбома был наложен запрет. Макс тут же написал другое – «О философии румян», легкомысленную переработку «Похвалы косметике» Шарля Бодлера – и предложил его Pall Mall Gazette.
Бердслей тоже не во всем мог дать себе волю. Среди его собственных рисунков для первого номера «Желтой книги» есть набросок толстухи, сидевшей перед бутылкой за столиком в кафе. Возникала неминуемая ассоциация с картиной Дега, а дополнительную пикантность рисунку придавало то обстоятельство, что женщина была одна и, возможно, ожидала клиента. Лейн принял рисунок к публикации, но потом узнал, что фигурой модель Обри очень похожа на… жену Уистлера. Издатель не был готов так «шутить» с художником, известным своей склонностью к судебным тяжбам, и вернул рисунок Обри. Бердслей написал ему записку, в которой в соответствии с правилами «нового юмора» предположил, что если его набросок назвать этюдом в крупных линиях на манер Уистлера, то он не заденет ничьи чувства. Лейн даже отвечать на нее не стал.
В других рисунках Бердслея, хотя и не так очевидно, тоже проявлялись нотки личной неприязни или желание шокировать зрителей и приводить их в замешательство. Для титульного листа он создал эксцентричную композицию – чистое поле, пианино и женщина перед ним. Что это было? Импрессионизм, символизм или то, чему еще предстояло придумать название?
Толстуху Уистлер не увидел, но «Ночной этюд» ему пришлось лицезреть. Бердслей пародировал его «Ноктюрны». Это было очевидно. Правда, Уистлер в своих работах позволял сумеркам набрасывать покров романтической тайны на берега Темзы, а Бердслей перенес действие на Лестер-сквер и оживил пейзаж фигурой. Конечно, женской. Обри изобразил декольтированную даму. Знатоки могли разглядеть в черной ленте-бабочке у нее на шее стилизованную подпись Уистлера…
Своего бывшего наставника Берн-Джонса Бердслей тоже уколол. Изображенные на его рисунке Пьеро и femme fatale, у ног которой он расположился, слишком явно напоминали композицию картины Берн-Джонса «Король Кофетуа и нищенка».
Когда Бердслей переставал язвить и обращался к своим собственным образам, он становился неподражаем. Бирбом с восторгом отзывался о созданном Обри в то время рисунке «L’Education Sentimentale»[75]. «Оказывается, наш друг может писать превосходные жанровые сцены», – сказал он их общему приятелю Реджинальду Тернеру.
Примером другого стиля Бердслея стал также планировавшийся к публикации в первом номере портрет миссис Патрик Кемпбелл. Кто знает, способствовал этому его визит за кулисы или идея предшествовала знакомству? Так или иначе, актриса согласилась позировать Бердслею. Хотя Харленд отвергал злободневные материалы – и тексты, и рисунки – как одну из банальностей, которых ни в коем случае не должно быть в их «Желтой книге», оба редактора понимали, сколь велика будет выгода появления на страницах журнала портрета такой знаменитой личности, как миссис Пат. Ход был смелый. В предыдущие 20 лет внутренний мир театра воспринимался художниками и писателями как новая и при этом остросоциальная тема. У Дега были его балерины, у Тулуз-Лотрека – артистки кабаре, у Сикерта – певички из мюзик-холла. Реалистов закулисье привлекало своей естественностью, а декадентов, наоборот, искусственностью [8].
Бердслей потратил на то, чтобы нарисовать миссис Пат, довольно много времени. Он отнесся к этой работе очень серьезно. «Чем хорош портрет, если он не показывает человека таким, каким его видит художник? – спрашивал друзей Обри и тут же отвечал сам: – В былые дни, до изобретения фотографии, человек имел полное право сказать художнику: “Нарисуй меня таким, какой я есть”. Теперь если он хочет абсолютной точности, то может обратиться к фотографу и получить желаемое».
Миссис Кемпбелл разрешила Бердслею несколько раз увидеть себя максимально близко, что называется, на рабочем месте – он стоял в оркестровой яме и наблюдал, как она играет Паулу Тэнкерей. Наконец Обри удалось «поймать» ее, и он окунул перо в чернильницу. Бердслей знал, что, несмотря на то что изображение будет стилизованным – вытянутая, худая, немного сутулая фигура, стоящая в профиль, он уловил «сущность» миссис Патрик Кемпбелл.
С точки зрения техники и теории композиции Бердслей сделал новый шаг вперед: его формы стали проще и смелее, а сюжеты – более современными и даже светскими. Возможно, на эту дорогу его подтолкнули Сикерт, Ротенштейн и другие художники из Клуба новой английской живописи. Сейчас импрессионистскую манеру часто описывают как попытку уловить эфемерные световые эффекты, но в 90-е годы XIX столетия ее главными характеристиками считались упрощенность деталей и злободневность сюжета. В рисунках Бердслея для «Желтой книги» есть и то и другое. Он не полностью отказался от своего прерафаэлитского прошлого и по-прежнему использовал некоторые «текучие» декоративные элементы, которые усвоил от Крейна, Берн-Джонса и Морриса. «Новая идея», по словам Обри, заключалась в «приложении» этого стиля к современной жизни, современным платьям и костюмам, современным интерьерам.
С технической точки зрения это была высокая планка. Обри хотел посмотреть, как далеко можно зайти в рамках черного и белого, то есть жертвуя полутонами. Правда, в некоторых своих «Ночных этюдах» Бердслей использовал темно-серые оттенки, но предпочтение всегда отдавал сплошной массе черного на белой бумаге. Обри не раз говорил, что с помощью черного абсолютно свободный и творчески мыслящий художник может передать почти всё – даже другой цвет. Чтобы подтвердить эту мысль, он ссылался на Боккаччо, сказавшего: «…трава была такой зеленой, что казалась почти черной». Развил он и свою собственную «новую теорию». Ее краеугольным камнем стала толщина линий. Вот объяснение Бердслея одному журналисту: «Да будет вам известно, что художники, изображая фон, пользуются тонкими линиями. По мере продвижения к переднему плану их линии становятся все более толстыми. Я вот что скажу по этому поводу. Если толщина линий сохраняется одинаковой, то есть если фон и передний план рисовать линиями одинаковой толщины, можно достигнуть лучшего эффекта».
Работа над собственными рисунками не помешала Обри с головой погрузиться в редакторские обязанности. Он собирал работы своих товарищей по художественному цеху: две картины Ротенштейна, две Сикерта, одну Пеннелла. По-видимому, чтобы досадить Лейну, он взял и рисунок Лоренса Хаусмана «Отраженный фавн», ранее предложенный в качестве фронтисписа для сборника стихов и отвергнутый издателем.
Обри внимательно следил за изготовлением печатных форм и придирчиво изучал оттиски. Словом, задуманное ими обретало реальные формы, и пришло время позаботиться о рекламе. Возможно движимый воспоминаниями о том, сколько шума наделала афиша Бердслея для театра «Авеню», буквально скандализировавшая общество, Лейн попросил своего художественного редактора нарисовать плакат, предваряющий выпуск «Желтой книги» [9].