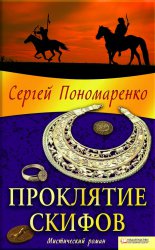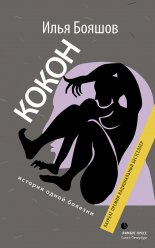Дальше живите сами Троппер Джонатан

— Коул! — шипит Венди с порога и, сокрушенно улыбнувшись, поясняет для меня: — Мы с этим боремся.
— Ругается он вполне виртуозно.
— Дейфин! Кобей! — радостно повторяет Коул.
Я скоро буду отцом, думаю я.
— Прямо как будто смена в лагере кончилась, — говорит Венди. Она сидит на краешке кровати Коула, а я — на кровати Райана в бывшей комнате самой Венди. — Завтра снова разъедемся, кто куда.
— Ты одна-то справишься? На самолете, со всей троицей? — спрашиваю я. Подменяю эмоции логистикой. В этом нам, достойным наследникам отца, равных нет. Наши родители достают нас, так или иначе, даже после смерти. Так что, пока мы есть, они, в сущности, не умирают. И сестра, и братья, и я сам будем давить в себе искренние эмоции всегда, до седых волос. И в общении с посторонними вполне преуспеем, кто больше, кто меньше, но вот друг с другом… Тут мы терпим крах, полный и неизменный. Иногда очень даже эффектный. Потому что наша нервная система похожа на электропроводку в родительском доме: она держится на честном слове.
— Справлюсь, без проблем.
— И как будет с Барри?
— А что с ним будет?
— Ничего. Не бери в голову.
Венди вздыхает и смотрит на спящего сына. На ее лице отражается смесь любви, боли и тревоги. Мне это чувство пока неведомо, но оно придет скоро, очень скоро.
— У меня замечательная жизнь, хороший муж, — говорит Венди. — Я люблю его, уж какой есть. Иногда он — тот, какой есть, — меня не вполне устраивает, мне чего-то не хватает, но в основном — хватает. Есть женщины, которые вечно ищут чего-то лучшего. Я им даже завидую, но знаю, что сама я устроена иначе. Кстати, кто-нибудь исследовал, сколько таких женщин действительно проживают остаток жизни с более достойным человеком? — Она пожимает плечами. — Нет такой статистики.
— А Хорри?
— Нет никакого Хорри. Хорри — фантазия. И я для него тоже фантазия. Путешествие во времени. Нынешний эпизод — это дань памяти тем детям, которыми мы были когда-то. Нет между нами ничего, кроме памяти и никому не нужной, бесполезной любви.
Она встает на колени и целует мальчишек в лоб — сперва одного, потом другого. Венди учила меня ругаться матом и подбирать одежду, причесывала с утра перед школой и позволяла спать с ней в кровати, когда меня будили дурные сны. Она часто влюблялась и громко, под фанфары, бросалась в каждый новый роман — истово, словно спортсмен на олимпийском забеге. Теперь она — мать и жена, которая полночи унимает орущего младенца, пытается отучить сыновей от плохих слов и называет романтическую любовь бесполезной. Подумать только! Кем мы были и кем стали! Как порой горько видеть, что все мы так изменились — и сестра и братья… Возможно, именно поэтому мы предпочитаем держаться друг от друга на расстоянии.
Я спускаюсь в подвал и застаю там Филиппа. Он сидит на кровати, а перед ним спортивная сумка, куда я положил конверт с деньгами из банка.
— Тут много денег, — говорит он.
— Ага, — говорю я. — Много.
— А можно сколько-то позаимствовать?
— Сколько-то — это сколько?
Филипп думает, но недолго:
— Штуку.
— Ты хочешь проиграть их в казино?
— Нет.
— Купить наркоту?
— Иди в баню, Джад! — Он бросает сумку на пол и идет к лестнице. — Я ничего не просил. Забудь.
— Филипп.
Он оборачивается:
— Джад, у меня ничего нет. Ни дома, ни работы, ничего. Весь последний год я подрабатывал официантом, но в основном тянул деньги из Трейси. Я ищу, с чего начать, за что зацепиться. Задумал было поработать с Полом, но он уперся, как баран.
— Может, стоит некоторое время поработать на него, а уж потом с ним? Если сработаетесь.
Размышляя над моим предложением, Филипп подтягивается и усаживается на пинг-понговый стол.
— Я подумаю.
— Я поговорю с Полом, — предлагаю я.
— Ага, давай, только не поцапайтесь от избытка взаимопонимания.
— Люди меняются.
Филипп хохочет и пересаживается на кровать.
— Вообще-то мы хорошо время провели, целую неделю, как братья.
— Мы всегда братья. Даже когда мы далеко друг от друга.
— Тогда это не так ощутимо.
— Пожалуй, ты прав.
— Кстати, у меня есть еще причина поошиваться тут подольше. Я же хочу познакомиться с новеньким племянником!
— С племянницей. Это — девочка.
Филипп улыбается:
— Маленькая девочка. Здорово!
— Да.
— Я постараюсь вести себя прилично, не быть таким охламоном. Уже стараюсь.
— Вижу.
Он встает и направляется к лестнице.
— Ладно, тебе небось спать хочется.
— Филипп.
— Да?
— Возьми штуку. — Шестнадцать тысяч, лежащие в спортивной сумке, отчего-то кажутся мне куда большей суммой, чем когда они хранятся в банке.
— Спасибо, брат. — Он идет наверх.
— Я серьезно. Возьми деньги.
Филипп усмехается и поглаживает себя по оттопыренному карману:
— Уже. Я знал, что ты не откажешь.
Глава 49
Пенни, в легинсах и майке на тонких лямках, открывает дверь. Во рту у нее зубная щетка.
— Привет, — говорю я.
— Привет.
— Надеюсь, я не слишком поздно.
— Слишком поздно для чего?
— Верно. Хороший вопрос. Ну, во-первых, для извинений.
Пенни всматривается в меня, словно силится что-то разглядеть сквозь туман. За ее спиной я вижу одинокую захламленную квартирку. Я виноват в этом, я.
— Нет, не поздно, — отвечает она.
— Я рад.
— Это все?
— Ты о чем?
— Это и было твое извинение? Я просто не поняла. Иногда люди говорят «я хочу извиниться» и полагают, что тем самым они это уже сделали. На самом же деле они сказали «а», не сказавши «б».
— Угу. — Я киваю.
Она пожимает плечами:
— У меня опыт. Передо мной много извинялись.
— Пенни.
— Джад, ты хочешь что-то мне сказать? Так говори. Это совершенно безопасно, я тебя не съем.
— На самом деле я не подготовился. Просто приехал.
— Значит, то, что ты скажешь, прозвучит естественно. Не зазубренно, не отрепетированно.
В уголке ее рта белеют остатки зубной пасты. Мне хочется дотронуться до Пенни, смахнуть пасту, но я себя предусмотрительно останавливаю.
— Мне правда очень жаль, что пришлось так срочно уехать из парка.
Она качает головой:
— Тебе не этого жаль.
— А чего?
— Тебе жаль, что ты не сказал мне, что Джен беременна. Не сказал, как безнадежно ты запутался, не сказал, что все еще ее любишь, а главное — не предупредил, что из всех возможных парней мне именно с тобой ни в коем случае не стоит прыгать в койку.
— Да, верно. Мне очень стыдно. Правда стыдно. Я минут десять вообще не мог собраться с духом и позвонить в дверь.
— Да я знаю. В окно видела.
— Мне действительно очень жаль. Ты заслужила лучшего.
— Я тебя прощаю.
— Честно? Просто берешь и прощаешь?
— Представь. Беру и прощаю.
— Но говоришь по-прежнему сердито.
— Не сердито. Отстраненно. Я, конечно, ценю твой порыв, и спасибо, что пришел, но за прошедшие сутки я внутренне выстроила между нами стену, толстую и надежную. Мы теперь по разные стороны.
— Наверно, ты права.
— Не обижайся, ничего личного тут нет.
Мы довольно долго стоим молча. Я не знаю, чего я ожидал от этого визита.
— Значит, шива закончилась?
— Похоже, что так. Завтра утром прикроем лавочку.
— А потом ты куда?
Я качаю головой:
— Пока не представляю.
— Ну, никто же не запрещает взять тайм-аут и подумать.
— Нет, конечно.
— Первые шаги к новой жизни, — говорит она и тут же уныло усмехается. — Прости. Неудачный образ.
— Ничего страшного.
— Что ж, — произносит Пенни. — Мы снова ищем тему для разговора, а мне это тяжело дается, сам знаешь. Так что давай-ка я тебя обниму… — Она делает шаг вперед и обнимает меня, теплая и легкая в моих руках. Меня переполняет глубокая печаль, а ее волосы щекочут мои пальцы. — А теперь иди с богом.
— До свидания, Пенни. Надеюсь, увидимся.
Она улыбается вполсилы, но очень искренне:
— Береги себя, Джад Фоксман.
Я уже иду к машине, как вдруг сзади слышатся шаги.
— Джад!
Она догоняет меня бегом и, влетев ко мне на руки, точно птица, обнимает так, что не вздохнуть. Я держу ее на весу, а она обнимает меня руками и ногами сразу — есть такой элемент в фигурном катании. Соскочив на землю, улыбается весело и ярко, сквозь слезы:
— Никогда у меня не получалось строить стены.
— Это точно.
— А еще знай, что наш договор остается в силе.
— Правда?
— Да. Срок — пять лет. Если за это время ни один из нас не находит ничего лучшего, мы будем вместе. Ты и я.
Я киваю:
— Ты и я.
— Хороший план?
— Хороший.
Мы стоим, и на нас льется свет уличного фонаря — как в заключительном кадре из кинофильма. Может, поэтому, а может еще и потому, что в эту минуту я люблю ее больше всего на свете, я притягиваю ее к себе и целую ее губы. Во рту у нее — вкус зубной пасты.
— Мятная свежесть, — говорю я.
В ее смехе — музыка и перезвон колокольчиков. От такого смеха мужчина, пусть ненадолго, чувствует себя человеком.
Вторник
Глава 50
Приехал Стояк: пора официально завершить шиву. После разящего удара Пола левый висок у него все еще лиловатый и припухший, и не похоже, что он особенно рад нас видеть. За неделю, что мы пробыли в городе, мы разгромили его синагогу, заново ввели в оборот его постыдную кличку и расквасили ему физиономию. Он просит, чтобы все ближайшие родственники покойного в последний раз уселись на низенькие стульчики, сам садится напротив, на один из складных белых стульев, и начинает вещать — словно по бумажке читает:
— В течение последней недели в этом доме царил траур. Вы утешали друг друга и приняли утешение от друзей и близких. Конечно, с окончанием шивы ваша печаль никуда не уйдет. Самое трудное — впереди. Вам надо вернуться к обычной жизни, той жизни, где вашего мужа и отца уже не будет. Придется учиться жить без него, продолжая утешать и поддерживать друг друга и особенно вашу маму. Надо обязательно разговаривать о Морте, вспоминать о нем. И знайте: вы не одиноки в вашем горе. Мы все — с вами.
Рабби продолжает стоя:
— Теперь я прочитаю вам два стиха из Книги пророка Исайи: «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Я утешу тебя, как мать сына своего, и Иерусалим станет для тебя утешением».[1]
— А было бы классно поверить в Бога, — бормочет себе под нос Филипп.
Все мы смотрим на Стояка с надеждой, как выпускники: не пора ли уже побросать шапочки в воздух и — на свободу?
— Теперь можно встать. — Стояк широко улыбается: формальностям конец.
Вот и все.
Мы встаем. Мы радуемся и одновременно жалеем, что шива закончилась. Мы любим друг друга, но общаться, даже просто находиться в одном помещении для нас испытание. За семь дней мы не загрызли друг друга, и это — уже чудо. Даже теперь мы улыбаемся друг другу, но улыбки наши кривоваты и в глаза никто не смотрит. Нас снова разметает в разные стороны.
— Принято, чтобы в этот момент скорбящие все вместе покинули дом, — говорит Стояк.
— Куда идти-то? — спрашивает Пол.
— Прогуляйтесь по улице.
— Зачем? — недоумеваю я.
— Последние семь дней вы провели в четырех стенах, вы были сосредоточены на смерти. Прогулка восстанавливает вашу связь с внешним миром.
— И для этого надо пройтись по улице?
— Да, — раздраженно отвечает Стояк. — Это очень полезно.
Утро прохладнее, чем я ожидал, но очень ясное и солнечное, а ветер рвет листья уже вполне по-осеннему. Мама идет, взяв под руки Филиппа и Венди, — прямо торжественное шествие, а не прогулка. Мы с Полом идем сзади, засунув зябнущие ладони в карманы и неловко пытаясь попасть в шаг.
— Что ж, — говорит Пол. — Какие у тебя планы?
— Пока не знаю.
— Ты скажи, если что… Чем могу — помогу… — Последнее слово можно только угадать.
Я смотрю вперед, прямо перед собой:
— А как будет с Филиппом?
— Что будет с Филиппом?
— Ему нужна работа.
— Тебе тоже.
— Я откажусь от своей доли, если ты наймешь его на работу.
Пол резко поворачивает голову, смотрит на меня. Вздыхает.
— Я уверен, что Филипп испоганил себе жизнь не в последний раз.
— Скорее всего, ты прав.
Мы идем молча. Я пинаю попавший под ноги камешек, и он летит вперед. Когда мы снова до него доходим, Пол поддевает его ногой, откидывает вперед. Игра из детства.
— Папа всегда любил его больше всех, помнишь?
Я киваю:
— Он любил в нем то, что ему самому было не дано.
— В смысле, что папа не был психом?
— Филипп шумный. Теплый. Эмоциональный. Папа любил нас, потому что мы были немножко как он. А Филиппа он любил, потому что он был на него ни капли не похож.
Пол вздыхает:
— Вернемся к делу. О чем мы говорили?
— Папы больше нет, — говорю я. — Мы наследуем все — и его бизнес, и обязанность вызволять Филиппа из передряг.
Пол пинает камешек слишком сильно, он отскакивает от бордюра и вылетает на проезжую часть.
— Хорошо. Договоримся так: ты оставляешь свою долю себе. Я беру Филиппа в дело, на испытательный срок. Но когда он снова во что-то вляпается, мы с тобой партнеры. Пятьдесят на пятьдесят. Годится?
— Годится, — соглашаюсь я. Хорошо иногда поговорить с родным братом. Мы сворачиваем на Лансинг, короткую кривую улочку, которая, точно ручка кувшина, снова упрется в нашу Слепую Кишку.
Пол вдруг останавливается, прокашливается:
— Я хочу тебе еще кое-что сказать.
— Да?
— Тогда вечером… Я такого наговорил…
— Мы оба наговорили.
— Да. Штука в том, что я был очень зол на тебя. Длилось это очень долго, и пользы никому из нас не принесло. Я потратил на обиды много времени, и время это уже не вернешь. Теперь я вижу, как ты злишься на Джен из-за того, что случилось с вашим браком… Знаешь, в какой-то момент уже совершенно не важно, кто прав, а кто виноват. Злость и обида превращаются в дурную привычку, вроде курения. Ты травишь себя, даже не задумываясь о том, что делаешь.
— Угу. Спасибо.
Пол хлопает меня по спине:
— Как говорится, не бери с меня пример, а слушай, что говорю.
— Спасибо, Пол.
Он обгоняет меня на шаг.
— Не за что, братик. Не за что.
Восстанавливать отношения — дело замысловатое, но у нас, людей, не умеющих проявлять эмоции, есть свои преимущества. Недаром говорят, что молчание — золото. Мы просто идем, и на душе уже куда легче, а впереди — телеграфным кодом — цокает каблучками мама. Она ведет нас домой.
Расцеловав Венди на прощанье, мама начинает плакать. Она всегда так сильно переигрывает, что сейчас, когда ее обуревают нормальные материнские эмоции, им уже не очень веришь. Но так или иначе мы — ее дети, и мы опять уезжаем… Я целую обоих племянников и затягиваю ремешки на их автомобильных сиденьях.
— Летите весело, парни. И ведите себя хорошо.
— Я йиву в Кайифойнии, — торжественно сообщает мне Коул.
— Да, ты прав.
— До свидания, дядя Джад, — говорит Райан.
Когда я увижу их в следующий раз, Коул будет говорить чисто, длинными предложениями, а Райан превратится в угрюмого бейсбольного фаната с первыми колечками волосков на тощих ногах. Скорее всего, он больше не позволит мне целовать его в щеку. От этой мысли мне становится грустно, и я целую его еще раз.
— Дырка в жопе, — шепчет он, и мы смеемся, как заговорщики. Коул хохочет вместе с нами — просто потому, что ему всего два года и он веселится по любому поводу.
Венди обнимает меня и говорит:
— Знаешь, пустись-ка ты в загул, пока есть время. Потрахай баб направо и налево, дави их, не глядя, как банки из-под пива. Побудь женоненавистником, тебе пойдет на пользу.
— Счастливого пути.
— Ты — рохля, Джад. Но я тебя люблю. Я обязательно приеду, когда вы родите. — Она чмокает меня в щеку и переходит к Филиппу, потом к Полу с Элис, а потом берет автомобильное кресло со спящей Сереной и залезает в фургон через заднюю дверь. Фургон движется по Слепой Кишке очень медленно, и я вижу, как с порога своего дома прощально салютует Хорри. Фургон, накренившись, останавливается, и Хорри сбегает по лестнице. Окна фургона не открываются. Хорри кладет руку на тонированное стекло, пристально глядит внутрь. Я не вижу, что внутри, но представляю, как Венди тоже прижимает ладонь к стеклу, ее пальцы — против его пальцев, и они долго смотрят друг другу в глаза. А потом она отнимает руку, откидывается в кресле и велит водителю жать на газ, потому что так и на самолет можно опоздать.
В верхнем ящике папиного древнего комода из красного дерева — куча разного добра. Просроченный паспорт; кольцо с гравировкой — к окончанию средней школы; швейцарский складной нож с монограммой; старый бумажник; непарные запонки; старые наручные часы фирмы «Таг Хойер» — отец всю жизнь собирался их починить; наши замусоленные табели с отметками, стянутые резинками; множество сувенирных цепочек для ключей; дорогущая перьевая ручка; золотая газовая зажигалка — тоже с монограммой; целая россыпь болтов, гаек и пластмассовых зажимов для проводов; пассатижи и, в серебряной рамке, черно-белая фотография — мамин портрет во весь рост. Обнаженная, юная, прекрасная — до того как дети и грудные имплантанты изменили геометрию ее тела. Она тут очень тоненькая, и в ее позе ощущается чуть заметное стеснение, словно она пока не понимает, как хороша. По ее улыбке ясно, что снимал отец. Рамка ничуть не потускнела от времени — видно, отец об этом портрете заботился, чистил серебро.
Швейцарский нож оставлю для Пола, зажигалку отдадим Филиппу. Я снимаю с запястья «Ролекс», кладу в карман и беру в руки папины часы. Когда я был маленьким, я хватал папу за запястье и крутил внешний ободок циферблата — он так замечательно пощелкивал. Пробую покрутить сейчас. Щелчки звучат совсем иначе: не хватает папиной руки, придававшей часам такую увесистость и надежность. Так, оказывается, на задней крышке часов есть гравировка. Ты меня нашел. Любовь моей матери, неприкрытая, всепоглощающая, написанная на стали. Трудно вообразить, что мама способна потеряться и ее надо искать, но еще труднее — в сущности, невозможно — представить, какими были твои родители до того, как они стали твоими родителями. А ведь у них, похоже, были совершенно особые отношения. Мне это раньше не приходило в голову. Я надеваю часы. Сначала сталь холодит запястье, но быстро, словно живое существо, нагревается от моего тепла. Я задвигаю ящик и, присев на кровать с папиной стороны, с минуту рассматриваю часы. Запястье у меня сильно тоньше папиного, и, чтобы их носить, из цепочки придется удалить несколько звеньев. Ну и починить, естественно, поскольку стрелки замерли на белом циферблате много лет назад. Что ж, займусь на досуге. Досуга у меня сейчас — хоть отбавляй.
Мама, Филипп, Пол, Элис и Хорри за столом, завтракают, благо подношения, принесенные соседями на шиву, еще не иссякли. Филипп рассказывает какую-то историю, повергая слушателей то в ужас, то в дикое веселье. У него припасено великое множество баек, от которых люди смеются и плачут, и некоторые из этих баек даже похожи на правду. Я наблюдаю за ними из прихожей, а потом — так и не замеченный — тихонько выхожу на улицу. По непонятным мне самому причинам я не готов принять на себя ушат прощальных объятий и вполне искренних добрых пожеланий. Я просто не выдержу — ни странностей Элис, ни неуклюжей прямолинейности Пола, ни бурных эмоций Филиппа, ни маминых слез. Не выдержу и тоже заплачу, а наплакался я уже предостаточно.
— Хочешь слинять по-тихому?
Повернувшись, я вижу на крыльце Линду.
— Нет. Я только…
— Ничего страшного, поезжай, — говорит она мягко. — Семь дней — уже немало. Ну, давай обниму. — Она обхватывает меня обеими руками и целует в обе щеки.
— Я счастлив за вас с мамой.
— Правда? Для тебя это не чересчур? — Она слегка краснеет, и внезапно я вижу ее такой, какой, наверно, видит ее мама: более молодой и… беззащитной, что ли?
— Чересчур, но — по-хорошему.
— Хорошо сказано, — говорит она, обнимая меня снова. — Спасибо.
— Ты сюда переедешь?