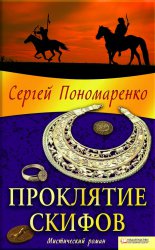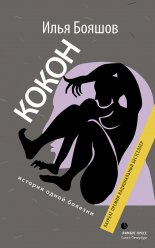Дальше живите сами Троппер Джонатан

— Молодец.
— Вы заставили каждого из нас выучить по одному Кентерберийскому рассказу Чосера на староанглийском.
Он смеется:
— Я был вредным, да? Забавные вещи в памяти остаются. — Он приоткрывает окно, чтобы закурить. — Не возражаешь?
Огни Сто двадцатого шоссе превращаются в пеструю полосу за грязным окном такси. По радио исполняют «Удивительный вечер», и мы умолкаем, чтобы послушать. Похоже, от этой песни мистера Раффало тоже грусть-тоска пробирает, не меньше, чем меня. На последних нотах мы тормозим у дома.
— Ты играл в бейсбол?
— Нет, это мой брат играл, Пол Фоксман.
Я вручаю ему двадцатку, он кивает:
— У твоего брата был настоящий талант. Жаль, что с ним такая беда приключилась.
— Да. Спасибо.
— Жизнь — лотерея, — говорит он многозначительно. — Как говорится, от тюрьмы да от сумы не зарекайся.
— С этим не поспоришь. — Я не беру сдачу, хотя подозреваю, что в нынешнем существовании мистера Раффало лишние семь долларов погоды не сделают.
Спустившись в подвал, я в одном месте стираю с зеркала пену, которую распылили по приказу Стояка. Надо рассмотреть свое отражение. Нижняя губа вспухла и еще кровит, глаза мутные, щеки бледные, под глазами мешки. Я похож на труп, вынутый из реки через неделю после самоубийства. Надо бы сделать вскрытие. В буквальном смысле. Я стягиваю рубашку, затвердевшую от крови и рвоты. Неужели у меня выдался такой бурный вечерок? Прямо не верится. Так, теперь осмотрим тело. Н-да, пока рано принимать желаемое за действительное. Живот, конечно, еще не превратился в брюхо, но уже наметился и растет потихоньку. На груди мышцы не играют, торса, в сущности, вообще нет — так, торчат два лысых розовых соска. Некоторые все компенсируют широкими плечами, но у меня и тут недостача. Общее впечатление: худой и какой-то обвислый. А скоро и вовсе буду дряблым. Дамы, налетайте. Подешевело!
Я ложусь на пол, чтобы пару раз отжаться, и тут же засыпаю.
Понедельник
Глава 42
Я сижу шиву. Голышом. Дешевый виниловый стульчик липнет к заднице, как изолента. Вокруг — все, кого я знаю, кого знал на протяжении всей жизни. Бродят, болтают, но понятно, что они вот-вот заметят, что я не одет. Я не могу встать, не могу выйти, спрятаться. Я — на виду. Поворачиваюсь к Филиппу, но это не Филипп, это — дядя Стэн. Он сидит рядом со мной, пускает слюну и беспрерывно пердит. Я прошу у него пиджак, ненадолго. Он беззубо хихикает и сообщает, что видит мои яйца. Поверх множества безликих голов я вижу Пенни. Она где-то в дальнем конце гостиной и смотрит на меня так странно, что на душе у меня становится совсем мрачно и тревожно. Затем появляется Джен — с виду на девятом месяце, круглолицая, сияющая. Нельзя, чтобы она застала меня в таком виде! Люди приветствуют ее очень тепло, обсуждают предстоящие роды, некоторые почтительно трогают живот. Она еще далеко, в нескольких шагах от двери, и тут, прямо перед ней, я вижу его. Он сидит в заднем ряду, держа младенца на согнутом локте. Он похож сам на себя, только более молодого, крупного, широкоплечего, с толстыми накачанными руками, с грудью колесом. Наши взгляды встречаются, он мне подмигивает и встает, собираясь уйти. Подожди! Папа! Но он меня не слышит. Он направляется к двери, прижимая к себе младенца, а тот задумчиво сосет шов его рубашки. Позабыв о своей наготе, я вскакиваю, бросаюсь догонять, но, сделав шаг, понимаю, что снова одноног, а протеза нет. Я звучно, с грохотом падаю на дубовый пол. Все оборачиваются и глазеют, разинув рты, а я — сквозь толпу — вижу голову отца… Он спускается по лестнице и исчезает.
Я пробуждаюсь, разбитый, несчастный, и все зову, все прошу: Подожди, я с тобой.
Глава 43
Я вылезаю на крышу и нахожу там Трейси с сигаретой из загашника Венди. Она удивленно оглядывается, потом слабо мне улыбается:
— Я заняла ваше место?
— Ничего, поместимся. — Я переползаю на гребень, сажусь рядом с ней. — В тесноте, да не в обиде.
Она протягивает мне пачку. Я беру, прикуриваю от ее сигареты. Так и сидим, глядя на городские крыши.
— Что у вас с губой? — спрашивает она.
— Кое-кто решил передо мной извиниться.
Она усмехается:
— Сильно болит?
— Только когда улыбаюсь.
— Что-то я не видела, чтобы вы улыбались.
— Вы застали меня не в лучший момент жизни.
Она поворачивается, смотрит на меня в упор.
— Ведь Филипп спал с той девушкой? С Челси? — В ее голосе нет ни гнева, ни даже обиды. Только грусть.
— Не знаю.
— Есть предположения?
— Трейси, он — мой брат.
— Понимаю. — Она затягивается, медленно и неуверенно. Похоже, курит она нечасто. — Я здесь в полном одиночестве, Джад. Мне нужен друг, кто-нибудь, кто честно скажет, свихнулась я или нет. Скажите честно. Между нами и восходом солнца.
Она наклоняется, вытаскивает сигарету у меня изо рта и, сложив свою и мою вместе, наблюдает, как струйки дыма сплетаются и тают. Потом тушит обе сигареты о шифер крыши. И видно, что вот-вот расплачется.
— Мы ведь оба не курильщики, — замечает она.
— Верно.
Я смотрю на нее довольно долго. Она старше меня, но в ней есть что-то от испуганного ребенка, какая-то давняя, неизбывная боль, которую ничем не унять.
— Между нами и восходом солнца, — повторяю я.
— Договорились.
— Спал — не спал… Наверняка не скажу. Думаю, да. А если нет, то это дело будущего. А если не с ней, то с кем-то еще. Это было, есть и будет. К нему липнут челси всего мира.
По ее щекам тихо катятся слезы. Она обхватывает руками колени.
— Спасибо.
— Простите, — говорю я. — Это ужасно больно, по себе знаю.
Она вытирает глаза и медленно выдыхает:
— На самом деле я сама виновата. Любое вранье, которое он несет, меркнет по сравнению с тем, как вру себе я сама.
— Вы заслуживаете лучшего. Я люблю его, но вы заслуживаете лучшего.
— А знаете, что самое печальное?
— Что?
Она слабо улыбается и поднимает лицо к небу.
— Он действительно меня любит. И в глубине души он хочет быть именно тем человеком, в котором я нуждаюсь. Но ему это не по плечу.
— Так что вы намерены делать?
Она на мгновение задумывается. Пожимает плечами.
— Дождусь конца шивы. Иначе нельзя. Ну а потом подгребу лохмотья гордости… и остатки собственного достоинства. И скажу «до свидания».
— Он очень расстроится, будет уговаривать. Вы к этому готовы?
— Я оставлю ему «порше».
— Ничего себе. Прощальный подарочек.
— Он все делает искренне, все… Но мне сорок четыре года. У меня нет времени на гнев и обиды.
— Возможно, вы — самый лучший человек из всех, кого я знаю.
Она улыбается и треплет меня по колену:
— Я многое понимаю в этой жизни.
— Где вы были, когда мой брак катился в тартарары?
— Всегда к вашим услугам. — Пошарив в карманах, она достает визитную карточку с рельефными буквами. Там ее имя и куча разных сокращений — ученые звания. Ниже — СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ, еще ниже ИНСТРУКТОР ПО ЖИЗНИ, а отдельно — жирным шрифтом — девиз: Составьте план.
— Составьте план, — произношу я.
— У вас он имеется?
— У меня? Что угодно, только не план. Скорее, его противоположность.
— Могу я предложить вам бесплатный совет?
— Конечно.
Трейси поворачивается ко мне:
— Вы женились рано, практически в колледже. Вас страшит одиночество. И все, что вы сейчас делаете, мотивировано этим страхом. А вы не волнуйтесь, что не найдете новую любовь. Она придет, когда суждено. Сейчас надо научиться жить в одиночку. Вы станете от этого только сильнее.
— Для чего мне эта сила?
— Чтобы быть отцом, чтобы быть тем человеком, которым хотите быть. Вот тогда-то и наступит время строить планы.
Я киваю. И представляю Джен, дрожащую в пустой постели, измученную сожалениями. Она одна. Я один. Она — мой самый близкий человек.
— Одиночество годится не для всех, — говорю я вслух.
Трейси уходит в дом. Я остаюсь на крыше, наблюдая, как оживает город, и вижу, что из дома Калленов выходит девушка. В коротком черном платьице, в туфлях на высоких каблуках, со спутанными волосами, с размазанной по лицу косметикой. Та самая девушка, с которой Хорри был вчера в баре. Она жмурится от яркого солнца и словно бы не знает, куда идти. Или не знает, где она. Впрочем, на то и тупик, чтобы двигаться можно было только в одном направлении. И она поспешно, почти бегом устремляется прочь. На работу она вряд ли опаздывает, еще слишком рано. Похоже, она просто хочет поскорее унести отсюда ноги.
Я не был в доме Калленов уже много лет. Все события всегда происходили у нас. В передней пахнет полиролью и сухими лепестками. Полы скрипят под ногами. Стена у лестницы украшена фотографиями закатов и лесов — Линда сама делала эти снимки во время путешествий.
Хорри — у себя в спальне, в цокольном этаже. Он лежит голый на полу и конвульсивно подрагивает, но приступ уже затихает. Рот его заполнен белой, точно мыльной, пеной, она капает с подбородка. Темную спальню заполняет терпкий запах секса и пота. Схватив с кровати влажную подушку, я подсовываю ее под затылок Хорри, потому что голова его еще дергается, выбивая стаккато на дубовом полу. Потом я укрываю его одеялом и, растопырив ладони, кладу их ему на плечи и грудь, чтобы знал, что я рядом. Он бьется подо мной, как умирающий зверь, но все медленнее, медленнее… спазмированные мышцы постепенно расслабляются. Все. Я оттираю слезы и пот с его лица и вскоре различаю в полутьме, что он открыл глаза.
— Ты тут? — спрашиваю я.
— Да, — сипло отвечает он, сглатывая слюну. Его взгляд тревожно мечется по комнате.
— Она ушла, — поясняю я.
— Полная впечатлений… — Он прикрывает глаза.
— Надо позвонить твоему врачу, — предлагаю я.
Хорри мотает головой:
— Все со мной как обычно. Это из-за секса. Пульс учащается, эндорфины, адреналин. Причин много.
— А нельзя что-нибудь принять? Заранее?
— От лекарств эрекция пропадает.
— Ясно. Надеюсь, она хоть того стоила?
Он глядит на меня. Белки глаз у него розоватые, словно на них полиняло что-то красное.
— Как ни прискорбно, я никогда ничего не помню.
Спустя пару минут он уже может перевернуться и встать на колени. Потом поднимается, проигнорировав протянутую мной руку. Одеяло падает.
— Зато на заднице у тебя остались приличные царапины от ее ногтей, — говорю я. — Это хороший признак.
Он вяло улыбается и, подобрав одеяло, оборачивает его вокруг талии. У Хорри не пресс, а мечта: мышцы так и ходят, так и играют под кожей. Глядя на него, нельзя не сокрушаться — кем он стал и кем мог бы стать… Все мы начинаем жизнь так нагло, так самоуверенно, думаем, что получили мир в подарок, как леденец на палочке. Впрочем, не стоит задумываться над бесконечным множеством способов, которым этот мир может нас унизить и растоптать, а то мы побоимся вылезти из кровати.
— Не говори Венди, хорошо?
— Не скажу. — Мне не очень понятно, какую часть происшедшего он хочет от нее скрыть, но в любом случае я с сестрой на эти темы говорить не собираюсь.
— Спасибо. — Он прощелкивает позвонки, покручивает шеей вправо-влево и делает глубокий вдох.
— Я все еще ощущаю ее запах.
И почему-то я знаю, что он говорит вовсе не о той девушке, которая только что ушла из его спальни.
Я выхожу из душа и вижу Элис. Она сидит на краешке моей кровати в тренировочных брюках и футболке, вся такая понурая, точно брошенный щенок.
— Элис… — начинаю я.
— Я знаю.
По моим ногам стекают недовытертые капли, на полу остаются мокрые следы.
Она хмурится и отводит взгляд:
— Я просто хотела извиниться за… за то, что случилось на днях.
— Да, хорошо. — Я отвечаю механически. На самом деле ничего хорошего, но так уж принято.
— У меня чуток крыша съехала, ты прости. — Она кривит рот, что предполагает улыбку. — Это все от гормонов, которые я принимаю.
— Да, понятно.
— Ведь это не испортит наших отношений? Правда?
— Договорились.
— Ты можешь говорить по-человечески? Не односложно?
— Да. Конечно.
— Ну же, Джад. Скажи мне доброе слово. Оно и кошке приятно.
— Выйди отсюда, Элис.
— Пожалуйста, Джад! Ты теперь меня избегаешь.
— Тебя это удивляет?
— Нет. Наверное, нет. — Элис смотрит вниз, на свои сжатые, точно в молитве, пальцы, а потом снова переводит взгляд на меня. — Но ведь это несправедливо! У тебя дети получаются так, между делом. Для Венди родить — что яйцо снести, она этих детей даже не любит. А я мучаюсь, мучаюсь…
Она сидит на краю кровати, такая милая, грустная, страдающая. Я вспоминаю, как бросилась она вчера помогать Полу, когда он повредил больное плечо. Так и хочется дать ей хорошую зуботычину.
— Ведь у вас замечательный брак, — говорю я.
— Что?
— Я про вас с Полом. Вы ведь любите друг друга, да?
Она краснеет, глаза расширяются, наливаются слезами.
— Да. Любим.
— Но ведь это труднее, чем завести ребенка. Хороший брак — это почти чудо. А ты подвергаешь его опасности.
Элис на миг задумывается, потом кивает:
— Ты прав. Я понимаю, что ты прав.
— Сама знаешь, завести ребенка каждая дура может…
— Я не могу.
Нет, с ней положительно невозможно разговаривать. Теперь рыдать начала. Господи, где они — уравновешенные, счастливые женщины? В последнее время попадаются одни неврастенички: скажешь необдуманное слово, а они тут же в слезы.
— Элис… — Я понятия не имею, чем ее утешить.
— Конечно, — говорит она, всхлипывая. — Ты прав. Прости. — Она вытирает слезы и качает головой. — Я поставила тебя в ужасное положение. Я понимаю. Только скажи, что между нами все в порядке.
Я готов сказать «выкатывайся», но вместо этого говорю:
— Пока не в порядке, но все устаканится.
— Обещаешь?
— Конечно.
— Спасибо. — По-прежнему всхлипывая, она встает и обнимает меня. Я терплю, но крепко, обеими руками придерживаю полотенце на талии.
— Ладно, тебе, наверно, надо одеться. Я пойду.
— Будь так любезна.
— Спасибо, Джад. Ты так все тонко понимаешь.
Должно быть, она шутит. Элис, милая Элис, я готов отправиться на край света, убить, умереть, лишь бы понять хоть что-нибудь в этой жизни!
Глава 44
Вряд ли вам когда-нибудь доводилось видеть более жалкую группу сидельцев шивы. У Пола рука на перевязи. У Филиппа вся кисть в синяках и напоминает раздутую перчатку, так что даже суставов не видно. Мою рассеченную губу раздуло на пол-лица. Картина маслом! Но идет шестой день шивы, и мы, корячась в гостиной на низких стульчиках, мучаемся похмельем и прочими недугами, перевариваем болеутоляющие, которые мама раздавала с утра, как стюардесса леденцы, и морщимся от солнца, которое сегодня утром кажется чересчур агрессивным. Венди на пределе, потому что Серена ни одной ночи толком не спала, с самого приезда. У матери настроение тоже ни к черту: после вчерашней размолвки от Линды ни слуху ни духу.
Согласно брошюрке, которую Стояк оставил для нас на крышке пианино, сегодня — последний полный день шивы. Завтра утром он приедет и проведет для нас маленькую заключительную церемонию, погасит траурные свечи, и дороги наши снова разойдутся — каждый вернется к собственной жизни. Или к ее полыхающим развалинам. Что до меня, я толком и не знаю, к чему возвращаться. Мой съемный подвальчик кажется кадром из плохого кинофильма, который я когда-то видел и почти позабыл.
Глаз никто из нас не поднимает. Сыты по горло, благодарствуйте. Мы разобижены, сердиты, напуганы, удручены. В некоторых семьях, как, впрочем, и в супружеских парах, со временем развивается аллергия друг на друга. Интоксикация. Перебрали с общением.
Мама ведет три постоянные группы послеродовой психотерапии. Каждая такая группа молодых мамашек собирается раз в неделю прямо у нас в гостиной, чтобы обсудить средства от младенческих колик и приучение к горшку и пожаловаться друг другу на недостаток сна, никчемных мужей и оставшиеся от беременности пласты жира на любимом теле. Когда мы были маленькими, мы называли этих женщин «несчастными мамочками» и с испугом и жалостью смотрели сверху, из-за лестничных балясин, как плачут взрослые тети. Иногда они начинали рыдать в голос, и мы не выдерживали — разбегались по своим комнатам и хохотали в подушки. Сегодня они явно созвонились или списались по электронной почте — у несчастных мамочек есть специальная рассылка — и заявились всей толпой. Так многие делают: заранее договариваются пойти на шиву вместе, потому что не хотят рисковать — не дай бог оказаться со скорбящими один на один. Некоторые гостьи пришли с младенцами — сидят, прижимая их к разбухшим от молока грудям, и, сами того не замечая, чуть покачиваются, чтобы младенцы не проснулись.
— Не укачивайте их, — требует мама хрипловатым, подсевшим голосом. — Не прекратите сейчас — придется качать еще четыре года. Вы гасите их естественную способность засыпать самостоятельно.
За эти советы мамашки выкладывают немалые деньги.
— А нас ты укачивала? — спрашивает Венди.
— Только тебя, — отвечает мать. — На тебе и обожглась. Остальные учились засыпать сами.
— А можно потренироваться? — Филипп кладет голову мне на плечо. Я вспоминаю о Трейси и передергиваю плечом, пожалуй, даже резче, чем собирался. Братец почти падает со стула.
— Какого хрена? — возмущается он, понизив голос.
— Прости.
Всего пришли семь мамашек, три из них оставили детей дома, с няньками, и теперь наслаждаются выходным: поздний завтрак, визит на шиву, потом к педикюрше, потом быстренько прошвырнуться по магазинам.
— Вот и умницы, — хвалит их мать. — Собой надо заниматься обязательно, под любым предлогом.
Возникает спонтанный сеанс психотерапии. Пол и мы с Филиппом с изумлением слушаем, как женщины рассказывают обо всех несправедливостях, которые они, бедные, терпят, и о жертвах, на которые они идут, чтобы продолжить человеческий род. Мать их подзуживает, а потом дает мудрые советы и отпускает грехи. За этим они, собственно, и приходят, за это и платят. Вот излюбленные мамины лозунги.
«Дети жаждут дисциплины».
«Не говорите ребенку, что он вас чуть-чуть расстроил, когда на самом деле вы в ярости. Все это — новомодный бред. Не скрывайте от ребенка своих эмоций».
«Любым способом, не мытьем так катаньем, начните снова получать оргазм. Возродите в себе женщину».
«Обожайте их, но требуйте к себе уважения».
Грустные мамочки рассказывают свои одинаковые грустные истории об эксплуатации женщин в браке и улыбаются пусто и изможденно. Одна из них, тоненькая, почти прозрачная женщина с печальными собачьими глазами, говорит:
— Когда рождаются дети, все меняется.
— Когда они не рождаются, тоже все меняется, — говорю я.
Слушательницы смотрят на меня уважительно, словно я изрек нечто глубокое, требующее осмысления и постижения. Мама сияет и согласно кивает, гордясь сыном, который так поумнел благодаря тяжелым эмоциональным переживаниям.
Одна из мамашек, крашеная блондинка с темными у корней волосами, в юбке в цветочек, буднично расстегивает блузку и вынимает из бюстгальтера одну длинную, обвислую грудь, чтобы покормить ребенка. Она воинственно оглядывает комнату, готовая дать отпор любому недовольному. И почему кормящие мамашки всегда такие сердитые?
— А ведь это когда-то было грудью, — бормочет Филипп.
Венди дает ему подзатыльник. Но без большой уверенности.
К несчастным мамочкам можно относиться как угодно, но у них есть одно бесспорное достоинство: надолго они не задерживаются. Они живут по жесткому графику: сон — кормежка — сон — кормежка, а в промежутках маникюры-педикюры и набеги на магазины. Поднявшись, все, как одна, они подтягивают джинсы, которые им на этом этапе жизни лучше бы вовсе не носить, повторяют приличествующие случаю соболезнования, вешают на плечи набитые памперсами дизайнерские сумки, звенят ключами от мини-вэнов и бездумно, точно бутылки пробками, затыкают сосками рты своих своенравных младенцев. Их каблучки клацают, точно джазист-барабанщик нарочно задевает обод барабана, а потом они уходят, и воцаряется звучная, осязаемая тишина, только аромат духов витает в воздухе.
Появляются «завсегдатаи» — в основном женщины. Это мамины подруги и соседки, которым все равно надо где-то выпить утренний кофе. С ними заходят и мужья — те, кто на пенсии. Вернулся и Питер Эпельбаум — надо отдать должное его упорству. Ведет он себя на сей раз посдержаннее, но неотрывно наблюдает за матерью и ждет удобного момента для атаки. Я ему искренне сочувствую. Живешь-живешь достойно и правильно, а доживаешь в одиночестве, и твое время уходит меж пальцев, как песок.
Хорри — по просьбе Пола — приносит из магазина какие-то документы. По нему и не скажешь, что сегодня утром у него был приступ. Он садится перед Венди, хочет с ней поговорить. Беседа, однако, иссякает довольно быстро, окружающие им явно мешают. Впрочем, Хорри уходить не порывается, он готов сидеть рядом с ней и молча, да и она вполне этим счастлива.
Женщин тревожит, что в городе появился опасный перекресток. Светофор переключается очень быстро, и нет отдельной полосы для левого поворота — немудрено, что там на прошлой неделе опять случилась авария. С этим пора что-то делать. Разговор соскакивает на другие аварии, на штрафы за превышение скорости, на иск, который супруги Пейли подали на городскую администрацию за то, что во время последнего урагана клен проломил им крышу. Потом заговорили о новых домах, которые нувориши возводят в окрестностях, нарушая все законы застройки; о здании Элмсбрукского суда и торговом центре, который начали пристраивать к нему сзади; о том, что, когда обвалился рынок недвижимости, стройку забросили, и теперь там место встречи скейтбордеров и даже наркопритон, и с этим тоже надо срочно что-то делать. Беседа течет через случайные ассоциации, ни на чем долго не задерживаясь. Никто не задает существенных вопросов, никто, в сущности, никого не слушает, лишь пережидает, чтобы вставить свое слово и спеть свою строку в бесконечном каноне.
И вдруг, посреди этой шумной и пустой болтовни, мама встает и смотрит поверх голов в прихожую. Проследив ее пристальный взгляд, мы видим, как с улицы входит Линда и, закрыв за собой дверь, усердно вытирает ноги о коврик. Мама улыбается совершенно не по-маминому — неуверенно, даже осторожно. Линда поднимает глаза и так, взглядом и сдержанной улыбкой, обозначает примирение. Мама пробирается к ней меж стульев, на ходу набирая скорость, выбегает в прихожую и бросается в ее объятья. Они обнимаются крепко и бурно, прижимаются друг к другу лбами и что-то шепчут наперебой, и по щекам у них текут слезы. Потом мама бережно сжимает Линдино лицо обеими ладонями и нежно и долго целует в губы. После чего они, взявшись за руки, выходят за порог, а мы судорожно ищем, чем бы подышать в комнате, из которой внезапно откачали весь кислород.
Первым реагирует Питер Эпельбаум. Откашлявшись, он встает и произносит:
— Ну и ну. Вот так неожиданность.
После чего он поворачивается и понуро идет к двери. Он был готов бороться за руку и сердце дамы, возможно даже радовался, что она не сдается без боя, но это… нет, он слишком стар. Я догоняю его у входной двери:
— Мистер Эпельбаум.
Он удивленно оглядывается:
— Я для тебя Питер.
— Питер. Все к лучшему. Сдалась вам такая головная боль?
Он качает головой и слабо улыбается:
— Мне семьдесят два года. Я каждое утро пью кофе в одиночку, каждый вечер засыпаю с включенным телевизором. Так что головная боль бывает разная.
— Найдутся другие вдовы. В смысле… вы же этих мужей видели.
У него ясные синие глаза и такая усмешка — ни за что не дашь семьдесят два года.
— Твоими устами да мед пить.
— Да они слетятся на вас, как мухи на этот самый мед!
Он смеется и треплет меня по щеке:
— Не позволяй себе состариться, мальчик. Не повторяй моих ошибок.
Я наблюдаю, как он печально идет по улице. Надо же, в таком возрасте его сердцем еще управляют страсти и властвуют женщины. Ужасно, но… вдохновляет, как ни крути.
Глава 45
За долгие годы папа насверлил в стенах так много дыр и проложил в них так много проводов, что стены стали пористыми и пропускали любые шумы, поэтому, засыпая, мы слышали родителей, которые вели активную и бурную половую жизнь. Слышали всё: и мерные постукивания спинки кровати о стену, и глухое пыхтенье отца, и мамины крики, которым позавидовала бы любая порнозвезда. Мы притерпелись к этим звукам и научились отключаться от них, как от любых других шумов, которые периодически возникают в доме: потрескиванья старых паровых радиаторов, скрипа лестницы, гула холодильного компрессора, урчания канализации. О сексе папа с нами никогда не говорил. Вероятно, считал, что, когда придет время, мы сами во всем разберемся.
Мне было шесть лет, когда я их застал. Я проснулся от головной боли и поплелся по коридору к ним в комнату, шаркая матерчатыми тапочками из пижамного комплекта. Мама была сверху, спиной ко мне. Она раскачивалась взад-вперед, и я решил, что она делает зарядку. Иногда она ее действительно делала, перед телевизором, в трико и вязаных гетрах, отчего становилась похожа на кошку.
— Я хочу выглядеть так же хорошо, как она, — объясняла мама, кивая на экран, где какая-то женщина стояла, как и мама, на всех четырех и задирала ногу. Точь-в-точь собака, когда писает.
— Она похожа на собаку, — заметил я.
— Это — Джейн Фонда, и она никакая не собака.
Джейн Фонда убирала волосы под ленту, чем напоминала мне миссис Давенпорт, мою воспитательницу в детском саду. А мама, с волосами, забранными в высокий хвост, и в спортивном лифчике, напоминала женщину-джинна из фильма «Я мечтаю о джинне». Героиню фильма я считал самой красивой женщиной на Земле и собирался, когда вырасту, на ней жениться. Мы поселимся в ее синей бутылке, которую мама поставит на полку в кухне, и по вечерам мы будем являться в облаке дыма и ужинать с моей семьей. А после ужина джинн только мигнет — и вся посуда уже перемыта.
— Ты красивее, чем Джейн Фонда, — сказал я маме.
— Конечно, мой сладкий, — ответила она и, пыхтя, задрала ногу. — Но попка у нее получше моей.
Я засмеялся. Смешной показалась сама идея сравнивать попки.
— Но ведь твою попку никто не видит.
— Женщины хотят иметь красивые попки, даже если их никто не видит.
— Это же глупо.