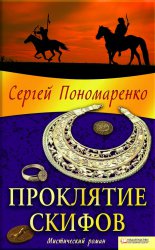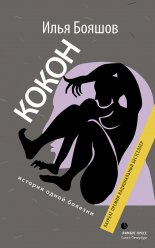Дальше живите сами Троппер Джонатан

— Он мыслил совершенно здраво. — Щеки Стояка потихоньку багровеют.
— А еще кто-нибудь слышал, как он это сказал? — интересуется Филипп.
— Филипп, — одергивает его Пол.
— Что? Я просто спрашиваю. Ну, вдруг Сто… Чарли чего-то не понял.
— Я все прекрасно понял, — сухо отвечает Стояк. — Мы обсуждали это довольно долго.
— Я не ошибаюсь, что шиву иногда сидят всего три дня? — говорю я.
— Точно! — восклицает Венди. — Ты прав.
— Нет, не прав! — кричит Стояк. — Само слово «шива» означает семь. Семь дней. Потому траур и называется шива. И ваш отец именно об этом и просил.
— В магазинах все пойдет вразнос, если я просижу тут семь дней, — говорит Пол. — Папа никогда бы такого не предложил.
— Послушай, Чарли, — примиряюще говорю я, шагнув к нему поближе. — Ты свое дело выполнил, волю отца нам сообщил. Мы теперь это между собой обсудим и придем к какому-то согласию. Если будут вопросы, мы тебя обязательно позовем.
— Прекратите!
Обернувшись, мы видим на пороге гостиной маму и Линду.
— Так хотел ваш отец, — сурово говорит мама, входя в комнату. К этому моменту она уже сняла пиджак, оставшись в блузке с глубоким вырезом, обнажавшим ту самую, знаменитую ложбинку меж грудей, из-за которой нас так дразнили в школе. — Он был далеко не идеален, он не был образцовым отцом, но он был хорошим человеком и всегда делал для вас все, что мог. Кстати, вы в последнее время тоже не были образцовыми детьми.
— Мам, ну что ты? Успокойся, — говорит Пол, упреждающе подняв руку.
— Не прерывай меня. Ваш отец умирал целый год, практически целый год. Сколько раз вы, каждый из вас, его навестили? Я знаю, Венди, Лос-Анджелес — не ближний свет. Да и у тебя, Джад, сейчас не лучшие времена. А уж ты, Филипп… Одному Богу известно, где тебя носило. Будь ты на войне в Ираке, я бы хоть знала, где ты… Короче. Отец высказал предсмертную волю, и мы отнесемся к его воле с уважением. Мы все. Да, тут будет тесно, неудобно, мы будем действовать друг другу на нервы, но на ближайшие семь дней вы снова станете моими детьми. — Она подходит ближе и улыбается. — Бросайте якоря.
Резко развернувшись на каблуке-шпильке, мать плюхается на один из низких стульчиков.
— Ну, — говорит она. — Чего ждете?
Мы молча садимся — надутые, обиженные, точно группа проштрафившихся школьников.
— Хмм… миссис Фоксман, — откашлявшись, произносит Стояк. — Шиву предпочтительно сидеть не в парадной обуви.
— У меня плоскостопие, — парирует мать, смерив Стояка взглядом, острым как бритва. Таким взглядом впору без ножа делать обрезание.
Мои родители крепко держались лишь одной, поистершейся за века еврейской традиции: собирали семью на праздник Рош а-Шана. Едва лето начинало подвядать, превращаясь в осень, у каждого из нас раздавался звонок — не с приглашением, а с требованием приехать, — и все мы слетались в Слепую Кишку, чтобы ворча сходить на службу в синагогу, поругаться из-за спальных мест и высидеть обильный праздничный обед, причем кто-нибудь непременно выскакивал из-за стола и пулей вылетал из дома. Это тоже вошло в традицию. Чаще всего не выдерживали Венди или Элис, хотя, как сейчас помню, однажды из-за стола выбежала Джен, потому что отец, изрядно принявший на грудь, сказал ей вдруг, без всякого повода, что наш умерший сын не считался бы евреем, поскольку она, его мать, — не еврейка. Джен тогда швырнула в отца тарелку и убежала, но никто ее не осудил: ведь прошло всего несколько месяцев с тех пор, как она родила мертвого ребенка. «И что на нее нашло?» — удивился отец. В итоге все сложилось даже удачно, так как Джен настояла на немедленном отъезде и я оказался избавлен от нудной многочасовой службы в синагоге, куда все мы должны были пойти наутро. Обычно к концу такой службы размеренное блеяние кантора Ротмана изводило слушателей до такой степени, что мне, к примеру, хотелось пасть ниц и признать Иисуса Христа своим Богом и Спасителем.
Элис и Трейси помогают Линде на кухне. Хорри ушел — Пол отправил его в магазин, доделывать дела. Магазин в Элмсбруке — флагман всего бизнеса, он работает без выходных до девяти часов вечера. Барри наверху, смотрит с Райаном видак. Поэтому в гостиной остались только скорбящие на низеньких стульях, все пятеро. И чувствуем мы себя глупо и неуютно.
— Ну-с, — произносит Филипп. — Что дальше?
— Дальше будут приходить люди, — отвечает мать.
— Как они узнают, когда приходить?
— Мы же не первые сидим шиву, — ворчливо обрывает его Пол. — На все свои правила.
— Люди придут, — говорит мать.
— И люди придут! — басом, под Джеймса Эрла Джонса, передразнивает Филипп.
Наш Филипп — просто кладезь цитат из фильмов и песен. Жаль, что, расчищая для них место у себя в голове, он заодно выкинул оттуда логику и здравый смысл. Зато цитатами сыплет по поводу и без повода, словно восточный мудрец.
Пол замечает мой взгляд: я смотрю на его правую руку. Широкий розовый шрам пересекает мясистую часть ладони, переходит на запястье и заканчивается неровным узловато-клочковатым наростом почти у локтя. На плече у него есть еще один шрам, куда страшнее этого: он тянется к шее застывшими бурунами — по одному на каждый зуб рассвирепевшего ротвейлера, который промахнулся лишь на пару дюймов. Не дотянулся до яремной вены. Когда я вижу Пола, я вечно пялюсь на шрамы от собачьих зубов, просто не могу удержаться.
Пол тут же сгибает руку, пряча шрам, и кидает на меня тяжелый взгляд. Он ни разу не обратился ко мне, с самого моего приезда. Он вообще никогда без нужды со мной не заговаривает. Тому есть много причин, одна из которых — как раз нападение ротвейлера, положившее конец его так и не начавшейся бейсбольной карьере в колледже. Винит он в этом меня. Разумеется, вслух он этого ни разу не высказал. За исключением Филиппа мужчины в нашей семье не склонны озвучивать свои претензии. Поэтому не могу с уверенностью сказать, кого Пол возненавидел в тот момент: только меня или всех вокруг.
Другая возможная причина состоит в том, что мужчиной я стал с Элис. Давно, еще в школе. Она была первой у меня, а я у нее. Ничего ужасного в этом, кстати, нет. Мы с ней учились в одном классе, а на глаза Полу она попалась много лет спустя, когда чистила ему эмаль в зубоврачебном кабинете, а он привычно произнес: «Кажется, ты в детстве дружила с моим младшим братцем?» Беспроигрышный способ познакомиться с девушкой. Я к тому времени давным-давно уехал из нашего городка и был обручен с Джен, так что с меня взятки гладки. Если Полу что-то не нравится, сам виноват. Знал же, что я побывал там первым. Не удивлюсь, если он и встречаться-то с ней стал, чтобы как-то поквитаться со мной за историю с собакой. Довольно извращенный способ поквитаться, но зато в стиле Пола. Поэтому теперь, каждый раз, когда Пол меня видит, на душе у него свербит. Он знает, что я лишил девственности его жену, что я видел Элис обнаженной, целовал розоватое родимое пятно, напоминающее вопросительный знак, которое начинается у нее чуть ниже пупка, а заканчивается у промежности. С тех пор прошло семнадцать лет, но настоящие мужики такого не забывают. Да и Элис, увидев меня, наверняка вспоминает те четыре месяца, которые мы провели, занимаясь сексом в машинах, подвалах, кустах, а однажды ночью даже в пластиковом туннеле над горкой на детской площадке возле начальной школы. Первая любовь — не картошка. Как ни старайся, все равно не забудешь.
— Что в магазине? — спрашиваю я у Пола. — Идут дела?
Он смотрит на меня, раздумывая, о чем я, собственно, спрашиваю.
— Да все по-старому, все по-старому.
— Планируешь расширяться? Открываешь новые точки?
— Нет. Какие планы? Сейчас кризис. Ты что, газет не читаешь?
— Просто спросил.
— Хотя тебя сейчас волнует не кризис, у тебя другие проблемы, верно, Джад?
— Ты о чем, Пол?
Ага, мы уже говорим имена в конце фразы. Так кружат по рингу боксеры, выжидая момента, чтобы нанести первый удар.
— Пол, — упреждающе произносит мать.
— Все хорошо, мама, — откликаюсь я. — Просто мы давно не виделись. Наверстываем.
— Ладно, проехали, — говорит Пол.
— Ну нет, почему же? Ведь ты имел в виду, что я безработный, а моя жена трахается направо и налево, поэтому мне есть о чем поволноваться, кроме экономического положения в стране. Так?
— Ну, может, и так…
— Я удивился, что ты даже не позвонил, когда это случилось, — продолжил я. — На съемную квартиру я съехал почти два месяца назад. И никто из вас за это время не позвонил. Впрочем, для тебя это норма. Уж если ты не позвонил, когда мы потеряли ребенка, чему удивляться теперь? Крушение моего брака — дело более тривиальное. Но я почему-то думал, что ты позвонишь, Пол, хотя бы для того, чтобы посыпать соль мне на раны. Так что папа умер как раз вовремя. Когда бы ты еще получил возможность сделать это очно?
— Я совершенно не злорадствую. Джен мне всегда нравилась.
— Спасибо, Пол. — Я выжидаю паузу для пущего эффекта и добавляю: — А мне всегда нравилась Элис.
— Что ты сказал? — Пол сжимает зубы, кулаки и ягодицы.
— Что именно ты не расслышал?
— Все девчонки любят Элис, — громко, подвирая мелодию, поет Филипп из репертуара Элтона Джона.
— Ну, Филипп, — перебивает его Венди. — Расскажи, как тебе удалось совратить своего врача.
— Попозже расскажу, — обещает Филипп. — Сейчас лучше братанов послушаю. Интересно!
— Нечего тут слушать! — провозглашает мама.
Я смотрю на часы «Ролекс», купленные Джен на мои деньги. Все никак не соберусь выставить их на продажу в интернете. Мы сидим шиву уже целых полчаса. И тут очень кстати звонят в дверь. А то еще неизвестно, чем бы закончилась наша с Полом перестрелка — она ведь только набирала силу. Однако комната постепенно наполняется грустными соседями, пришедшими выразить нам соболезнования, и я начинаю понимать, что гости во время шивы приходят именно для того, чтобы скорбящие не разорвали друг друга в клочья.
Когда мы были маленькими, папа брал нас с Полом на рыбалку, на берег довольно широкой, но неглубокой речушки. Располагались в тени под эстакадой, у развилки каких-то второстепенных дорог, в нескольких километрах к северу от нашего городка. Мы с Полом тут же принимались бродить по мелководью, подбирая со дна обточенные водой камешки, а отец привязывал их к лескам вместо грузила. Потом он доставал перочинный ножик и располовинивал несколько червяков — из них получалась наживка, которую мы насаживали на крючки, и отец учил нас забрасывать удочки подальше от берега. Забрасывать нам с Полом нравилось больше, чем ждать, когда клюнет. Мы то и дело сматывали удочки и, заведя их подальше за спину, делали могучий взмах, закидывали и проверяли: чей поплавок оказался дальше. Как-то раз, после часа подобных упражнений, Пол в очередной раз завел удочку назад, случайно зацепил крючком мое ухо — и дернул. Меня обожгла острая, горячая боль — это разорвался ушной хрящ, а следом я получил удар по черепушке — туда попало грузило. Миг — и я уже лежал на земле, глядя в безоблачное небо. Чтобы остановить кровь, отцу пришлось разорвать свою футболку. Пол стоял надо мной и просил прощения, но так сердито, словно виноват был я, а не он. К волоскам, что кучерявились у отца на груди, прилипли сгустки моей крови. Не помню, чтобы мне было очень больно, но помню, как я поразился, когда мятая отцовская футболка мгновенно превратилась из белой в красную. В итоге мое ухо пострадало не так уж сильно, но след от грузила остался на черепе навсегда — вроде вмятинки, которую оставляешь пальцем на незасохшей глине.
Глава 8
Мы сидим тут уже несколько часов, а поток людей не иссякает, словно у крыльца каждые полчаса высаживают по целому автобусу. Вся Слепая Кишка превратилась в стоянку машин, а у меня сводит челюсти от вежливой улыбки, которую я должен поминутно надевать, поскольку мама то и дело представляет меня новым гостям. Задница тоже затекла — под дешевым виниловым покрытием стульчиков для шивы скомкалась такая же дешевая набивка. Гости рассаживаются, и ножки шатких белых пластиковых стульев, расставленных по комнате, чуть разъезжаются под их весом и царапают дубовый пол, а потом снова царапают, поскольку гости в порядке очереди, прямо на стульях, придвигаются все ближе и ближе к камину и к нам, родственникам усопшего: чтобы задать те же вопросы, произнести те же банальности и, деланно вздохнув, сжать мамин локоть. Пожалуй, ради ускорения процесса стоило бы подготовить раздаточные материалы и прямо у двери выдавать краткий бюллетень отцовской болезни с более детальным описанием его последних дней, может, даже приложить ксерокопию его УЗИ и цветную распечатку томограммы. Ведь всех родительских ровесников интересуют именно эти подробности. А внизу дать сноску, ясную и недвусмысленную: нас совершенно не интересует, где вас застала весть о смерти нашего отца/мужа, поскольку он не Джон Кеннеди и не Курт Кобейн.
Пол обходится короткими репликами или, чаще, серией похмыкиваний, которые, согласно тесту психолога Роршаха, люди склонны принять за ответы. Венди, ничтоже сумняшеся, принимает звонки от подружек из Калифорнии, а Филипп вешает лапшу на уши всем подряд: проверяет, надолго ли хватит долготерпения окружающих.
Дама средних лет: Господи, Филипп! В последний раз я видела тебя еще школьником. Чем ты теперь занимаешься?
Филипп: Нынче я в Белом доме — мозговой центр по Ближнему Востоку,
или: Я — гендиректор частного фонда по использованию биотехнологий,
или: Координирую проект ЮНИСЕФ «Свежую воду Африке».
или: Работаю каскадером на новом проекте Спилберга.
Разумеется, прибывают не только гости, но и пища. Евреи не посылают друг другу цветов, они посылают еду, причем в больших количествах. Вскоре весь дом заставлен блюдами с фруктами, мясными нарезками, разнообразными печеньицами, запеканками, бубликами, салатами и копченым лососем. Линда, легко вошедшая в роль помощницы по хозяйству — свою прежнюю, привычную роль при клане Фоксманов, — сортирует продукты и те, что не портятся, выставляет на обеденный стол, где уже стоит огромный металлический кофейник. Все это напоминает фуршет. Гости входят, присаживаются, постепенно придвигаются к нам, соболезнуют, а потом плавно перемещаются в столовую — поесть и выпить кофе. Короче, поминки как поминки. Только длиться они будут семь дней, и выпивки нет. Интересно, во что превратится это сборище, если кто-нибудь вздумает сорвать пластиковый замок на баре и достанет виски?
Гости в основном пожилые. Это друзья и соседи моих родителей. Приходят на людей посмотреть и себя показать, а заодно — выразить сочувствие и поразмыслить над неизбежностью собственной кончины, которая, попыхивая точно каша, подспудно вызревает в сердцах, печенках, легких, у одних — в раковых клетках, у других — в кровяных шариках… Смерть пробила в их рядах новую брешь, и они преданно утешают мою мать. Но мне на этих бледных лицах видится радость: их-то на этот раз миновала чаша сия. Они вырастили детей, выплатили кредиты и теперь наслаждаются золотой осенью. Наступило время хоронить друг друга и пить кофе на поминках, роняя крошки от песочных пирожных и подсчитывая потери своего неуклонно редеющего племени.
Подразумевается, что мне до этого этапа жизни еще далеко, что я не так давно обзавелся семьей и только начинаю жить, но — произошел сбой в программе, роковое отклонение от курса, и меня снедает безмерная печаль, а семидневная шива по умершему отцу ее только усиливает. Внезапно я ловлю себя на том, что вижу на всех лицах следы увядания. Возрастные крапины на руках и лысинах, тройные подбородки, дряблые шеи, бульдожьи щеки, набрякшие веки, въевшиеся морщины, сутулые плечи, кривые ноги, обвислые груди у мужчин и женщин, без разбора. Когда же все это приходит? Да исподволь. Поэтому не убережешься и не поборешься. Просто однажды утром проснешься и увидишь, что состарился. Во сне.
Сколько же планов было у меня, когда я только поступил в колледж! Но на втором курсе я влюбился в Джен, и ненасытная половая горячка стерла все мои высокие мечты и амбиции. Я настолько поразился, что такая девушка хочет быть с таким парнем, как я, что решил, что будущее гарантировано. Главное — отчаянно стараться сделать ее счастливой. Нырнув в сладкий бело-розовый бермудский треугольник ее раскинутых ног, я пропал там без следа. Перебиваясь с тройки на четверку, дотянул до диплома, и тогда же она согласилась выйти за меня замуж. Помню, какое облегчение я тогда испытал — точно марафон осилил.
И вот теперь у меня нет жены, нет ребенка, нет работы, нет дома, нет вообще никаких свидетельств хотя бы минимального успеха в этой жизни. Может, я и не стар, но уже не в том возрасте, когда легко начинать жизнь сначала. На фотографиях я себя не узнаю: двойной подбородок, намек на брюшко, да и волосы, шевелюра, на которую я всегда мог положиться, начинает предательски подводить — залысины становятся все глубже, а волосы отступают от лба, и я каждый день нащупываю их все ближе и ближе к макушке. Ничего не иметь в двадцать лет даже круто, и все еще впереди, но ничего не иметь, когда ты уже на полпути к семидесяти, когда твои мышцы дряхлеют, а пузо растет, это совсем, совсем другое дело. Это как выехать с восточного побережья на западное без денег и с пустым баком. Когда-нибудь я пойму, что именно сейчас и начался тот медленный процесс, который однажды закончится моей одинокой смертью в пустой квартире, возле телевизора, под глухое поскуливание коротконогой косолапой собачонки. Всякому, кто войдет туда, воздух покажется затхлым, но поскольку вонь буду источать я сам, я ее даже не почувствую. Зато сейчас я чувствую, как это несчастное будущее стремительно, неуклонно несется прямо на меня, топоча копытами по прерии, точно стадо обезумевших бизонов.
Сам не понимая, что делаю, я вскакиваю с места и, лавируя меж людей и обрывков беседы, пробираюсь сквозь толпу, а взгляд мой устремлен на спасительную кухонную дверь.
— …Пол, старший. Он очень хорошо говорил…
— …три месяца на вентиляции легких… в сущности, овощ…
— …местечко на озере Виннипесоки. Мы каждый год ездим. Там так красиво. Морин привозит детей…
— …недавно расстался с женой. Вроде как изменяла…
Последняя реплика пронзает болью, как когда-то рыболовный крючок, но вот я уже у двери и оглядываться не намерен. Попав в мирную прохладу кухни, под кондиционер, я просто прислоняюсь к стене — перевести дыхание. Присев на корточки возле холодильника, Линда задумчиво, словно сигару, посасывает сырую морковку и думает, как ловчее рассовать заполонившие дом продукты.
— Привет, Джад, — говорит она приветливо. — Хочешь чего-нибудь? У нас тут есть все, что душе угодно.
— Можно молочный коктейль? Ванильный?
Она закрывает холодильник и растерянно поднимает глаза:
— А вот этого нет.
— Ну, тогда я, пожалуй, сбегаю, куплю.
Она улыбается нежно, по-матерински.
— Страсти потихоньку накаляются?
— Пик уже позади.
— Да, я слышала крики.
— Было дело… прости… И знаешь, спасибо тебе, спасибо за все, что ты делаешь, что о маме заботишься и вообще…
Сначала кажется, будто я ее напугал, потом — будто она хочет что-то сказать, но в конце концов она просто засовывает морковку обратно в рот и улыбается. Из гостиной доносится мамин смех.
— Мама не скучает, — замечаю я. — Она любит гостей.
— У нее было много времени подготовиться к его уходу.
— Да уж.
С минуту мы просто молчим, исчерпав тему.
— Хорри неплохо выглядит, — говорю я и тут же готов взять свои слова назад.
У Линды грустная, изможденная и одновременно прекрасная улыбка — улыбка человека, давно привыкшего к страданию.
— Я стараюсь не думать о том, как могла бы сложиться его жизнь. Стараюсь просто радоваться тому, что имею.
— Верно. А вот мне радоваться вообще нечему. Потому что ничего не имею.
Она подходит и кладет руки мне на плечи. Я целую вечность не ощущал на себе ничьих рук, не смотрел ни в чьи глаза. Я вижу, как в глазах Линды отражаются мои слезы.
— У тебя все наладится, Джад. Сейчас тебе худо, знаю, но острая боль скоро уймется.
— Откуда ты знаешь? — Внезапно я понимаю, что сейчас разрыдаюсь вслух. Линда меняла мне подгузники, кормила, заботилась обо мне не меньше и не хуже родной матери, а я ей за всю жизнь даже спасибо не сказал. Я же должен посылать ей открытки на День матери, должен звонить, справляться о ее здоровье. Как же так? Почему за все эти годы я о ней вообще не вспоминал? На меня накатывает волна раскаяния. Каким никчемным человеком я вырос…
— Ты — романтик, Джад. Ты всегда был таким. Но ты обязательно найдешь другую любовь, или она сама тебя найдет.
— А твоя другая любовь тебя нашла?
Лицо ее меняется, она опускает руки.
— Прости, — говорю я. — Глупость брякнул.
Она кивает в знак прощения.
— Джад, ты напрасно думаешь, что суть каждого человека написана на нем крупными буквами. Это заблуждение.
— Я знаю.
— Ничего ты не знаешь, — ласково, но твердо говорит она. — Сейчас не время и не место вдаваться в детали, но поверь: последние тридцать лет я не провела в одиночестве.
— Ну конечно, Линда. Прости. Я идиот.
— Разумеется, идиот, но на этой неделе тебе все сойдет с рук. — Она дружески подмигивает. — Только не злоупотребляй доверием.
Линда выглядывает в окно, на забитую машинами улицу:
— Слушай, твою машину запер «хаммер» Джерри Лэма. И зачем доктору-пенсионеру, который не выезжает за пределы Элмсбрука, этот танк? Просто загадка века. Неужели у него такой маленький член? — Сунув руку в карман фартука, она извлекает связку ключей. — Вон там, видишь, стоит моя синяя «камри». Если ты нигде не задержишься, на обратном пути успеешь забрать Хорри из магазина. Я бы не хотела, чтобы он шел домой один в такую поздноту.
В машине у Линды пахнет дрожжами и лавандой. Тут удручающе чисто и пусто, только золотой брелок свисает с зеркала над лобовым стеклом. Вообще в последнее время любая пустота наводит на меня грусть и бередит нервы. Дождь шел полдня, в воздухе висит морось, переднее стекло запотело и размывает свет фар на встречной полосе. Я еду по центральной улице и останавливаюсь у счетчика на стоянке — прямо около «Спорттоваров Фоксмана», флагмана папиной сети.
Вообще-то отец был электриком, но в один прекрасный день — а именно когда родился Пол, — он решил, что обязан что-то оставить в наследство детям. Заняв денег у тестя, он выкупил обанкротившийся магазинчик спорттоваров, а потом постепенно расширил свой бизнес до шести магазинов — вверх по Гудзону аж до штата Коннектикут. Он твердо верил в пару нехитрых правил: покупателей надо обслуживать добросовестно, а продавцы должны все знать про товары, которыми торгуют. Он гордо отказывал крупным сетевым магнатам, которые регулярно предлагали выкупить его с потрохами. По субботам он объезжал остальные пять магазинов, дотошно проверяя их отчетность на предмет огрехов и проколов. В детстве, когда мы с Полом даже не ходили в школу, он будил нас на рассвете и запихивал в машину: мы были обязаны ехать с ним в Доббз Ферри, Таритаун, Валгаллу, Стэмфорд и Фэйрфилд. Я сидел на заднем сиденье его подержанного «кадиллака», глаза еще слипались, но я смотрел сквозь затемненное стекло, как над шоссе встает солнце. В машине пахло трубочным табаком, а из магнитолы неслись песни Саймона и Гарфанкеля, Нила Даймонда, Джексона Брауна и Пегги Ли. И поныне, стоит мне услышать одну из этих песен в лифте или в приемной у врача, я тут же мысленно переношусь в ту машину, в полудремоту, меня начинает слегка укачивать и подкидывать на залитых гудроном трещинах в асфальте, и я слышу папин скрипучий голос — он подпевает любимым певцам.
Раз в квартал с нами ездил Барни Крониш, отцовский бухгалтер. Пол такие поездки терпеть не мог. Во-первых, ему приходилось уступать Барни переднее сиденье, а во-вторых, мы часто останавливались: то Барни хочет кофе попить, то отлить выпитое. Кроме того, старик громко пукал и ничуть этого не стеснялся. Чтобы отделаться от тошнотворного запаха переваренной капусты, мы с Полом открывали окна и высовывали головы наружу, точно собачки. Иногда папа, нажав у себя впереди кнопочку, запирал окна на замок и притворялся, что ничего не видит и не слышит. Это, по его меркам, считалось шуткой.
Когда отец работал, наше присутствие его даже радовало. Зато отдыхать с нами он совершенно не умел. До поры, пока мы были малы, он с нами замечательно управлялся: таскал на своих могучих руках, подкидывал на коленках — «Едет Джадик шагом, шагом… рысью, галопом…». Едва научившись ходить, мы цеплялись за его толстые пальцы-сардельки и шествовали по кварталу. И спать он нас укладывал, частенько засыпая вместе с нами прямо на кровати, а мама потом его выуживала из комнаты. Но повзросление детей застало его врасплох. Он не понимал нашего пристрастия к телевизору и играм на приставке, не терпел лени, беспорядка в комнатах, незаправленных постелей, волос до плеч и диких картинок на футболках. Чем старше мы становились, тем больше он от нас отдалялся, погружаясь в работу, субботние газеты и шнапс. Иногда я думаю, что рождение Филиппа было маминой последней отчаянной попыткой заново обрести мужа.
Я заранее представляю темно-зеленые маркизы над окнами магазина: с водяными потеками и, как обычно, засиженные птицами. Но оказалось, что их недавно вымыли, а экспозицию в витринах сменили в преддверии осенне-зимнего сезона: коньки, клюшки, лыжи, сноуборды. На стоящем в углу манекене — вратарский шлем, а зловещая флуоресцентная подсветка делает его похожим на Джейсона, серийного убийцу из фильма «Пятница, тринадцатое». Наш Элмсбрук — самое место для серийного убийцы. Не поймите меня превратно, но ведь чем благостнее, тем страшнее! Джейсон и Фредди являются убивать озабоченных девочек-подростков именно в такие живописные городки с чистыми тротуарами и часами на башнях. На центральной улице — широкий, выложенный брусчаткой променад, посередине фонтан, вдоль променада — скамеечки и магазинчики с маркизами под цвет вывесок. Все ухожено, сплошная идиллия.
Возможно, как раз из-за мыслей о серийных убийцах меня аж подкидывает, когда по водительскому стеклу вдруг забарабанил Хорри. А может, просто видок у него страшноватый: длинные волосы убраны с лица под белую повязку фирмы «Найк», бирка, которую он забыл снять, болтается прямо на лбу, а в зубах у Хорри — сигарета с длинным необломившимся столбиком пепла.
— Ты меня напугал, — говорю я.
— Не тебя одного. Я на всех страх навожу.
Я смеюсь. Не то чтобы над удачной шуткой, а из вежливости. Хорри ужасно жалко, но обращаться с ним надо как с любым другим человеком, потому что мозговая травма не сделала его полным идиотом, и он всегда чувствует, когда его жалеют, как собака всегда чувствует, когда ее боятся.
— А почему ты здесь? Ты же должен шубу сидеть.
— Шиву.
— Шива — это такое божество индийское, с шестью руками. Или с четырьмя руками и двумя ногами… не знаю. Короче, у него шесть конечностей.
— А еще шива на иврите — семь.
— Шесть рук, семь дней… — Он на мгновение смолкает, размышляя над потенциальными теологическими выводами из этих цифр, но не приходит ни к каким выводам, кроме одного: пора сделать еще одну затяжку. — Ну, так ты разве не должен там сидеть?
— Должен, — подтверждаю я. — Как в магазине? Дела идут?
— Стоят. — Он пожимает плечами. — Зайдешь?
— Да нет. Я просто ехал мимо и остановился. Твоя мама сказала, что тебя хорошо бы домой подкинуть.
— Она тебя прислала?
— Она знала, что я поеду мимо.
Он качает головой и недовольно сдвигает брови:
— Надо мне жить отдельно. Как раньше.
— Ну и? Сними себе что-нибудь.
Он стучит пальцем себе по виску:
— Травма мозга. Я не со всем справляюсь.
— С чем, например?
— Например, я никогда не помню, с чем именно я не справляюсь. — Он распахивает пассажирскую дверцу и плюхается на сиденье. — А курить у матери в машине нельзя, — говорит он и выпускает колечко дыма.
— Я и не курю. Это ты куришь.
— А списать могу на тебя. — Он стряхивает пепел на резиновый коврик. — Ты ведь кадрил когда-то Пенелопу Мор?
— Пенни Мор? Да. Мы очень дружили. Как она? Где?
— Преподает фигурное катание. На крытом катке, где мы в хоккей играли.
— У Келтона?
— Ага. Я туда и теперь хожу иногда.
— Ты ведь, помню, неплохо в хоккей играл.
— Нет, это ты неплохо в хоккей играл. А я был великим хоккеистом.
— Вот уж не думал, что Пенни останется в этих краях.
— Почему? Потому что ей не ушибли голову?
— Нет! Хорри! Тьфу ты, господи! Я же совсем не то имел в виду.
Но он широко улыбается сквозь завесу дыма, сгустившуюся в салоне машины.
— Джад, расслабься. Я просто стебаюсь.
— Чтоб тебя!
— Так меня уже. И изрядно. Так-то, брат мой по второй матери.
— Спасибо, горжусь. Так почему ты вспомнил о Пенни Мор?
— Она в магазине.
— Сейчас?
— Ну да. Она в будни, по вечерам, приходит сводить баланс. Зайди, поздоровайся.
— Пенни Мор, — повторяю я. И в памяти сразу всплывает ее жестковатая улыбка, вкус ее поцелуя. А ведь мы с ней когда-то заключили договор. Интересно, помнит она или забыла?
— Она будет рада тебя видеть. Наверняка.
— Может, как-нибудь в другой раз. — Я завожу мотор.
— Я что-то не так сказал?
Я качаю головой.
— Просто… тяжко встречаться с людьми из прошлого, когда в настоящем все так хреново.
Хорри кивает с видом мудреца.
— Тогда мы с тобой — два сапога пара. — Пошарив по карманам и вытряхнув на сиденье кучу мелочи, он в конце концов извлекает криво свернутый косячок и прикуривает от еще тлеющей сигареты. Затягивается поглубже и, задержав дыхание, передает мне самокрутку.
— Нет, я не по этому делу, — говорю я.
Хорри пожимает плечами и, приоткрыв рот, медленно выпускает танцующий дым.
— Мне от головы помогает, — говорит он. — Иногда я чувствую, что вот-вот будет приступ. Покурю — сразу отпускает.
— А мать запах не почует?
— А что она со мной сделает? Убьет, что ли?
В его голосе внезапно слышится несвойственная Хорри агрессивность, и я чувствую, что просьба Линды заехать за сыном — очередной эпизод в их долгой позиционной войне.
— Хорри, с тобой все в порядке?
— Все классно.
Он снова хочет передать мне косяк.
— Я за рулем, — отвечаю я.
Он пожимает плечами и, сделав еще одну затяжку, говорит:
— Мне больше достанется.
Глава 9
Оказалось, никто и не думает расходиться. Шива в полном разгаре.
— Джад! — окликает мама, пока я стараюсь потихоньку прокрасться на свое место. И все взгляды устремляются на меня. — Где ты был?
— Воздухом дышал, — бормочу я и присаживаюсь на низенький стул для шивы.
— Ты помнишь Бетти Элли? — спрашивает мать, указывая на маленькую, похожую на птичку женщину, сидящую прямо передо мной. Стульчики, предназначенные для родных усопшего, гораздо ниже тех, на которых сидят гости, поэтому мой взгляд постоянно упирается в их коленки, а если смотреть им в лицо, видны волосинки в ноздрях.
— Конечно помню, — отвечаю я. — Здравствуйте, миссис Элли.
— Джад! Мое самое глубокое сочувствие!
— Спасибо.
— Ханна, дочь Бетти, год назад развелась, — радостно сообщает моя мать, словно эта новость должна меня как-то особенно порадовать.
— Печально, — откликаюсь я.
Бетти кивает.
— Он оказался любителем порносайтов, — поясняет она.
— Бывает, — киваю я.
— А Джаду жена изменила по-настоящему, — продолжает мать.
— Господи! Мама!
— Что такое? Тебе нечего стыдиться.
В гостиной, помимо нас, еще человек двадцать. Гости болтают — кто с моими ближайшими родственниками, кто между собой, — но в этот миг все они поворачиваются ко мне, точно болельщики на трибунах. В едином порыве. В третьем классе у меня был период, когда, выходя с урока в туалет, я в приступе паранойи представлял себе, что классная доска превращается в телеэкран и одноклассники смотрят, как я писаю. Сейчас ощущения были сходные.
— Ханна с сыном как раз гостят у Бетти, — невозмутимо продолжает мать. — Думаю, вам обоим будет полезно возобновить знакомство. Детство вспомнить.
В первом классе Ханна Элли была увековечена в школьном фольклоре: девчонки на переменках прыгали через скакалку под известную мелодию «Братец Яков, братец Яков, спишь ли ты?», но пели при этом так: «Ханна бесфамильная, Элли бесфамильная, трам-пам-пам, трам-пам-пам. Ханна — это имя, Элли — это имя. Стыд и срам, стыд и срам». Ханна из-за этой песенки жутко ревела, ее родители ходили к директору, и кончилось тем, что петь нам запретили. Как любой запрещенный текст, песенка тут же стала классикой андеграунда и преследовала Ханну, пока ее сверстники не подросли, не перестали прыгать на переменах через скакалку и не начали играть в «бутылочку». Сама Ханна осталась у меня в памяти как этакая мышка-норушка с густыми бровками и в очках.
— Ханне и своих проблем наверняка хватает, — говорю я, надеясь, что мать наконец прочтет в моих глазах, как сильно она рискует жизнью.
— Ну что ты, — живо откликается Бетти. — Она будет так рада встретиться со старым другом.
Бетти с матерью заговорщицки переглядываются, и я прямо слышу, как жужжат, проносясь туда-сюда, их безумные идеи, поскольку дамы достигли полного телепатического понимания: ее муж любил клубничку, его жена трахалась напропалую, значит, они — идеальная пара.
— Я пока не готов к новым отношениям, — говорю я. — И нескоро дозрею.
— Об отношениях никто и не думает! — восклицает мать.
— Конечно! — соглашается Бетти. — Речь всего лишь о дружеском телефонном звонке. Может, о чашке кофе.