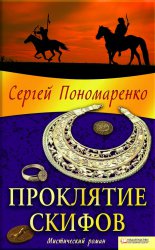Огонь (сборник) Барбюс Анри
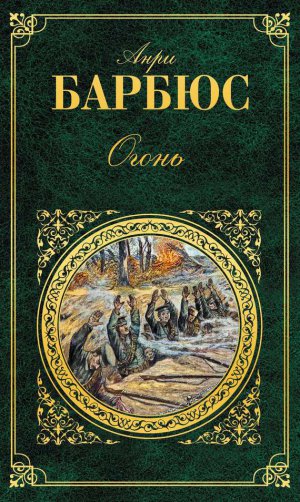
— Как бы не так, — отвечает Ламюз, — никогда я не положу флягу в карман. Это чепуха на постном масле, ни больше, ни меньше; лучше привесить ее на крючке к ремню.
— Нет, лучше привязать ее к пуговице шинели, как противогазовую маску. А то снимешь снаряжение и вместе с ним флягу, и вдруг как раз можно купить винца…
— У меня немецкая фляжка, — говорит Барк. — Она плоская; ее можно держать в боковом кармане; она отлично входит и в подсумок, если патроны выбросить или пересыпать в сумку.
— Немецкая фляга никуда не годится, — возражает Пепен. — Она не держится стоймя. Только занимает место.
— Погоди, морда, — говорит Тирет, не лишенный сообразительности, если мы пойдем в атаку, как сказал унтер, ты, может быть, найдешь немецкую флягу, вот будет здорово!
— Унтер, правда, это говорил, — замечает Эдор, — но он не знает.
— В немецкой фляге больше четверти, — заявляет Кокон, — а точная вместимость четверти отмечается у них чертой пониже горлышка. Всегда выгодно иметь флягу побольше: ведь если твоя фляга вмещает ровно четверть кофе, или вина, или святой водицы, или чего другого, ее надо наполнять до краев, а это никогда не делается при раздаче, а если и делается, все равно ты сам прольешь.
— Еще бы, конечно, не делается, — говорит Паради, возмущенный воспоминанием об этом недоливании. — Капрал при раздаче сунет во флягу палец да еще похлопает раза два по дну. Словом, тебя надувают на одну треть и ты остаешься с носом.
— Правильно, — говорит Барк. — Но слишком большая фляга — это тоже невыгодно: раздатчик тебе не доверяет, боится налить лишку и потому не доливает, и ты оказываешься в убытке.
Между тем Вольпат сует обратно в карманы один за другим выставленные им предметы. Когда доходит очередь до кошелька, Вольпат смотрит на него с жалостью.
— Совсем отощал, бедняга!
Он считает:
— Три франка! Эх, брат, надо тебе опять потолстеть, а то на обратном пути у меня не будет ни шиша!
— Не у тебя одного пусто в кошельке!
— Солдат тратит больше, чем зарабатывает. Это уж так. Спрашивается, что было б с нами, если б мы жили только на паек.
Паради отвечает с корнелевской простотой:
— Подохли бы!
— А у меня в кармане всегда вот что.
И Пепен весело показывает серебряный столовый прибор.
— Он принадлежал обезьяне, у которой мы жили в Гран-Розуа.
— Может быть, он ей принадлежит еще и теперь?
Пепен отвечает неопределенным жестом, выражающим одновременно и гордость и скромность. Вдруг он смелеет, улыбается и говорит:
— Я знаю эту старую каргу. Наверно, теперь она до конца жизни будет искать по всем углам свой прибор.
— А мне, — говорит Вольпат, — удалось стибрить только пару ножниц. Другим везет. А мне — нет. Зато уж я берегу эти ножницы, хотя, можно сказать, они мне ни к чему.
— Я стянул несколько вещиц, да что толку? Пустяковые. Саперы всегда успевали спереть до меня.
— Что ни делай, всегда кто-нибудь пролезет вперед. Ну, да ничего.
— Эй вы, кому дать йоду? — кричит санитар Сакрон.
— Я берегу письма жены, — говорит Блер.
— Я отсылаю их ей обратно.
— А я берегу. Вот они.
Эдор вытаскивает связку потертых, лоснящихся бумаг; их чернота стыдливо скрывается в полумраке.
— Я их берегу. Иногда перечитываю. Когда холодно и невмоготу, я их перечитываю. Это не согревает, но все-таки кажется, что становится теплее…
В этих словах таится глубокий смысл: многие поднимают голову и говорят:
— Да, да. Правильно!
Все говорят бессвязно; в глубине сарая копошатся огромные тени, в углах сгущается мрак и мерцают редкие свечи.
Люди странно мелькают, ходят взад и вперед, нагибаются, ложатся на пол; эти деловитые переселенцы говорят сами с собой или окликают друг друга и натыкаются на кучи наваленных вещей. Они показывают свои богатства:
— На, погляди!
— Ну и штука! — завистливо отвечает другой.
Каждый хочет иметь все то, чего у него нет. У нас во взводе есть баснословные сокровища, предметы всеобщей зависти: например, двухлитровый бидон Барка, раздутый умелым холостым выстрелом и вмещающий теперь два с половиной литра; нож Бертрана — знаменитый нож с роговым черенком.
Среди суеты и шума каждый искоса посматривает на эти музейные экспонаты, потом опять не отрываясь глядит только на собственный «товар» и старается привести его в порядок.
Действительно, жалкий товар! Все, сделанное для солдатского обихода, уродливо, скверного качества, начиная от башмаков с картонными подметками до плохо скроенного, плохо сшитого платья из гнилого, плохо окрашенного сукна; оно просвечивает, как промокательная бумага, выцветает на солнце за один день, промокает от дождя за один час; ремни перетираются и рвутся, как стружки, не выдерживая тяжести ружья. Фланелевое белье тоньше бумажного, а табак похож на солому.
Мартро стоит рядом со мной. Он показывает мне на товарищей:
— Погляди, как эти бедняги рассматривают свой скарб: ни дать ни взять, матери загляделись на своих ребят. Послушай, как они называют все эти штуковины! Вот этот говорит: «Мой нож!» Будто отец говорит: «Мой Леон», или «Мой Шарль», или «Мой Адольф». И знаешь, они никак не могут брать с собой меньше клади. Не то что они этого не хотят (ведь от нашего ремесла сил не прибавляется, правда?). А не могут. Они слишком любят свой скарб.
Поклажа!.. Она чудовищна, и солдаты знают, что от каждого лишнего предмета, от каждой вещи она еще мучительней.
Ведь, кроме всего того, что суешь в карманы и сумки, еще взваливаешь себе тяжелый груз на спину.
Ранец — это сундук и даже шкаф. И старый солдат чудесно умеет его набивать, искусно укладывая вещи и хозяйственные запасы. Кроме положенного по уставу обязательного груза (две коробки говяжьих консервов, дюжина сухарей, две плитки кофе, два пакета сгущенного супа, мешочек сахару, смена белья и запасные башмаки), мы ухитряемся втиснуть туда еще несколько коробок консервов, табак, шоколад, свечи, плетеные туфли, даже мыло, спиртовку, сухой спирт и вязаные вещи. Да еще одеяло, одеяльце для ног, полотнище палатки, мелкие инструменты, котелок и лагерные принадлежности; вот поклажа и растет, увеличивается, разбухает, становится огромной и тяжелой. Мой сосед прав: солдат отмахает десять километров по ходам сообщения, является на свой пост и каждый раз дает себе обещание избавиться от уймы лишних вещей, освободиться от этого ярма. Но каждый раз, готовясь двинуться дальше, он опять наваливает на плечи ту же изнурительную, чуть не сверхчеловеческую ношу и никогда с ней не расстается, хоть и всегда ее проклинает.
— Бывают ловкачи, они умеют устраиваться, — говорит Ламюз, — они ухитряются положить кое-что в ротную повозку или в санитарный фургон. Я знаю одного парня: у него две новых рубахи и одна пара кальсон в ящике у унтера, но, понимаешь, ведь в роте двести пятьдесят человек, и этот фокус известен, и мало кто может им воспользоваться, — только унтеры: чем больше у них нашивок, тем ловчей они прячут свой скарб… Да еще майор иногда осматривает фургон и, если найдет твое барахло: в какой-нибудь колымаге, где не полагается, выбросит его прямо на дорогу: «К черту!» — а то еще выругает тебя и посадит под арест.
— В начале войны было легко. Некоторые, я сам видел, везли свои сумки и даже ранец в детской колясочке.
— Эх! Хорошее было времечко! А теперь все переменилось.
Вольпат остается глух ко всем этим речам; закутавшись в одеяло, как в шаль, похожий на старую ведьму, он вертится вокруг какого-то предмета, лежащего на земле.
— Не знаю, — говорит он, не обращаясь ни к кому в отдельности, — взять этот поганый бидон или нет. Он у нас единственный во взводе; я всегда таскал его с собой. Так-то так, но он дырявый, течет, что твое сито.
Он никак не может решиться; это настоящая сцена расставания.
Барк поглядывает на него со стороны и, посмеиваясь, бормочет: «Старый хрыч! Полоумный!» Но вдруг он умолкает.
— В конце концов на его месте всякий был бы таким же болваном!
Вольпат откладывает решение:
— Посмотрю завтра утром, когда уложу ранец.
Солдаты осматривают и набивают карманы; потом доходит очередь до сумок и подсумков; Барк поучает нас, как втиснуть две сотни патронов в три подсумка. Пачками — невозможно. Патроны надо распаковать и положить их рядками, стоймя, один головкой вверх, другой — вниз. Так можно набить каждый подсумок до отказа и сделать себе пояс весом в шесть кило.
Ружье уже вычищено. Проверяют обмотку казенной части и затыкают дуло: эта предосторожность необходима в окопной войне.
Каждый должен легко находить свое ружье.
— Я сделал зарубки на ремне. Видишь, я вырезал край.
— А я привязал к ремню шнурок от башмака: так я узнаю его и на глаз, и на ощупь.
— А я прицепил металлическую пуговицу. Верное дело. В темноте я ее сейчас же нащупаю и узнаю: «Это мой карабин». Понимаешь, ведь бывают ребята, которым на все наплевать; пока товарищ чистит ружье, они бьют баклуши; потом, не торопясь, тихонько хватают ружье того растяпы, что почистил, и даже так обнаглеют, что скажут: «Капитан, у меня ружье чистехонько, „ол-ред“». Но со мной этот номер не пройдет. Это система «И», а от системы «И» мне блевать хочется.
И хотя все ружья одинаковы, они отличаются друг от друга, как почерки.
* * *
— Странное и чудное дело, — говорит мне Мартро, — завтра мы идем в окопы, а до сих пор нет еще ни пьянства, ни драки; сегодня вечером послушай! — до сих пор еще не было даже ссоры. А я…
— Конечно, — сейчас же спохватывается он, — двое уже дернули и обалдели… Они еще не вполне готовы, но уже клюкнули, чего там…
Это Пуатрон и Пуальпо из взвода Бруайе.
Они лежат и вполголоса беседуют. Круглый нос и зубы Пуатрона поблескивают у самой свечи; он поднял палец, и тень четко воспроизводит пояснительные движения его руки.
— Я умею разводить огонь, но не умею зажечь его опять, если он потух, — заявляет Пуатрон.
— Балда! — говорит Пуальпо. — Если ты умеешь развести огонь, значит, ты умеешь зажечь и потухший огонь: ведь если ты его зажигаешь, значит, он раньше потух, и можно сказать, ты его не разводишь, а заново зажигаешь.
— Толкун! Все это брехня! Ты мудришь. Плевать мне на все твои словечки. Я тебе говорю и повторяю: разводить огонь я мастер, а чтобы зажечь его опять, когда он потух, — нечего и думать. И все тут.
Я не слышу возражений Пуальпо.
— Да черт тебя дери! Втемяшил себе в голову. Вот упрямый вол! — хрипит Пуатрон. — Тридцать раз говорят тебе: не у-ме-ю. Ну и тупая башка!
— Потеха, да и только!.. — шепчет мне Мартро.
Да, пожалуй, он слишком поторопился, когда говорил, что нет пьяных.
В логовище, устланном пыльной соломой, царит возбуждение, вызванное прощальными возлияниями; солдаты чинят, приспособляют, собирают свое добро; одни, опустившись на колени, стучат молотком, как углекопы; другие стоят, не зная, на что решиться. Все галдят и размахивают руками. В облаке дыма мелькают лица; темные руки движутся в сумраке, как марионетки.
Из соседнего сарая, отделенного от нашего только перегородкой высотой в человеческий рост, раздаются пьяные крики. Два солдата отчаянно, бешено ссорятся. Воздух сотрясается от грубейших слов, какие только существуют на земле. Но одного из буянов — солдата другого взвода — жильцы сарая выставляют за дверь, и фонтан ругательств оставшегося солдата мало-помалу иссякает.
— Наши все держатся! — с некоторой гордостью замечает Мартро.
Это правда. Благодаря капралу Бертрану, который ненавидит пьянство, эту роковую отраву, наш взвод меньше других развращен вином и водкой.
…Там кричат, пьют, беснуются. И без конца хохочут.
Пробуешь разгадать некоторые лица, вдруг поражающие взгляд в этом зверинце теней и отражений. Но не удается. Видишь людей, но не можешь проникнуть в их тайны.
* * *
— Уже десять часов, друзья! — говорит Бертран. — Ранцы уложите завтра. Пора на боковую!
Все медленно ложатся. Но болтовня не прекращается. Когда солдата не торопят, он делает все с прохладцей. Каждый куда-то идет, возвращается, что-то несет; я вижу скользящую по стене непомерную тень Эдора; он проходит мимо свечи, придерживая кончиками пальцев два мешочка камфары.
Ламюз ворочается, стараясь улечься поудобней. Он чувствует себя плохо: как ни велика вместимость его желудка, сегодня он явно объелся.
— Не мешайте спать! Эй вы, заткните глотку! Скоты! — кричит со своей подстилки Мениль Андре.
Этот призыв на минуту успокаивает солдат, но гул голосов еще не стихает и хождение взад и вперед не прекращается.
— Правда, нас завтра погонят в окопы, — говорит Паради, — а вечером на передовые линии. Но никто об этом даже не думает. Это известно, вот и все.
Мало-помалу каждый занимает свое место. Я вытягиваюсь на соломе. Мартро свернулся рядом со мной.
Осторожно, стараясь не шуметь, входит какая-то громада. Это старший санитар, брат марист, толстый бородач в очках; он снимает шинель, чувствуется, что ему неловко показывать свои ляжки. Силуэт этого бородатого гиппопотама спешит улечься. Он отдувается, вздыхает, что-то бормочет.
Мартро кивает мне на него головой и шепчет:
— Погляди! Эти господа постоянно брешут. Спросишь его, что он делал до войны, он не скажет: «Я был учителем в церковно-приходской школе»; нет, он посмотрит на тебя из-под очков и скажет: «Я преподаватель». Когда он встает ранехонько, чтобы пойти к мессе, и замечает, что разбудил тебя, он не скажет: «Я иду к заутрене», — а соврет: «У меня живот болит. Надо пойти в нужник, ничего не поделаешь».
Немного дальше дядя Рамюр рассказывает о своих краях:
— У нас маленький поселок. Небольшой. Мой старик целый день обкуривает трубки; работает ли или отдыхает, он дымит в воздух или в пар от миски…
Я прислушиваюсь к этому рассказу: вдруг он принимает специальный, технический характер:
— Для этого он приготовляет соломку. Знаешь, что такое соломка? Берешь стебелек зеленого колоса, снимаешь кожицу. Разрезаешь надвое, потом еще надвое, и получаются стебельки разной длины, так сказать разные номера. Потом веревочкой и четырьмя стеблями соломы обматываешь чубук трубки.
На этом урок прекращается. Не нашлось ни одного охотника послушать.
Теперь горят только две свечи. Крыло тени покрывает лежащих вповалку людей.
В этом первобытном общежитии еще слышатся отдельные разговоры. До меня доносятся их обрывки.
Дядюшка Рамюр возмущается майором:
— У майора, брат, четыре галуна, а он не умеет курить. Тянет-тянет трубку и сжигает ее. У него не рот, а пасть. Дерево трескается, накаляется; глядишь, это уже не дерево, а просто уголь. Глиняные трубки прочней, но и они у него лопаются. Ну и пасть! Вот увидишь: когда-нибудь выйдет такой скандал, какого еще никогда не бывало: трубка накалится докрасна, прожарится до самого нутра и при всех взорвется в его пасти. Увидишь!
Мало-помалу в сарае воцаряется тишина, покой, мрак; сон побеждает заботы и хоронит надежды постояльцев. Эти люди улеглись, завернулись в одеяла, превратились в свертки; их ряды кажутся трубами огромного органа, звучащего разнообразными храпами.
Уже уткнувшись носом в одеяло, Мартро рассказывает мне о себе:
— Я торгую тряпками, иначе говоря, я — тряпичник, но оптовик: я скупал у мелких уличных тряпичников, а склад у меня на чердаке. Я покупал всякую рухлядь, начиная с белья и кончая жестянками из-под консервов, но больше всего — ручки от щеток, мешки и старые туфли; моя специальность — кроличьи шкурки.
А немного позже он говорит:
— Я хоть низкорослый и нескладный, а могу снести на чердак сотню кило по лестнице, да еще в деревянных башмаках. Раз мне пришлось иметь дело с темным человеком: говорили, что он торгует живым товаром, так вот…
— Черт подери, чего я не могу выносить, — вдруг восклицает Фуйяд, это упражнений и маршировки! На отдыхе нас изводят учением, у меня ломит поясницу, не могу ни спать, ни разогнуть спину.
Вдруг раздается лязг железа: это Вольпат решился взять свой бидон, хоть и бранит его за то, что он дырявый.
— Эх, когда ж кончится эта война? — стонет кто-то, засыпая.
Раздается упрямый глухой крик возмущения:
— Они хотят нас доконать!
В ответ так же глухо звучит:
— Не горюй!
…Я просыпаюсь ночью; часы бьют два; при белесом, наверно лунном, свете беспокойно ворочается силуэт Пинегаля. Вдали пропел петух. Пинегаль приподнимается на соломе и хрипло говорит:
— Да что это? Ночь, а петух орет. Пьян, что ли?
И смеется, повторяя: «Пьян, что ли?» — опять закутывается в одеяло и засыпает; в его горле что-то клокочет: смех смешивается с храпом.
Пинегаль невольно разбудил Кокона. Человек-цифра начинает размышлять вслух и говорит:
— Когда мы пошли на войну, в нашем отделении было семнадцать человек. Теперь в нем тоже семнадцать человек после пополнений. Каждый солдат износил уже четыре шинели: одну синюю, три дымчато-голубых, две пары штанов, шесть пар башмаков. Надо считать по два ружья на человека. Запас провианта выдавали нам двадцать три раза. Из семнадцати человек четырнадцать были у нас отмечены за подвиги в приказе, — из них двое по бригаде, четверо по дивизии, один по армии. Раз мы бессменно оставались в окопах шестнадцать дней. Мы стояли и жили в сорока семи разных деревнях. В нашем полку две тысячи человек, а с начала войны через него прошло двенадцать тысяч…
Вычисления Кокона прерывает странное сюсюканье. Это Влер: вставная челюсть мешает ему говорить и есть. Но он каждый вечер надевает ее на всю ночь упорно, мужественно: в фургоне ему сказали, что он привыкнет.
Я приподнимаюсь, как на поле сражения. Я еще раз оглядываю этих людей, которые прошли через много областей и много испытаний. Я смотрю на них; они брошены в бездну сна и забвения; некоторые, со своими жалкими заботами, детскими инстинктами и рабским невежеством, еще стараются ухватиться за край этой бездны.
Меня одолевает сон. Но я думаю о том, что они сделали и сделают. И в недрах убогой человеческой ночи, простертой в этом логовище, под саваном мрака, мне грезится какой-то великий свет.
XV
ЯЙЦО
Мы не знали, что делать. Хотелось есть, хотелось пить, а на этой несчастной стоянке ничего не было.
Обычно правильное снабжение на этот раз захромало; мы были лишены самого необходимого.
Исхудалые люди скрежетали зубами. На убогой площади со всех сторон торчали облезлые ворота, обнаженные скелеты домов, облысевшие телеграфные столбы.
Мы убеждались, что нет ничего.
— Хлеба нет, мяса нет, ничего нет; придется затянуть пояс.
— И сыра макаш и масла не больше, чем варенья на вертеле.
— Ничего нет, ничего! Хоть тресни, ничего не найдешь.
— Ну и поганая стоянка! Три лавчонки, и везде только сквозняки и дождь!
— Имей хоть кучу денег, а все равно, что ветер свистит у тебя в кармане: ведь торгашей-то нет!
— Будь хоть самим Ротшильдом или военным портным, здесь богатство тебе ни к чему.
— Вчера близ седьмой роты мяукал кот. Будьте уверены, они его уже зажарили.
— Да. Хотя у него были видны все ребра.
— Что и говорить, туго приходится.
— Некоторые ребята, — говорит Блер, — не зевали: как пришли, сейчас же купили несколько бидонов вина вон там, на углу.
— Эх, сукины дети! Везет же им! Теперь они смогут промочить горло!
— Надо сказать, что это не вино, а дрянь: им только полоскать фляги.
— Говорят, некоторые даже пожрали.
— Тьфу ты, пропасть! — восклицает Фуйяд.
— А я и не ломал над этим голову: у меня осталась одна сардинка, а на дне мешочка — щепотка чаю: я его пожевал с сахаром.
— Ну, этим не насытишься, даже если ты не обжора и у тебя плоская кишка.
— За два дня дали поесть только один раз — какое-то желтое месиво: блестит, как золото. Не то жареное, не то пареное! Все осталось в миске.
— Наверно, из него понаделают свечей.
— Хуже всего, что нечем зажечь трубку!
— Правда. Вот беда! У меня больше нет трута. Несколько штук было, да сплыло. Как ни выворачивай карманы — ничего! А купить — накось выкуси!
В самом деле, тяжело смотреть на солдат, которые не могут закурить трубку или папиросу: они покорно кладут их в карманы и слоняются как потерянные. К счастью, у Тирлуара есть зажигалка и в ней немного бензина. Те, кто об этом знает, вертятся вокруг него, держа в руках набитую трубку. Нет даже бумаги, которую можно было бы зажечь об этот огонь: приходится прикуривать прямо от фитиля и тратить последние капли бензина, оставшиеся в тощей, как насекомое, зажигалке.
Но мне повезло… Я вижу: Паради бродит, задрав голову, мурлычет и покусывает щепку.
— На, возьми! — говорю я.
— Коробка спичек! — восклицает он и с восхищением смотрит на нее, как на драгоценность. — Вот здорово! Спички!
Через минуту он уже закуривает трубку; его сияющее лицо багровеет от огня; все вскрикивают.
— У Паради есть спички!
К вечеру я его встречаю у какого-то разрушенного дома, на углу двух единственных улиц этой самой жалкой из всех деревень, Паради зовет меня:
— Пс-с-т!
У него странный, несколько смущенный вид.
— Послушай, — растроганно говорит он, глядя себе под ноги, — ты подарил мне коробку спичек. Так вот, я тебя отблагодарю. Держи!
Он кладет мне что-то в руку.
— Осторожней! — шепчет он. — Может разбиться.
Ослепленный белизной, великолепием его подарка, я смотрю и не верю своим глазам… Яйцо!
XVI
ИДИЛЛИЯ
— Право, — сказал Паради, шагая рядом со мной, — верь не верь, но я чертовски устал, сил больше нет. Ни один переход не осточертел мне так, как этот.
Он волочил ноги, сгибаясь всем своим крупным телом под тяжестью мешка, объем и сложные очертания этой ноши казались невероятными. Два раза он споткнулся и чуть не упал.
Паради вынослив. Но всю ночь, пока другие спали, ему пришлось носиться по траншее, исполняя обязанности связиста; не удивительно, что он устал.
Он ворчит:
— Да что они, резиновые, что ли, эти километры? Наверно, резиновые…
Через каждые три шага он резким движением подтягивал мешок и отдувался; он составлял единое целое со своими свертками и тюками; он покачивался и кряхтел, как старый, доверху нагруженный воз.
— Скоро придем, — сказал какой-то унтер.
Унтер говорил так всегда, по любому поводу. Но, несмотря на это, к вечеру мы действительно пришли в деревню, где дома, казалось, были нарисованы мелом и тушью на синеватой бумаге неба, а черный силуэт церкви со стрельчатой колокольней и тонкими островерхими башенками высился, как огромный кипарис.
Но, придя в деревню, где назначена стоянка, солдат еще не избавляется от мучений. Взводу редко удается поселиться в предназначенном для него месте: оказывается, оно уже отдано другим; возникают недоразумения и споры; их приходится разбирать на месте, и только после многих мытарств каждому взводу наконец предоставляют временное жилье.
Итак, после обычных блужданий нам отвели навес, подпертый четырьмя столбами; стенами служили ему четыре стороны света. Но крыша была хорошая; это ценное преимущество. Здесь уже стояли двуколка и плуг; мы поместились рядом. Пока приходилось топтаться и ходить взад и вперед по деревне, Паради все ворчал и бранился; а тут он бросил ранец, потом бросился сам на землю и некоторое время не двигался, жалуясь, что у него онемела спина, болят ступни и старые раны.
Но вот в доме, которому принадлежал этот сарай, прямо перед нами появился свет. В скучных сумерках солдата больше всего привлекает окно, где звездой сияет лампа.
— Зайдем-ка туда! — предложил Вольпат.
— Ну, что ты!.. — сказал Паради. Однако он приподнялся и встал. Ковыляя от усталости, он направился к засветившемуся в полумраке окну и к двери.
За ним пошел Вольпат, а за ними я. Мы постучали; нам открыл старик с трясущейся головой, с лицом помятым, как старая шляпа; мы спросили, нет ли вина для продажи.
— Нет, — ответил старик, качая лысой головой, на которой кое-где еще росли седые волоски.
— Нет ли пива, кофе? Чего-нибудь?
— Нет, друзья мои, ни-че-го. Мы не здешние… Беженцы…
— Ну, если ничего нет, пошли!
Мы повернулись, чтоб уйти. Все-таки минутку мы попользовались теплом комнаты и полюбовались светом лампы… Вольпат уже дошел до порога; его спина исчезла в потемках.
Вдруг я заметил старуху; она сидела на стуле в другом углу кухни и, видно, была очень занята какой-то работой.
Я ущипнул Паради за руку.
— Вот красавица хозяйка. Поухаживай за ней!
Паради с гордым равнодушием махнул рукой. Плевать ему на женщин: ведь уже полтора года все женщины, которых он видит, не для него. А если б даже они и были для него, все равно наплевать!
— Молодая или старая, все равно! — сказал он и зевнул.
Но все-таки от нечего делать, от нежелания уйти он подошел к этой старухе.
— Добрый вечер, бабушка! — пробормотал он, еще не кончив зевать.
— Добрый вечер, детки! — прошамкала старуха.
Вблизи мы ее разглядели. Она — сморщенная, сгорбленная, скрюченная; бледное лицо похоже на циферблат стенных часов.
А что она делала? Поместившись между стулом и краем стола, она старательно чистила ботинки. Это был тяжелый труд для ее детских рук; они двигались неуверенно; иногда она попадала щеткой мимо, а ботинки были прегрязные.
Заметив, что мы на нее смотрим, она сказала, что должна непременно в этот вечер почистить ботинки своей внучки, которая рано утром отправляется в город, где работает модисткой.
Паради нагнулся, чтобы получше рассмотреть эти ботинки. Вдруг он протянул к ним руку.
— Дайте-ка, бабушка! Я вам в два счета начищу эти башмачки.
Старуха отрицательно покачала головой и пожала плечами.
Но Паради силой отобрал у нее ботинки; слабая старуха попробовала сопротивляться, но тщетно.
Паради схватил каждой рукой по ботинку, и вот он нежно держит их, минуту созерцает и даже, кажется, сжимает.
— Ну и маленькие! — говорит он таким голосом, каким никогда не говорил с нами.
Он завладел щетками; усердно и осторожно натирает ими ботинки, не сводит глаз со своей работы и улыбается.
Очистив ботинки от грязи, он кладет ваксу на кончик двойной щетки и заботливо смазывает их.
Ботинки изящные. Видно, что это ботинки кокетливой девушки; на них блестит ряд мелких пуговиц.
— Все пуговки на месте, — шепчет мне Паради, и в его голосе слышится гордость.