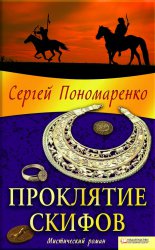Огонь (сборник) Барбюс Анри
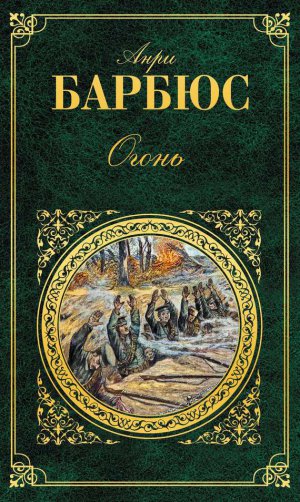
— Седьмая рота захватила пулемет! — кричат вокруг. — Он больше не будет кусаться! Скотина бешеная! Скотина!
— А теперь что делать?
— Ничего.
Мы остаемся здесь. Мы сбились в кучу. Садимся. Живые больше не задыхаются, мертвые больше не хрипят среди дыма, пламени и грохота пушек, доносившегося со всех концов света. Мы не знаем, где мы. Больше нет ни земли, ни неба: одна сплошная туча. В этой драме хаоса намечается первое затишье. Везде замедляются движения и шумы. Канонада ослабевает, и где-то уже далеко небо сотрясается, словно от кашля. Возбуждение улеглось; остается только бесконечная усталость. И опять начинается бесконечное ожидание.
* * *
Где же неприятель? Он везде оставил трупы; мы видели целые ряды пленных: вот там виднеется еще один ряд, скучный, неясный, дымный под грязным небом. Но главная часть рассеялась вдали. До нас долетает несколько снарядов, но мы над ними смеемся. Мы спасены, спокойны, одни в этой пустыне, где бесчисленные трупы соприкасаются с линией живых.
Наступает ночь. Пыль улеглась. Над длинной канавой, набитой людьми, простерся мрак. Люди сходятся, садятся, встают, идут, держась или цепляясь друг за друга. Они собираются между прикрытий, заваленных трупами, садятся на корточки.
Кое-кто положил ружье на землю и отдыхает на краю рва, устало опустив руки; вблизи видно, что лица почернели, обгорели, исполосованы грязью, что глаза воспалены. Все молчат, но начинают искать…
Мы замечаем силуэты санитаров; они ищут, нагибаются, идут дальше, по двое тащат тяжелую ношу. Справа слышатся удары кирки и лопаты.
Я брожу среди этой мрачной сутолоки.
В том месте, где снижается насыпь траншеи, разрушенная бомбардировкой, кто-то сидит. Еще не совсем стемнело. Спокойная поза этого человека, который на что-то задумчиво смотрит, удивительно скульптурна. Я нагибаюсь и узнаю: это капрал Бертран.
Он поворачивается ко мне; в сумерках я чувствую: он улыбается своей тихой улыбкой.
— Я как раз собирался пойти за тобой, — говорит он. — Мы организуем охрану траншеи, пока не получим известий о том, что сделали другие и что происходит впереди. Я поставлю тебя часовым, в паре с Паради, на сторожевой пост.
Мы смотрим на тени мертвецов и живых; на фоне серого неба трупы выделяются чернильными пятнами, сгорбленные, скрюченные в разных позах вдоль всего разрушенного бруствера. Странно видеть эти таинственные движения, в которых участвуют неподвижные мертвецы, среди полей, умиротворенных смертью, где уже два года гремят сражения и целые солдатские города бродят и стынут на огромных и бездонных кладбищах.
В нескольких шагах от нас проходят две тени; они беседуют вполголоса:
— Ну, я, конечно, не стал его слушать и так всадил ему в брюхо штык, что еле вытащил.
— Их было четверо в этой норе. Я крикнул, чтоб они вышли: они вылезали один за другим, я их тут же приканчивал. Кровь текла у меня по рукам до самого локтя. Даже рукава слиплись.
— Эх, — продолжал первый, — когда мы об этом будем потом рассказывать дома, собравшись у очага или вокруг свечи (если только вернемся), никто этому не поверит! Вот беда, правда?
— Ну, на это мне наплевать, только бы вернуться! — отвечает другой. Скорей бы конец!
Бертран обычно говорит мало и никогда не говорит о самом себе, однако теперь он вспоминает:
— Мне пришлось иметь дело с тремя сразу. Я колол штыком как сумасшедший. Да, все мы озверели, когда ввалились сюда!
Сдерживая волнение, он повышает голос и вдруг восклицает, как пророк:
— Будущее! Какими глазами потомство будет смотреть на наши подвиги, раз мы сами не знаем, сравнивать ли их с подвигами героев Плутарха и Корнеля или с подвигами апашей! И все-таки… посмотри! Есть человек, который возвысился над войной; в его мужестве бессмертная красота и величие.
Я опираюсь на палку и, склонившись, слушаю, впиваю в себя звучащие в тишине вечера слова этого обычно молчаливого человека. Бертран звонко кричит:
— Либкнехт!
Бертран встает, скрестив руки. Его голова опускается на грудь; прекрасное лицо величественно; он похож на мраморную статую. Но он еще раз прерывает молчание и повторяет:
— Будущее! Будущее! Дело будущего — стереть это настоящее, решительно уничтожить его, стереть, как нечто гнусное и позорное. И все-таки это настоящее было необходимо, необходимо! Позор военной славе, позор армиям, позор солдатскому ремеслу: оно превращает людей то в тупые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но эта правда еще не для нас. Запомни то, о чем мы сейчас говорим! Это станет правдой, когда будет записано среди других истин, которые постигнет человек. Мы еще блуждаем далеко от этих времен.
Он особенно звучно рассмеялся и задумчиво прибавил:
— Как-то раз, чтобы приободрить их и заставить идти вперед, я им сказал, что верю в пророчества.
Я сел рядом с Бертраном. Этот солдат всегда делал больше, чем полагалось по долгу службы, и все-таки уцелел; в эту минуту он являл мне образ людей, воплощающих высокое нравственное начало, имеющих силу преодолеть все случайное и в урагане событий стать выше своей эпохи.
— Я тоже так думал всегда, — пробормотал я.
— А-а! — воскликнул Бертран.
Мы переглянулись чуть удивленно и задумались. После долгого молчания Бертран сказал:
— Ну, пора за работу! Бери ружье, пойдем!
* * *
…С нашего сторожевого поста мы видим, как на востоке разгорается зарево, бледней и печальней пожара. Оно рассекает небо под длинной черной тучей, которая простирается, как дым огромного потухшего костра, как пятно на лике мира. Это опять наступает утро.
Так холодно, что невозможно оставаться неподвижным, несмотря на усталость, сковывающую тело. Дрожишь, трясешься, лязгаешь зубами. Глаза слезятся. Мало-помалу, невыносимо медленно в небе пробивается свет. Все леденеет, все бесцветно и пусто; всюду мертвая тишина. Иней, снег под тяжестью мглы. Все бело. Паради шевелится; он — белесый призрак; мы тоже совсем белые. Я положил сумку на земляной вал, и теперь она словно завернута в бумагу. На дне ямы плавают хлопья мокрого, изъеденного, серого снега, а под ним черная вода, как в грязной лохани. Снаружи выступы, выемки, груды мертвецов покрыты белой кисеей.
В тумане показываются две сгорбленные бугорчатые громады; они темнеют, приближаются, окликают нас. Это пришла смена. У солдат красно-бурые, влажные от холода лица: скулы как глянцевые черепицы; но их шинели не обсыпаны снегом; эти люди спали под землей.
Паради вылезает из ямы. Я иду за ним по равнине; спина у него белая, как у Деда-Мороза; походка — утиная; башмаки облеплены снегом; на них белые, словно войлочные, подошвы. Сгибаясь в три погибели, мы возвращаемся в окопы; на легком белом насте, покрывающем землю, чернеют следы сменивших нас солдат.
Над траншеей кое-где, в виде больших неправильных палаток, натянут на колья брезент, расшитый белым бархатом или испещренный инеем; там и сям стоят часовые. Между ними прикорнули тени; одни кряхтят, стараются укрыться от холода, уберечь от него убогий очаг — свою грудь; другие навсегда закоченели. Навалившись грудью на бруствер, раскинув руки, чуть косо стоит мертвец. Смерть застигла его за работой; он убирал комья земли. Его лицо, обращенное к небу, покрыто ледяной корой, как проказой, веки и глаза белые, на усах застыла пена. Кругом зловоние.
Спят еще другие люди, но не такие белые: слой снега не тронут только на неодушевленных предметах и на мертвецах.
— Надо поспать.
Мы с Паради ищем уголок, нору, где бы укрыться и сомкнуть глаза.
— Не беда, если там мертвяки, — бормочет Паради. — В такой холод они продержатся и не очень будут смердеть.
Мы идем дальше, мы так устали, что наши взгляды словно волочатся по земле.
Вдруг я вижу: рядом никого нет. Где Паради? Наверно, улегся в какую-нибудь яму. Может быть, он меня звал, а я не слышал.
Навстречу мне идет Мартро.
— Ищу, где бы поспать; я стоял на часах, — говорит он.
— Я тоже. Поищем вместе.
— А что это за кавардак? — спрашивает Мартро.
Из хода сообщения, совсем близко, раздается топот ног и гул голосов.
— Полным-полно солдат… Вы кто такие?
Какой-то парень отвечает:
— Мы — пятый батальон.
Прибывшие остановились. Они в полном снаряжении. Наш собеседник садится передохнуть на выпирающий из ряда мешок и кладет на землю гранаты. Он вытирает нос рукавом.
— Зачем вы сюда пришли? Вам сказали зачем?
— Ясное дело, сказали. Мы идем в атаку. Туда, до конца.
Он кивает головой в сторону севера. Мы с любопытством разглядываем их, замечаем подробности и спрашиваем:
— Вы захватили с собой все барахло?
— Не пропадать же ему! Вот и тащим!
— Вперед! — раздается команда.
Они встают, идут дальше; у них сонные лица; глаза опухли; морщины углубились. Тут и юноши с тонкой шеей, с тусклым взглядом, и старики, и люди среднего возраста. Они идут обычным мирным шагом. То, что им предстоит совершить, кажется нам выше человеческих сил, хотя накануне мы сами уже совершили все это. Выше человеческих сил… А между тем эти солдаты идут на север.
— Смертники! — говорит Мартро.
Мы расступаемся перед ними с каким-то восхищением и ужасом.
Они прошли. Мартро качает головой и бормочет:
— Там, на другой стороне, тоже готовятся. Там люди в серых куртках. Ты думаешь, они рвутся в бой? Да ты рехнулся! Тогда зачем же они пришли? Их пригнали, знаю, но все-таки и они кое в чем виноваты, раз они здесь… знаю, знаю, но все это странно.
Проходит какой-то солдат, и Мартро вдруг говорит:
— А-а, вот идет этот, как его, верзила, знаешь? Ну и громадина! Я-то ростом не вышел, сам знаю, но этого уж слишком вытянуло вверх. Каланча! А какой всезнайка! Его уж никто не переплюнет! Спросим его, где найти землянку.
— Есть ли прикрытия? — переспрашивает великан, возвышаясь над Мартро, как тополь. — Еще бы… Сколько хочешь. — Он вытягивает руку, как семафор. — Гляди: вот «Вилла фон Гинденбург», а там «Вилла Счастье». Если будете недовольны, значит, вы очень уж привередливые господа. Правда, там на дне есть жильцы, но они не шумят, при них можно говорить громко!..
— Эх, черт! — восклицает Мартро через четверть часа после того, как мы устроились в одной из этих ям. — Здесь жильцы, о которых этот страшенный громоотвод не говорил.
Глаза Мартро слипаются и приоткрываются; он почесывает бока и руки.
— Спать хочется до черта! А уснуть не придется! Не выдержишь!
Мы начинаем зевать, вздыхать и наконец зажигаем маленький огарок; он мокрый и не хочет гореть, хотя мы прикрываем его рукой. Мы зеваем и смотрим друг на друга.
В этом немецком убежище несколько отделений. Мы прислоняемся к перегородке из плохо прилаженных досок; за ней, в погребе № 2, люди тоже не спят: сквозь щели пробивается свет и слышатся голоса.
— Это ребята из другого взвода, — говорит Мартро.
Мы бессознательно прислушиваемся.
— Когда я был в отпуску, — гудит невидимый рассказчик, — мы сначала горевали: вспоминали моего беднягу брата, он в марте пропал без вести, наверно убит, и нашего сынишку Жюльена, призыва пятнадцатого года (он был убит в октябрьском наступлении). А потом понемногу мы с женой опять почувствовали себя счастливыми. Что поделаешь? Уж больно нас забавлял наш малыш, последний, ему пять лет… Он хотел играть со мной в солдаты. Я ему смастерил ружьецо, объяснил устройство окопов, а он прыгал от радости, словно птенчик, стрелял в меня, кричал и смеялся. Молодчина мальчугашка! Ну и старался ж он! Из него выйдет отличный солдат. В нем, брат, настоящий воинский дух!
Молчание. Потом гул разговоров, и вдруг слышится слово «Наполеон», потом другой солдат или тот же самый говорит:
— Вильгельм — вонючая тварь: ведь это он захотел воевать. А Наполеон великий человек.
* * *
Мартро стоит недалеко от меня на коленях, на дне этой плохо закупоренной ямы, тускло освещенной огарком; сюда вдруг врывается ветер, здесь кишат вши; воздух, согретый дыханьем живых, насыщен трупным запахом…
Мартро смотрит на меня; он, как и я, еще помнит слова неизвестного солдата, который сказал: «Вильгельм — вонючая тварь, а Наполеон — великий человек», и восхвалял воинский дух единственного оставшегося в семье ребенка.
Мартро опускает руки, качает головой, и от слабого света на стене появляется тень этих движений, резкая карикатура на них.
— Эх, — говорит мой скромный товарищ, — все мы неплохие люди, да еще и несчастные. Но мы слишком глупы, слишком глупы!
Он опять поворачивается ко мне. У него заросшее лицо, похожее на морду пуделя, и прекрасные, как у собаки, глаза, которые удивляются, о чем-то смутно размышляют и, в чистоте своего неведения, начинают что-то постигать.
Мы выходим из прикрытия. Немного потеплело; снег растаял, и все опять покрылось грязью.
— Ветер слизал сахар, — говорит Мартро.
* * *
Мне приказано отвести Жозефа Мениля на Пилонский перевязочный пункт. Сержант Анрио выдает мне эвакуационное свидетельство для раненого.
— Если встретите по дороге Бертрана, — говорит Анрио, — скажите ему, чтоб поторапливался. Он пошел сегодня ночью на работу по службе связи; его ждут уже час; ротному не терпится; он вот-вот рассвирепеет.
Я отправляюсь вместе с Жозефом; он еще бледней обычного; как всегда, молчит и медленно тащится. Время от времени он останавливается и морщится от боли. Мы идем по ходам сообщения.
Вдруг навстречу нам идет человек. Это Вольпат. Он говорит:
— Я пойду с вами до конца спуска.
Ему нечего делать; он помахивает великолепной витой палкой и щелкает, словно кастаньетами, драгоценными ножницами, с которыми никогда не расстается.
Пушки молчат. Там, где скат скрывает нас от пуль, мы все трое вылезаем из траншеи. Льет дождь. Выйдя, мы сейчас же натыкаемся на сборище солдат. У их ног, во мгле, на бурой равнине, лежит мертвец.
Вольпат юркает в толпу и протискивается к простертому телу, вокруг которого стоят эти люди. Вдруг он оборачивается к нам и кричит:
— Это Пепен!
— А-а! — говорит Жозеф, почти теряя сознание.
Он опирается о мою руку. Мы подходим. Пепен лежит, вытянувшись во весь рост; руки судорожно сжаты; по щекам стекают струи дождя; лицо опухло и чудовищно посерело.
Здесь стоит солдат с киркой в руках; он вспотел; у него черноватые морщинистые щеки; он рассказывает о смерти Пепена:
— Он вошел в прикрытие, где спрятались боши. А мы этого не знали и стали прокуривать нору, чтоб очистить ее от немцев; мы проделали эту штуку и нашли беднягу мертвым; он вытянулся, как кошачья кишка, среди этой немчуры, которой он успел пустить кровь. Молодчина! Хорошо поработал! Могу это подтвердить: ведь я мясник из предместья Парижа.
— Одним парнем меньше в нашем взводе! — говорит Вольпат.
Мы идем дальше. Теперь мы — в верхней части оврага, там, где начинается плоскогорье; мы пробежали его во время атаки вчера вечером, а сегодня уже не узнаем.
Равнина казалась мне совсем плоской, а на самом деле она покатая. Это невиданная живодерня. Она кишит трупами, словно кладбище, где разрыты могилы.
Здесь бродят солдаты; они разыскивают тех, кто был убит накануне и ночью, ворошат останки, опознают их по какой-нибудь примете, а не по лицу. Один солдат, стоя на коленях, берет из рук мертвеца изодранную, стершуюся фотографию — убитый портрет.
К небу от снарядов поднимаются кольца черного дыма; они выделяются вдали, на горизонте; небо усеяно черными точками: это реют стаи воронов.
Внизу, среди множества неподвижных тел, бросаются в глаза зуавы, стрелки и солдаты Иностранного легиона, убитые во время майского наступления; их легко узнать: они разложились больше других. В мае наши линии доходили до Бертонвальского леса, в пяти-шести километрах отсюда. Началась одна из страшнейших атак за время этой войны и всех войн вообще; солдаты единым духом добежали сюда. Они составляли тогда клин, который слишком выдался вперед, и попали под перекрестный огонь пулеметов, стоявших справа и слева от пройденной линии. Вот уже несколько месяцев, как смерть выпила глаза и сожрала щеки убитых, но даже по этим останкам, разбросанным, развеянным непогодой и почти превращенным в пепел, мы представляем себе, как их крошили пулеметы; бока и спины продырявлены, тела разрублены надвое. Валяются черные и восковые головы, похожие на головы египетских мумий, усеянные личинками и остатками насекомых; в зияющих черных ртах еще белеют зубы; жалкие потемневшие обрубки раскиданы, как обнаженные корни, и среди них — голые желтые черепа в красных фесках с серым чехлом, истрепавшимся, как папирус. Из кучи лохмотьев, слипшихся от красноватой грязи, торчат берцовые кости, а сквозь дыры в тканях, вымазанных чем-то вроде смолы, вылезают позвонки. Землю устилают ребра, похожие на прутья старой, сломанной клетки, а рядом — измаранные, изодранные ремни, простреленные и расплющенные фляги и котелки. Вокруг разрубленного ранца, лежащего на костях и на охапке лоскутьев и предметов снаряжения, белеют ровные точки; если нагнуться, увидишь, что это суставы пальцев.
Всех этих непохороненных мертвецов в конце концов поглощает земля, кое-где из-под бугорков торчит только кусок сукна: в этой точке земного шара уничтожено еще одно человеческое существо.
Немцы, которые еще вчера были здесь, оставили без погребения своих солдат рядом с нашими; об этом свидетельствуют три истлевших трупа; они лежат один на другом, один в другом; на голове у них серые фуражки, красный кант которых не виден под серым ремешком; куртки — желто-серые, лица зеленые. Я рассматриваю одного из этих мертвецов; от шеи до прядей волос, прилипших к шапке, это — землистая каша; лицо превратилось в муравейник, а вместо глаз — два прогнивших плода. Другой — плоский, иссохший, лежит на животе; спина в лохмотьях; они почти развеваются по ветру; лицо, руки, ноги уже вросли в землю.
— Поглядите! Это свеженький!..
Среди равнины, под дождливым, холодеющим небом, на этом похмелье после оргии резни, воткнута в землю обескровленная, влажная голова с тяжелой бородой.
Это один из наших: рядом валяется каска. Из-под опухших век чуть виднеются застывшие, как будто фарфоровые белки глаз; в зарослях бороды губа блестит, как улитка. Он, наверно, упал в воронку от снаряда, а ее засыпал другой снаряд и зарыл этого солдата по самую шею, как немца с кошачьей головой у «Красного кабачка».
— Я его не узнаю, — с трудом говорит Жозеф, медленно подходя.
— А я его знаю, — отвечает Вольпат.
— Этого бородача? — слабым голосом спрашивает Жозеф.
— Да у него нет бороды. Сейчас увидишь.
Вольпат садится на корточки, проводит палкой под подбородком трупа и отделяет от него ком грязи, которая служила этой голове оправой и казалась бородой. Он поднимает каску, надевает ее на голову мертвеца и прикладывает к его глазам вместо очков кольца своих знаменитых ножниц.
— А-а! — воскликнули мы. — Это Кокон!
— А-а!
Когда внезапно узнаешь о смерти кого-нибудь из тех, кто сражался рядом с вами и жил одной с вами жизнью, или когда видишь его труп, чувствуешь удар прямо в сердце, даже еще не понимая, что произошло. Поистине узнаешь почти о своем собственном уничтожении. И только поздней начинаешь сожалеть о выбывшем из строя.
Мы смотрим на эту омерзительную голову, похожую на голову ярмарочной мишени; она так изуродована, что стирается всякое воспоминание о живом человеке. Еще одним товарищем меньше!.. Мы стоим вокруг него и ужасаемся.
— Это был…
Хочется что-то сказать. Но не находишь нужных, значительных, правдивых слов.
— Идем! — с усилием произносит Жозеф, страдая от острой физической боли. — У меня больше нет сил останавливаться.
Мы покидаем бедного Кокона, бывшего человека-цифру, бросив на него последний беглый, почти рассеянный взгляд.
— Трудно себе даже представить, — говорит Вольпат.
…Да, трудно себе даже представить. Все эти утраты в конце концов утомляют воображение. В живых нас осталось совсем мало. Но мы смутно чувствуем величие этих мертвецов. Они отдали все: они постепенно отдавали все свои силы и под конец отдали самих себя целиком. Они перешли за грань жизни: в их подвиге есть нечто сверхчеловеческое и совершенное.
* * *
— Погляди, этого ухлопали как будто давно, а…
На шее почти иссохшего тела зияет свежая рана.
— Это крыса… — говорит Вольпат. — Трупы старые, но их жрут крысы… Видишь дохлых крыс? Может быть, они отравились; вот их сколько вокруг каждого трупа. Да вот этот бедняга сейчас покажет нам своих крыс.
Он приподнимает ногой распластанные останки, и действительно мы видим под ними двух дохлых крыс.
— Мне хочется найти Фарфаде, — говорит Вольпат. — Я ему крикнул, чтоб он подождал минутку, помнишь: когда мы бежали и он за меня ухватился. Бедняга! Если б он только дождался!
Он ходит взад и вперед, его влечет к мертвецам какое-то странное любопытство. Они равнодушно отсылают его друг к другу; на каждом шагу он всматривается в землю. Вдруг он испускает отчаянный крик. Он машет нам рукой и становится на колени перед каким-то трупом.
— Бертран!
Мы чувствуем острую, щемящую боль. Значит, он тоже убит, а ведь он больше всех воздействовал на нас своей волей и ясностью мысли! Он пал, он пал, как всегда исполняя свой долг. Он нашел смерть на поле брани!
Мы глядим на него, отворачиваемся и смотрим друг на друга.
— А-а!..
Отвратительное зрелище! Смерть придала нелепо смешной вид человеку, который был так спокоен и прекрасен. Волосы растрепались и упали на глаза, усы мусолятся во рту, лицо распухло; мертвец смеется. Один глаз широко раскрыт, другой закрыт, язык высунут. Руки раскинуты крестом, пальцы растопырены. Правая нога тянется в сторону; левая — вывихнутая, влажная, бескостная; она пробита осколком; это и вызвало кровотечение, от которого, наверно, умер Бертран. По иронии судьбы, он дергался в предсмертных судорогах, как паяц.
Мы его бережно выпрямляем и укладываем, мы возвращаем покой этой страшной маске. Вольпат вынимает из кармана убитого бумажник, чтобы отнести в канцелярию, и благоговейно кладет среди своих бумаг, рядом с фотографией своей жены и детей.
— Да, брат, это был настоящий человек! Если он что говорил, ему можно было верить. Эх, как он был нам нужен!
— Да, — отвечаю я, — он всегда был бы нам нужен.
— Беда!.. — бормочет Вольпат и дрожит.
Жозеф шепотом повторяет:
— Эх, черт подери, эх, черт подери!
По равнине снуют люди, как на городской площади. Идут отряды, посланные на работу, и солдаты-одиночки. Санитары терпеливо и старательно приступают к своей непосильной работе.
Вольпат уходит в траншею сообщить товарищам о наших новых утратах и особенно о великой потере: о смерти Бертрана. Он говорит Жозефу:
— Не будем терять друг друга из виду! Ладно? Время от времени пиши просто: «Все хорошо. Подпись: Камамбер». Ладно?
Он исчезает среди людей, столпившихся на этом пространстве, которым уже завладел мрачный, бесконечный дождь.
Жозеф опирается на мою руку. Мы спускаемся в овраг.
Откос, по которому мы спускаемся, называется «Ячейки зуавов»… Здесь во время майского наступления зуавы начали рыть индивидуальные прикрытия, у которых их и перебили. Некоторые убиты на самом краю ямы и еще держат в истлевших руках кирку-лопату или смотрят на нее глубокими черными глазницами. Земля так переполнена мертвецами, что после обвалов обнаруживаются целые заросли ног, полуодетых скелетов, груды черепов, валяющихся на стене, как фарфоровые чаши.
Здесь, в недрах земли, лежит несколько пластов трупов; во многих местах снаряды вырыли самые старые из них и бросили на новые. Дно оврага сплошь устлано обломками оружия, клочьями белья, остатками утвари. Мы ступаем по осколкам снарядов, железной рухляди, кускам хлеба и даже сухарям, выпавшим из ранца и еще не размытым дождями. Миски, коробки консервов, каски пробиты пулями и кажутся шумовками всевозможных видов, а уцелевшие вывернутые колья продырявлены.
В этой низине окопы похожи на сейсмические трещины, и кажется, что на развалины после землетрясения вывалились целые возы разных предметов. А там, где нет мертвецов, сама земля стала трупом.
У поворота извилистого рва мы пересекаем Международный ход, все еще трепещущий разноцветными лохмотьями; беспорядочные кучи сорванных тканей придают этой траншее вид убитого существа. Во всю длину, до земляной баррикады, навалены трупы немцев; они переплелись, они извиваются, как потоки осужденных грешников в аду; некоторые высовываются из грязных гротов, среди невообразимого нагромождения балок, веревок, железных лиан, туров, плетней и щитов. На этой баррикаде виден труп; он воткнут стоймя в кучу других трупов; там же, но в зловещей пустоте, наклонно стоит другой; все вместе это кажется большим обломком колеса, увязшего в грязи, оторванным крылом мельницы, и среди всего этого разгрома, среди нечистот и разлагающихся тел валяются открытки, иконки, благочестивые книжонки, листки с молитвами, отпечатанными готическим шрифтом; все это выпало из разодранных карманов. Испещренные словами бумажки, казалось, украсили тысячами белых цветов обмана и бесплодия эти зачумленные берега, эту долину уничтожения.
Я ищу надежное место, чтобы провести Жозефа; он постепенно теряет способность двигаться; он чувствует, как боль распространяется по всему телу. Я его поддерживаю; он уже ни на что не смотрит, а я смотрю на это разрушение.
Прислонившись к расщепленным доскам разбитой караульной будки, сидит унтер. Под глазом у него маленькая дырка: удар штыка в лицо пригвоздил его к этим доскам. Перед ним сидит человек, упершись локтями в колени, подперев кулаками шею; у него снесена вся крышка черепа; это похоже на вскрытое яйцо всмятку. Рядом с ним, как чудовищный часовой, стоит полчеловека: человек расколот, рассечен надвое от черепа до таза, он прислонился к земляной стенке. Неизвестно, куда делась вторая половина этого кола; глаз повис вверху; синеватые внутренности спиралью обвились вокруг единственной ноги.
Мы наступаем на согнутые, искривленные, скрюченные французские штыки, покрытые запекшейся кровью.
Сквозь брешь насыпи виднеется дно; там стоят на коленях, словно умоляя о чем-то, трупы солдат прусской гвардии; у них в спинах пробиты кровавые дыры. Из груды этих трупов вытащили к краю тело огромного сенегальского стрелка; он окаменел в том положении, в каком его застигла смерть, скрючился, хочет опереться о пустоту, уцепиться за нее ногами и пристально смотрит на кисти своих рук, наверно срезанных разорвавшейся гранатой, которую он держал; все его лицо шевелится, кишит червями, словно он их жует.
— Здесь, — говорит проходящий альпийский стрелок, — боши хотели проделать фортель: они выкинули белый флаг, но им пришлось иметь дело с «арапами», и этот номер не прошел!.. А-а, вот и белый флаг; им и воспользовались эти скоты!
Он подбирает с земли и встряхивает длинное древко; белый квадратный лоскут невинно развевается.
…Вдоль разбитого хода открывается шествие солдат; они несут лопаты. Им приказано засыпать окопы, чтобы тут же похоронить всех мертвецов. Так эти труженики в касках совершат дело правосудия: они вернут полям обычный вид, засыплют землей рвы, уже наполовину заваленные трупами захватчиков.
* * *
По ту сторону прохода меня окликают: там, прислонясь к колу, на земле сидит человек. Это дядюшка Рамюр. Из-под расстегнутой шинели и куртки на его груди видны повязки.
— Санитары меня перевязали, — говорит он глухим голосом, — но не смогут унести отсюда раньше вечера. Я знаю, что помру с минуты на минуту.
Он покачивает головой и просит:
— Побудь немного со мной!
Он взволнован. Из его глаз текут слезы. Он протягивает мне руку и удерживает меня. Ему хочется многое сказать мне, почти исповедаться.
— До войны я был честным человеком, — говорит он, глотая слезы. — Я работал с утра до ночи, чтобы прокормить семью. И вот я пришел сюда убивать бошей… А теперь меня самого убили… Послушай, послушай, не уходи, послушай!..
— Мне надо отвести Жозефа; он еле стоит. Я вернусь.
Рамюр поднимает на Жозефа заплаканные глаза.
— Как? Он не только жив, но еще и ранен? Избавлен от смерти? А-а, везет же некоторым женам и детям! Ну, ладно, отведи его и приходи обратно!.. Может быть, я еще дождусь тебя…
Теперь надо взобраться на другой склон оврага. Мы проникаем в бесформенное изувеченное углубление старого хода 97.
Вдруг воздух раздирают остервенелые свистки. Над нами проносится шквал шрапнели… В недрах бурых туч сверкают и рассыпаются страшным дождем аэролиты. Выстрелы грохочут, взвиваются в небо, разбиваются о склоны, разворачивают холмы и вырывают из них старые кости мира. И громовые пожары вспыхивают по всей линии.
Опять начинается заградительный огонь.
Мы, как дети, кричим:
— Довольно! Довольно!
В этом неистовстве смертоносных машин, механического разрушения, преследующего нас повсюду, есть нечто сверхъестественное. Я держу Жозефа за руку; он оглядывается, смотрит на ливень взрывов, как затравленный, обезумевший зверь, и только бормочет:
— Как? Опять? Значит, еще не кончилось? Мы ведь всего насмотрелись, всего натерпелись!.. И вот начинается опять! Так нет же, нет!
Задыхаясь, он падает на колени, озирается с бессильной ненавистью и повторяет:
— Значит, это никогда не кончится, никогда?!
Я беру его под руку и поднимаю.
— Пойдем! Для тебя это скоро кончится!
* * *
Здесь, прежде чем отправиться дальше, надо подождать. Я хочу пойти к умирающему Рамюру: он меня ждет. Но за меня цепляется Жозеф, и к тому же у того места, где я оставил умирающего, суетятся люди. Я догадываюсь: теперь уже не стоит туда идти.
Дно оврага, где мы прижимаемся друг к другу под этой бурей, сотрясается, и при каждом залпе чувствуется глухой самум снарядов. Но в этом углублении мы не подвергаемся опасности. При первом затишье люди, пережидавшие, как и мы, отделяются от нас, идут в гору: это санитары; они с невероятными усилиями карабкаются и несут тела, напоминая упрямых муравьев, отбрасываемых песчинками; другие идут попарно или в одиночку; это раненые или связисты.
— Идем, — говорит Жозеф, согнувшись, измеряя взглядом склон, последнюю часть своего мученического пути.
Здесь деревья: ряд ободранных стволов ивы; одни кажутся широкими, плоскими; другие — зияют, словно стоячие отверстые гробы. Вся местность разворочена, изуродована; холмы, пропасти и мрачные бугры, как будто сюда низверглись все тучи бури. Над черной, истерзанной землей вырисовывается разгром стволов; тускло поблескивает бурое с молочными прожилками небо, похожее на оникс.
У отверстия хода 97 лежит поперек дуб; все его крупное тело скрючено и разбито.
Ход заткнут трупом. Голова и ноги застряли в земле. Струящаяся по дну мутная вода покрыла туловище песчаным студнем. Под этим мокрым саваном выпирают грудь и живот, прикрытые рубашкой.
Мы переступаем через останки, ледяные, липкие и светлые, как брюхо ящерицы; это трудно: почва рыхлая и скользкая.
В эту минуту над нами раздается адский свист. Мы сгибаемся, как тростник. В воздухе разрывается шрапнель; она оглушает, ослепляет нас, обволакивает черным свистящим дымом. Перед нами солдат взмахивает руками и исчезает в какой-то бездне. Крики поднимаются и падают, словно обломки. Ветер срывает с земли черный покров и отбрасывает в небо; видно, как санитары ставят носилки, бегут к месту взрыва и поднимают что-то неподвижное. Я вспоминаю незабываемую ночь, когда мой брат по оружию Потерло, никогда не терявший надежды, раскинул руки и, казалось, улетел в пламя.
Наконец мы взбираемся на вершину; открывается страшное зрелище: на ветру стоит раненый; ветер встряхивает его, но он стоит как вкопанный; поднятый капюшон развевается; лицо судорожно подергивается, рот широко раскрыт; раненый воет, и мы проходим мимо этого кричащего дерева.
* * *
Мы добрались до нашей бывшей первой линии, откуда мы пошли в атаку. Мы сели на ступеньку для стрельбы и прислонились к выступам, сделанным в последнюю минуту саперами для нашего наступления. Проходит самокатчик Этерп и здоровается с нами. Пройдя мимо, он возвращается и вытаскивает из-за обшлага конверт, край которого вылезал оттуда и казался белым галуном.
— Это ты берешь письма покойного Бике? — спрашивает меня Этерп.
— Да.
— Вот его письмо: оно вернулось обратно. Адреса не разберешь.
Конверт, наверно, лежал в пачке сверху, попал под дождь, и теперь среди лиловатых разводов уже нельзя разобрать адрес. Только в углу уцелел адрес отправителя… Я осторожно вынимаю письмо: «Дорогая матушка…»
— А-а, помню!
Бике лежит под открытым небом в той самой траншее, где мы теперь отдыхаем. Он написал это письмо недавно, на стоянке в Гошен-л'Аббе, в сияющий великолепный день; он отвечал на письмо матери, которая тогда тревожилась напрасно и рассмешила этим сына…
«Ты думаешь, мне холодно, я мокну под дождем, подвергаюсь опасности. Ничего подобного! Напротив. Все это кончилось. Теперь жарко, мы потеем; делать нам нечего, мы слоняемся и греемся на солнышке. Мне было смешно читать твое письмо…»
Я кладу это письмо в измятый, истрепанный конверт; если бы не случайность, старая крестьянка, по новой иронии судьбы, прочла бы эти строки как раз в то время, когда от тела ее сына под ледяной бурей осталась только горсть мокрого праха, стекающего темным ручейком по насыпям траншеи.
Жозеф откинул голову. Вдруг его глаза смыкаются; он тяжело дышит.
— Крепись! — говорю я.
Он открывает глаза.
— Эх, не мне надо это сказать, — отвечает он. — Поглядите вот на этих! Они возвращаются туда, и вы тоже скоро вернетесь. Для вас все это еще не кончилось. Да, надо быть сильным, чтоб выносить все это еще и еще!
XXI
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПУНКТ