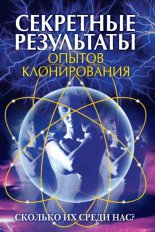Последняя любовь лейтенанта Петреску Лорченков Владимир
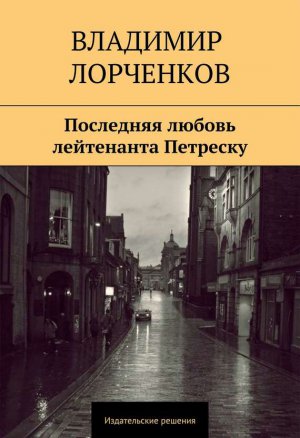
А второе заключается в том, что, когда мы уже обжились на Земле, и ситуация стала проясняться, выяснилось: Потоп длился всего неделю. Просто плохой капитан Ной завел подлодку «Спасение» к нынешнее Средиземное море, и мы там, естественно, плавали больше, чем неделю. Точнее, полгода. Это еще ничего. Не ошибись Ной в расчетах, и не выведи лодку к побережью Греции, мы бы плавали там до скончания веков! Когда мы приплыли к суше, Потоп давным-давно закончился.
Что? Убывающая вода? Да ведь это же был отлив!
— Ну, хорошо, — устало сказал Петреску, и отложил бумаги. — Ну, а лейтенант Петреску-то здесь при чем? На папке написано: «Последняя любовь лейтенанта Петреску». И при чем здесь он, то есть, я, если в папке — какой-то бред про Ноя, потоп, и морских свинок?!
Светало, но в комнате по-прежнему было темно. Балан, не любивший дневного света, всегда накидывал на окно клеенку.
— Понимаете, — торопливо заговорил Балан, — когда я увидел вас, то моя творческая, чего уж там, импотенция, прошла. Я понял, что вы — тот самый человек, который может стать героем моей книги. Конечно, вы выдуманный. Такой сильный, свежий, целеустремленный. Но, естественно, это должен был быть рассказ о любви! Поэтому, когда я увидел вас с этой бешеной девицей, которая лягнула меня на митинге студентов, я вообразил, что это ваша возлюбленная. И придумал название повести: «Последняя любовь лейтенанта Петреску».
— Где-то я это уже слышал, — произнес банальную фразу Петреску, тупо глядя на зеленую скатерть.
Петреску впервые пожалел, что не ходил в театр абсурда. Если бы ходил, подумал он, сейчас было бы легче.
— Ну, а при чем здесь я, если в вашей… этой… книге… обо мне нет ни слова?
— Понимаете, — виновато объяснил Балан, — дальше названия дело не пошло. Я сел писать книгу о выдуманном вас, но потом понял, что это будет книга о библейских событиях, написанных от лица второстепенных героев. Да, идея не нова, но я честно в этом признался устами своей героини, морской свинки. Помните место про «Сотворение мира за 10 с половиной недель»?!
— У свинок не уста, а рыльца, — поправил Петреску.
— Мой лейтенант, — засмеялся Балан, — вы формалист.
— Наверное, — вспомнив Наталью, и бомжа Мунтяну, ответил Петреску. — Хорошо, мой журналист. Что мы дальше-то делать будем?
— Надо что-то придумать вот… с телом.
Петреску глянул на Эдуарда и захохотал. Оказывается, все это время, до самого утра, Балан сидел на стуле, держа в руке нож, воткнутый в спину майора. Балан проследил за взглядом Петреску, и тоже рассмеялся.
— Что там с арабскими террористами какими-то? — спросил, утирая слезы, Петреску.
— Ерунда, но опасная, — смеясь, ответил Балан, — наши спецслужбы решили отличиться перед западными коллегами, и нашли здесь, в Кишиневе, Бен Ладена.
— А он и в самом деле здесь? — приятно удивился Петреску.
— А Бог его знает, — хихикал Балан, — я лично в это не верю.
— Ну, — задал уже привычный для себя вопрос Петреску, — а я здесь при чем?
— А я вашу фамилию сдуру ляпнул, когда меня про арабских террористов спрашивали, — гогоча, признался Балан.
— Неужели все делается вот так, по-идиотски?! — не рассердился Петреску.
— Вся наша жизнь, лейтенант, — закончил смеяться Балан, — цепочка нелепых событий.
— Этот мир, — согласился Петреску, — просто бардак какой-то. Я, пожалуй, уеду. Везде абсурд. Хочется чего-то… настоящего, что ли. Возьму вот свою женщину, и уеду.
— Я тоже уеду. А женщина знает, что она ваша?
— Боюсь, нет. Но, может, уговорю.
— А вы куда собираетесь?
— Хотелось бы в Испанию.
— Там взрывали метро. Вообще, в Европе уже бардак.
— Остров. Англия?
— США? Россия?
— И там, и там — маразм. Восток тоже отпадает. Везде если не террористы, то спецслужбы. Даже у нас, в Молдавии, теперь то же самое.
— Куда же податься? — закусил губу Петреску.
Искренне сопереживающий Балан вдруг всплеснул руками, и склонился к лейтенанту:
— Послушайте, лейтенант! Я знаю одно чудесное тихое местечко. Только вчера ночью оттуда…
Танасе, чувствуя, что еще несколько недель жары и дела по арабам-террористам его просто доконают (давление прыгало, как резиновый мяч, сумасшедший мяч, жаловался он жене) прошел в кабинет и смахнул со стола стакан. Константин начал пить. Закрыв дверь на ключ, директор СИБ дрожащими пальцами взял кассету очередной прослушки Петреску, и решил, что это последняя запись, которую он будет слушать. Потом Петреску надо будет брать.
— Тепленьким, — сказал еле дышавший из-за жары Танасе, и рассмеялся.
Выпив вина прямо из бутылки (за стаканом посылать было лень, но главным образом — стыдно) Танасе решительно включил диктофон. Отсутствие популярной мелодии внушило ему осторожный оптимизм: Танасе скрестил пальцы, и стал надеяться, что Наталья и Петреску поссорились.
— Я хочу сбежать из Кишинева. Я исчерпала этот город, и этот город исчерпал меня, — говорила курившая, видимо, Наталья.
— От себя, — Танасе с удовольствием отметил, что Петреску скучен, и потому смакует банальности, — не убежишь.
— Вые…и меня.
Танасе вздохнул.
— Оксюморон, — Петреску с удовольствием вставил в разговор слово, прочитанное вчера в пьесе Шекспира.
— Ничего подобного милый, — проворковала Наталья — оксюморон был бы, если бы я сказала: вые…и, не коснувшись меня.
— Заткнись, и становись на колени.
Наталья, судя по глухому стуку, так и сделала. Петреску на пленке и Танасе в кабинете громко засопели. Правда, по разным причинам.
— Ты ведь не впадешь в меланхолию, милый. Правда? — прервалась Наталья.
— Когда ты ведешь язык вверх, — после паузы отвечал Петреску, — ты ведешь его в самое сердце Господне.
Он тоже лиричный, угрюмо порадовался Танасе, и выпил еще. И его она тоже бросит.
— Так ты не впал в меланхолию, милый?..
— Какая разница?
— Мы так не… — маленькая пауза на то, в отчаянии подумал Танасе, чтобы сунуть в проклятого лейтенанта раскаленное жало, затем перерыв, — …не договаривались…
— Некоторые женщины, — а вот тут, наверное, подумал Танасе, этот юнец покраснел… — делают это шумно, с обилием слюны, засасывают на корню. Ты — нет. Ты жалишь.
Ты жалишь меня в самое сердце, проклятый лейтенантишка, подумал Танасе, и начал набрасывать на бумажке приказ о ликвидации Петреску. С Константина было довольно.
— Слюна, — судя по звуку (слава богу, догадался не снимать на видео, со злобой подумал Танасе) Наталья плюнула на лейтенанта, а потом слизнула, — очень важна, больше даже… чем ты думаешь, милый…
— Так. Еще.
— Но… только не надо меланхолии. Это все так грустно. Так напрягает… мужчинка… Мы не этого искали. Мы не делимся проблемами, и у нас не бывает плохого настроения.
— Бывает, но, — Танасе показалось, что в словах Петреску он различил горечь, — мы не бываем друг с другом, когда нам плохо.
— И это…
— И это здорово.
Танасе представил себе Наталью с раскрытым над плотью ртом. Наверняка она выглядела словно сказочный Сфинкс, ждущий верного ответа. Константин захихикал. Приказ был закончен.
Несколько раз лейтенант на пленке снова начинал шумно сопеть, а потом наступила тишина.
В голове у Танасе крутилось лишь слово, одно слово:
— Отстрелялся, — прошептал Константин, и подошел к окну.
Осторожно открыл его, сел на подоконник, и глянул в низ. Ни мертвый майор Эдуард, ни три раза убитый, и воскресший стажер Андроник не видели, как на черно-белом мониторе в их кабинете Танасе подмигнул скрытой камере, и вывалился вверх ногами из окна на восьмом этаже.
Танасе летел очень долго. Сначала яркое солнце расплылось в его глазах радугой, стало густеть, будто кисель, и шептать, словно русалка. Вечность, вечность, вечность, шептал Танасе, стремительно падая вниз. Мотнув головой, он заметил, как на улице взорвалась шутиха. Под потолком неба повисли восемь цветных дирижаблей. Снизу помахивали красными ленточками на зеленых шестах карнавальные китайцы. Вдалеке урчал кит. В мозгу расцветала огромная белая роза: вот она разбухла, и, распустившись до предела, увяла и опала. Сверху посыпались оранжевые шары.
Константин Танасе грудью встретил асфальт.
В подъезде было что-то не так. И на лестничной клетке. Дверь была скошена. Крепление верхней петли сорвано, словно какой-то местный пьяненький Минотавр пытался сорвать ее бешеными ударами головы. Склонив голову, Петреску внимательно посмотрел на вырванную ручку двери, и тихонько притронулся к косяку. Тот тоже шатался. Петреску обернулся: со стекла, отгородившего закуток для сушки белья, коробок и хлама, на него глядело странное существо. Худощавое: то ли мужчина, то ли женщина. Быстро наступающие сумерки украли половину его лица, но Петреску видел, что веки у него густо накрашены синим, а лоб — позолотой. В полутьме различим шлем, белое одеяние, — то ли короткая простыня, то ли длинная рубашка, — крепкие ноги, сандалии со шнуровкой. Со времен Гермеса такие носили только женщины. Сандалии тоже позолочены, и неожиданно весело поблескивают возле них маленькие крылья. Со стекла на Петреску глядит он: Меркурий, обманщик, Посланник. И в руке его уныло свисает крученый рог, в который Посланник трубит, возвещая волю богов. И тут Петреску, и так с большой неохотой нарядившийся во все это по просьбе Натальи, начало казаться, что наряд этот слишком нелеп здесь. Что-то вторглось в Аттику, облачком окружившую его от всего, что есть вокруг. Кажется, нечто похожее на реальность.
— Нарядись Меркурием, — попросила она его, — сегодня мы устроим необычную вечеринку. А-ля тусовка на Олимпе. С последующим бешеным совокуплением, конечно.
— Что? — не понял Петреску.
— Ох, — вздохнула она, — неужели в Полицейской Академии не учат, кто такой Меркурий?
— Это, скорее, для финансового института, — разозлился Петреску, — и если бы ты знала, как от твоей затеи попахивает провинцией!
Но, в конце концов, она его уболтала. Навалившись плечом на дверь, Петреску, вопреки ожиданию, слишком легко ввалился в коридор квартиры. Вихрем понесся по комнатам. Пустота. Если бы все было оставлено так, как обычно, он бы ничего не заподозрил. Словно лишая его последней иллюзорной возможности на что-то надеяться, Наталья скальпировала дом. Пусто. Нет мебели, кухня пуста, пропали даже обои. В ванной комнате сняты ванна и унитаз. Между комнат не было дверей, но Петреску уже знал, что перед тем, как двери вынесли, из них вынули стекла.
На полу ванной комнаты была снята даже плитка. Цемент местами потрескался. В одной из трещин торчал, — будто кусочек мяса, застрявший между зубов, — сложенный пополам лист бумаги. Отбросив шутовской рог в сторону, Петреску снял шлем, и, беззвучно ругаясь, наклонился к листу. Взял его. Развернул. Механический лист, неприятный, с неприязнью отметил лейтенант. Формат А4. Даже две фразы, набранные на компьютере и распечатанные на этой бумаге позже, смотрелись на листе неуместно. Обе они были буквально под верхним краем. Обилие пустого места коробило взгляд. Первая фраза была набрана шрифтом четырнадцатого размера. «Найди меня». Вторая, двенадцатым шрифтом: «Если видишь в этом смысл, конечно».
Пощечиной пройдясь по вспыхнувшей щеке лейтенанта, — даже обильный слой краски этого не скрыл, — лист пал на цемент. Безусловно, Наталья хлестнула Петреску этим листом.
Последний штрих: в квартире отключена даже вода. И лейтенант не смог смыть краску с лица.
Распахнув оконные рамы (пустые, пустые, конечно), Петреску долго глядел на двор, окруженный многоэтажными зданиями — муравейниками. Под окном толкали машину трое мужчин. У беседки рядом с маленьким футбольным полем курила женщина. Она присматривала за коляской, в которой спит ребенок. На поле играли в футбол подростки. Петреску решил, что сумерки скоро уступят ночи, но было все еще очень жарко. По его левой щеке струилась краска.
— Добро пожаловать в мираж действительности, — сказал себе лейтенант, и с бессильной злобой добавил, — сука!!!
…Кое-как утерся рубахой, и, приспустив шнуровку сандалий, постучал к соседке. Та открывает, и Петреску, наконец-то, увидел, какая она. Старушка с высокой прической, наверняка, накладными волосами, испуганно посмотрела на лейтенанта поверх дверной цепочки, которую открыть так и не пожелала:
— Уехала. Вчера уехала.
— Мы вместе в театре выступали, — солгал Петреску, для убедительности добавив, — конечно, не в настоящем, а так, в любительском…
— Аа-а, — соседка почему-то поверила и сразу успокоилась, — очень приятно.
— Ни адреса, ничего?
— Абсолютно, — прикрывает старушка глаза, — молча съехала, и даже не попрощалась…
— Должно быть, новые покупатели что-то знают?
— А покупателей и нет.
Незримая вторая пощечина отбросила голову Петреску чуть влево.
— А, так она… снимала квартиру?
— Конечно, — и старуха вновь подозрительно сощурилась, — это квартира не ее. Только хозяев нет. Приедут они через год. А пока меня попросили за помещением присмотреть.
— Может, вы могли бы узнать…
Дверь прикрылась, старая черепаха снова спрятала голову в панцирь, и Петреску медленно спустился по ступеням вниз, подгибая каждый раз ногу, чтобы с размаху опустить на другую вес всего своего тела. Дверь в подъезд была приоткрыта. Петреску прикрывал рукой глаза даже от сумерек.
Лейтенант вышел из дома.
— Эй, Петреску, — смеялись в оцеплении, — ты чего нос повесил, как будто у тебя в кармане шиш с маслом?
— У меня в кармане, — равнодушно ответил Петреску, — двадцать пять тысяч долларов.
Оцепление заржало еще громче. Лейтенант Петреску страдал, стоя на краю широкой дороги, ведущей из кишиневского аэропорта в город. В этот день все полицейские Кишинева обрамляли дорогу, как черные (под цвет форме) бантики. В Молдавию прибывал министр обороны США Рамсфельд. Петреску, потративший два дня на поиски Натальи, и понявший, что девушка исчезла бесследно, скорее всего, уехала, впал в оцепенение. Сейчас его не раздражали даже шутки коллег. Лейтенант безучастно следил за дорогой, на которой вот-вот доложен был появиться кортеж высокого гостя, и отгонял от тротуара зевак. Несколько месяцев странной связи с Натальей его доконали, он это чувствовал. Лейтенант, поделивший с журналистом Баланом неприкосновенную сумму СИБа, надеялся, что Наталья уедет вместе с ним, и потому, не найдя ее дома, понял: сердце его разбито. Высокий женский голос за его спиной бросил:
— Да когда же дорогу-то перейти можно будет?!
Петреску обернулся, и, глядя на Наталью, выдал заученную фразу:
— Через полчаса, отойдите от тротуара, полиция Кишинева приносит вам извинения за доставленные неудобства.
— Вот так, — улыбнулась Наталья, — ты меня искал, лейтенант.
Петреску пожал плечами, и повернулся к ней в профиль. — Если ты не хотела, чтобы я тебя искал, зачем оставила записку? — пытаясь выглядеть холодно, бросил он.
— Каприз, — состроила гримаску девушка.
— Ты куда собралась? — равнодушно спросил Петреску.
— В аэропорт, — подумав, и стало понятно, что это правда, ответила Наталья. — А что?
— Зачем пришла?
Наталья подняла брови.
— В аэропорт едет автобус с остановки, которая у твоего дома, — угрюмо пояснил Петреску, — так что сюда ты пришла, именно для того, чтобы на меня посмотреть.
— Ну, может и так.
— Доставил удовольствие?
— О, лейтенант, во всех смыслах удовольствие…
— Шлюха.
— А может, я в тебя влюбилась, — спросила девушка, — а, Петреску?
Коллеги лейтенанта, проявив недюжинную тактичность, сделали вид, что увлечены охраной дороги. Это было очень мужественно с их стороны: в Молдавии никто никогда не нападал на кортежи.
— Зачем тогда все вот это, — поискал Петреску подходящее слово, и, не найдя, заменил его универсальным, — дерьмо?
— Любовь, Сережа, — пояснила Наталья, — может и пугать. Да и вообще, что это ты злишься?
— Я злюсь?
— Ты злишься. Свое-то ты получил, разве нет?
— Я, может, и не только этого… — растерялся Петреску, — ну, что, неужели трудно было нормально сказать: мне, мол, не только секс, но еще и…
— А трудно было догадаться? — Наталья злилась, и поэтому кричала
— Ты… — затрясся от ненависти не любивший публичные скандалы Петреску, — ты как базарная торговка себя ведешь. А раньше, как шлюха. Слушай, ты нормальной бываешь?
— Нормальной, это как? Убогой, как ты?!
— Я убогий?!
— Ты убогий!!!
Петреску помолчал, отвернулся, и с яростью прошипел:
— Убирайся!
— До свидания, — прошипела Наталья.
— Чтоб тебе, — Петреску подумал, — …провалиться.
— Чтоб твой язык окостенел!
Лейтенант пожевал, хоть во рту у него ничего не было, и глянул на часы. Шагов за спиной слышно не было.
— Ну? — спросил он, и повернулся.
Наталья плакала. Она явно притворялась.
— Если ты, — уволакивая ее в сторону от дороги, будто диктовал лейтенант, — еще раз. Сделаешь. Нечто. Такое. Что. Сделала. Я. Тебя. Живьем. Зарою.
— В. Землю, — поддразнила она его. — Нет. Дай. Поцелую.
Когда Петреску открыл глаза, на дороге появился кортеж. Наталья снова его поцеловала.
— Куда ты собралась-то? — спросил Петреску.
— Хотела в Испанию.
— С ума сошла? Там взрывали метро. Вообще, в Европе уже бардак, — с жаром взялся разубеждать ее Петреску. — Острова тоже ни к черту не годятся. В Англии вот, к примеру, полно фундаменталистов и спецслужбы. В США и России — маразм. Везде если не террористы, то спецслужбы. Даже у нас, в Молдавии, теперь то же самое.
— Куда же податься? — спросила Наталья.
Петреску улыбнулся, и, сняв на ходу китель, и бросив его в клумбу, сказал:
— Любовь моя. Я знаю одно чудесное тихое местечко… А в дороге ты почитаешь книгу, которую написал о нас один чудак. Она так и называется. «Последняя любовь лейтенанта Петреску».
— В следующий раз положи больше перца, — попросил Осама, и положил нож на стол.
— О, да, величайший, — благоговейно сказал Саид, и поклонился.
Осама поморщился. С того дня, как он побывал на собрании в университете, знаки почитания ему оказывали в киоске все. Больше всех, как ни странно, молдаванин Сержиу. Афганца это утомляло.
— Что это на дороге? — мягко спросил Осама у Сержиу, поглаживая бороду.
— Какой-то американец приехал, — сказал Сержиу, опустив глаза, — из важных шишек.
— Аллах велик, — сказал Осама, взял со стола одну шаурму, и вышел из киоска.
За полтора года жизни в Кишиневе Осама выходил из киоска всего один раз. В университет. И вот, вышел сейчас. Саид встал на колени, и начал молиться. Бедняга горячо плакал.
— Мученик умрет сейчас на моих глазах, — бормотал он, — мученик умрет, но унесется в рай, а душа американца, которого мученик, без сомнения, убьет, попадет в ад. Ее будут глодать грязные псы.
Сержиу понял, что сейчас все закончится. Сумасшедший (еще бы, подумал Сержиу, сойдешь тут с ума от бездействия) Бен Ладен нападет на кортеж, его убьют, он, Сержиу, получит 25 миллионов долларов, разведется… От этих мыслей его отвлекли громкие причитания Саида:
— Мученик умрет, мученик сейчас отправится в рай, о…
— Заткнись, — пнул его Сержиу, и с гордостью добавил, — чурка чернозадая.
Саид, ушедший в причитания, не обратил на это никакого внимания. Сержиу взял его за ухо, повернул лицом к себе, и громко и внятно сказал:
— Заткнись, араб занюханный! Чурбан немолдавский!
Саид от удивления открыл рот. На улице послышался шум. Кортеж подъезжал к киоску. Осама подошел к оцеплению, встал за спиной у полицейского. Забыв обо всем, Сержиу и Саид следили за Бен Ладеном. Наконец, машины появившегося кортежа начали тормозить на повороте. В толпе ахнули. Осама Бен Ладен размахнулся и шлепнул шаурму о лобовое стекло машины, где, судя по всему, ехал Рамсфельд. Оцепление и зеваки замерли. Машины остановились. Из той, на лобовом стекле которой были разбросаны капуста, помидоры, кусочки мяса, и растекался соус, вышел сухопарый мужчина в хорошем костюме. Это был Рамсфельд. Поглядев на Осаму, американец растерянно бросил:
— Оу, молдэвиан антиглобалист!
Осама на хорошем английском языке сказал:
— Господин Рамсфельд, я не согласен с политикой вашего государства на Ближнем Востоке! Своими действиями я выразил свой протест!
После чего повернулся, и ушел в киоск резать лук. Только после этого ошеломленная охрана американца прикрыла его телами, бронированными чемоданчиками, и уволокла в другую машину. Рамсфельд почему-то (почему, не раз спрашивал он потом себя) мазнул пальцем соус, и попробовал. Было вкусно. Кортеж уехал. Полиция спешно отобрала у фотокорреспондентов камеры. Через полчаса город выглядел как обычно.
— Я не Осама Бен Ладен, — сказал коллегам афганец, снова взявшись за нож и помидоры, — хотя меня и вправду зовут Осама. И еще.
Мужчины подались к афганцу. Тот нахмурился:
— По-моему, вы зря убили Ахмеда.
…В полном молчании мужчины в киоске резали овощи, мясо, делали соус, и готовили шаурму. В девять часов вечера, как обычно, они вымыли посуду, ножи, и стали собираться. В девять пятнадцать киоск взяло штурмом подразделение спецназа СИБ. Приказ об операции отдал новый начальник службы, Анатол Ботнару. Разбирая бумаги безвременно погибшего Танасе, Ботнару наткнулся на записи об Осаме Бен Ладене в Молдавии, и решил действовать.
Штурм прошел на отлично. Осаму убили выстрелом в затылок. Саида изрешетили очередями. Сержиу убить не смогли, потому что он был мертвым: Саид зарезал его за «грязного араба». Тела Саида и Сержиу закопали в старых могилах на Армянском кладбище. Человека, которого все считали Осамой Бен Ладеном, вывезли на север Молдавии, и спустили вниз по Днестру.
Осама Бен Ладен в мировых СМИ был объявлен найденным и уничтоженным, без указания страны, где это произошло. Новый директор СИБ получил орден, участники штурма — медали.
Молдавия — безвозвратный кредит в полтора миллиарда долларов.
…Отлив! О, да, разумеется, я этого не отрицаю. Но, скажите на милость, откуда мне было об этом знать? Ну, откуда?! Ведь я, Ной — всю свою жизнь провел на земле. Мореходов в нашем роду никогда не было. Спросите меня о том, что такое астролябия, и я не найду, что ответить. Кстати, путешествие в «Спасении» в этом плане нисколько не обогатило багаж моих знаний. Все эти штурвалы, зюйд-вест, румбы, перископы, — как были для меня чудовищной ахинеей, так и остались. Это никогда не было мне интересно. Меня всегда тянуло к земле. Хотя, конечно, проявилось это не сразу.
Помнится, в детстве, когда отец заставлял нас, его детей, — четырнадцать человек, что вы хотите, патриархальная семья, период перехода от первобытнообщинного строя к феодальному, и даже ранняя его фаза! — так вот, когда он заставлял нас вкалывать как проклятых на наших угодьях, я противился этому. Конечно, мой протест носил молчаливый характер. Еще бы! Попробовал бы сын главы общины открыто выразить свое недовольство решениями отца в Иудее примерно так за пять тысяч лет до Рождества Христова! Да меня бы моментально забили до смерти каменьями. И никто бы и глазом не повел. Одним больше, одним меньше, какая разница? И причина этого — не во врожденной свирепости нашего племени, которое в годы моей юности переходило от кочевого образа жизни к оседлому (как раз мой батенька, царствие ему небесное, всячески этому способствовал)! Просто тогда была ужасающая детская смертность. Мы потому и рожали по дюжине детей для того, чтобы хоть пара — тройка дожила до своего совершеннолетия, а не встретила его в песчаной могиле. Люди мерли, как мухи. Болезни, голод, постоянные войны. Нет-нет, не надо сочувственно кивать головой. Я вижу, и двадцать веков спустя в этом плане ничего не изменилось. И, полагаю, Бог просчитался, понадеявшись на то, что человечество все-таки повзрослеет. Ну, такие уж мы, люди…
Так вот, к земле меня в детстве не тянуло, но это вовсе не значит, что тянуло к морю! Более того, я даже не представлял себе, что это значит — море. Конечно, вы вспомните о Мертвом море, но, простите, морского в нем, как в морских свинках — одно название. Я не то, чтобы не патриот Иудеи, просто — реалист и прагматик. Давайте говорить напрямик: о том, что такое море, никто из семитов, кроме финикийцев, и понятия не имел. Поэтому я, кстати, не нахожу ничего странного в том, что Яхве избрал именно такой способ уничтожения избранного им, но не оправдавшего сиятельных надежд народа. Да, он решил утопить евреев в море, которого те никогда не видели. Что значит, всех? Нет, конечно. Только евреев.
Остальных-то ведь он и за людей не считал.
Какой же смысл был ему их топить, спросите вы. Нельзя устроить революцию, не перебив горшков в лавках, отвечу я. Ведь не мог же он устроить мини-потоп исключительно для Иудеи! Вот и пришлось зачистить всех под одну гребенку. Так что остальное человечество пострадало из-за богоизбранного народа. Только никому не слова, умоляю. Если станет известно еще и это, антисемитизм никогда не исчезнет…
В общем, труд на земле я в детстве недолюбливал. Со временем все изменилось. Нет, копаться на грядках я так никогда и не научился, зато почувствовал тягу к скотоводству. Папеньке это не очень нравилось. Он, для своего времени, конечно, был подлинный реформатор. Считал, что нам давно пора прекратить кочевой образ жизни, а вместо этого — закрепить за собой большие земельные угодья, которые и обрабатывать. Многие понимали, что он прав. Но, справедливости ради отмечу, были и такие, кто никак не мог смириться с прогрессом. Моему отцу, — вождю нашего немногочисленного племени, — они доставили немало хлопот. Особо усердствовал один приблудный, Ишуа, который в племени считался не то, чтобы низшим, но явно к руководству не принадлежал. Тот разглагольствовал, что, дескать, занимая землю, мы поступаем не по-божески, поскольку она принадлежит всем по праву. И пользоваться ей имеют право, стало быть, все. И, раздраженно заключал за Ишуа отец, нам, следуя этой логике, не остается ничего другого, кроме как остаться толпой оборванцев, которые скитаются по кругу с немногочисленным скарбом из века в век.
Сердцем я понимал Ишуа, разумом — отца.
Больше всего мне нравилось странствовать в пределах нашего небольшого мирка. В то же время, не прекрати мы вовремя своих странствий, нас бы поработили оседлые соседи. В общем, классический переход от кочевого скотоводства к оседлому земледелию. Со всеми вытекающими отсюда конфликтами интересов. Ничем хорошим это для политических противников отца не закончилось. В один прекрасный день он собрал их всех, во главе с Ишуа, и пригласил на пирушку. Будь они хоть чуточку благоразумней, сразу поняли бы: здесь дело нечисто. Но у них, все еще наивных, как дети, по-прежнему были извращенные представления о каком-то там кодексе чести кочевника: человека, не покидающего седла. Согласно этому кодексу, жизнь гостя для кочевника священна. В принципе, с этим никто и не спорил. С этим согласился даже отец, когда слуги вытаскивали из нашего шатра окровавленные трупы Ишуа и его приспешников.
— Только вот их беда в том, сынок, — сказал он, подняв мой подбородок, — что я давно уже не кочевник. И их кодексы для меня ничего не значат… А сейчас ступай и помоги слугам выбросить трупы подальше. Только не прикасайся к телам руками!
После этого случая, укрепившего власть отца, его авторитет среди окрестных племен лишь вырос. И некоторые из них перешли под наш, как это теперь называется, протекторат. Вынужден признать, что в результате родительских новшеств наша жизнь изменилась, скорее в лучшую сторону. На четвертом году оседлости в племени появилось больше продуктов, чем мы смогли бы съесть до следующего урожая. Такое было впервые. Память негодного Ишуа и его последователей была посрамлена. Остатки оппозиции исчезли.
Когда отец умер, я, наконец, сумел претворить в жизнь свою давнюю мечту: заняться скотоводством. Но и земледелия мы не оставляли. В результате наше благосостояние значительно возросло. А обо мне заговорили как об умном и дальновидном молодом вожде. Особенно импонировало старейшинам то, что я начал проводить нововведения, дождавшись смерти отца, а не до нее, и, стало быть, уважил старину и не начал гражданскую войну. Хотя, честно признаюсь, мне это тяжело далось. Папаша уже на 107-м году жизни (скончался он в 120) стал совершенно невыносим. Капризный, раздражительный, нетерпимый ко всем инакомыслящим. В общем, классический азиатский тиран. Только в масштабах помельче. Это-то и ужасало: в конце концов, куда легче быть поданным тирана огромной страны, чем деспота маленького племени. В первом случае у вас элементарно меньше шансов попасть под горячую руку правителя. А к 112-му году жизни папаша окончательно впал в маразм и запретил скотоводство вообще. Чтобы возобновить его, мне пришлось ждать восемь лет.
Пустяки для библейских старцев, скажете вы. Нет, не пустяки, далеко не пустяки. Восемь лет, и восемь лет под неусыпным надзором доносчиков кошмарного деспота, раздражительного тирана, убившего четверых своих сыновей (ему показалось что огни, видите ли, недостаточно почтительны к папочке) — совсем не одно и то же. Каждый час из этих восьми лет я рисковал жизнью.
Неудивительно, что я начал пить.
Причем так сильно, что это, как вы уже сами убедились, вызывало насмешку даже у морских свинок. Но и пить мне приходилось крайне осторожно: если бы отец узнал, что я — алкоголик, он бы никогда не оставил меня наследником власти. Поэтому я ухищрялся пить так, чтобы это никто (даже жена моя) не заметил. Сначала чашку горячительного, потом две, затем три. Потом — четыре, и еще — вино, которое оставалось дома. Постепенно многие стали удивляться красному цвету моего лица и постоянным головным болям. Приходилось врать, что мой организм очень чувствителен к перемене погоды. Кстати, так оно и было: пьяницы очень чувствительны к малейшим колебаниям давления в атмосфере. Да и голова у меня болела постоянно: повязку, смоченную в холодной воде с уксусом, я практически никогда не снимал.
Но при этом от меня никогда не пахло. Никогда! Что вы. Малейший запах спиртного, и папаша велел бы забить меня камнями прилюдно. Сын-алкоголик — какой позор для племенного князька. При этом его совершенно не интересовало бы мое оправдание, что алкоголиком меня сделали его подозрительность, властность и нетерпимость. Не то, чтобы он был не способен воспринимать разумные аргументы. Нет, папаша был не дурак. Он этого бы просто не понял. Это объяснение — не из его мира, не из его системы координат. Мы бы говорили с ним на разных языках. Он был упертым, как баран, этот человек, говорю вам. И нисколько этого не стыжусь.
Ах, да, запах. Простите, я сбивчив. Так вот, чтобы избежать его появления, пил я вдалеке от дома. Выбирался в пустыню часам к пяти вечера, чтобы, как говорил домашним, побыть в одиночестве. Естественно, следили за мной и в пустыне, — исключительно ради того, чтобы знать, не сговариваюсь ли я там с кем-то о смещении с поста вождя моего драгоценного папаши. И потому никаких подозрений донесения наушников у отца не вызывали: они говорили ему, что я лишь сижу по несколько часов на пригорке, время от времени пью воду из меха (мне специально пришлось создать себе славу водохлеба) да разговариваю с небом.
Папашу это так впечатлило, что он решил, будто я — будущий пророк. О, конечно, будущий. Ведь пророка рядом с собой, при своей жизни, он бы не потерпел никогда!
То есть, мысль о том, что он породил человека, запросто общающегося с Богом, ему льстила. Но — в перспективе, исключительно в перспективе. Соседство рядом с пророком грозило его власти. Но и убить меня он не мог, потому что это навредило бы его посмертной славе. Поэтому папаша нашел, как ему казалось, золотую середину. Призвав меня к себе, он участливо поделился со мной своими терзаниями (того, что вы сейчас называете комплексами, у него не было совершенно) и попросил меня держать язык за зубами насчет моих разговоров с Богом. А вот когда я покину сей бренный мир, можешь этого не скрывать, заключил он. Что я мог сделать? Простершись ниц, пообещать, что выполню родительскую волю. Вот и все. Не противно ли мне было делать это? Да нисколько. К тому же, лежа на пыльной земле, удобнее скрывать улыбку.
Ведь никаких разговоров с Богом я не вел. Просто беседовал с собой, когда алкоголь хорошо растворялся в крови. А после того, как опьянение на свежем воздухе постепенно проходило, возвращался домой, стараясь не наткнуться ни на кого по пути, выпивал литра четыре ледяной воды, а потом блевал. Затем — снова воды, и так до тех пор, пока алкоголь не выходил из меня весь.
И так — восемь лет.
Теперь вы понимаете, что к моменту кончины отца я стал законченным алкоголиком, который не мог помыслить и дня без того, чтобы основательно не напиться. Разумеется, когда отец умер, я был очень рад. Вы думаете, первое, что мне пришло на ум — бросить, наконец, пить? Как бы не так: физическое привыкание к алкоголю было к тому времени у меня абсолютным. Я просто радовался тому, что смогу пить, сколько влезет, ни от кого не скрываясь. И, надо признать, первые несколько лет в этом преуспел. Но племена мне это прощали: кое-кого из старейшин я убедил, что это мне просто необходимо для общения с Богом, кому-то было на мое пьянство просто наплевать, потому что, как я уже упоминал, мое снятие отцовского запрета на скотоводство существенно повысило наше и без того высокое благосостояние.
Накормите людей, и они простят вам все на свете.
Увы, с Богом все оказалось не так. Не то, чтобы я совсем не верил в него, просто, — поймите меня правильно, — за все 120 лет моей жизни, предшествовавшей Потопу, Он ни разу не дал мне знать о своем существовании. Естественно, это не значит, что я отрицал его существование просто потому, что мы были незнакомы. Ведь не станете же вы говорить, что Иудеи нет, если ни разу там не были. Нет, я не настолько примитивен и глуп, как до сих пор пытаются доказать эти несносные животные, которых я, будем справедливы, спас. Да, ценой некоторых неудобств, но — спас.
В Бога-то я скорее верил, но из-за тотального отсутствия общения с ним как-то о Нем подзабыл. Вы бы тоже забыли. Мне постоянно твердили о том, что Он нас создал. Что ж, неплохо. Я не умаляю Его заслуги, и благодарен ему за это. Но, черт возьми, хоть некоторое содействие он мне мог оказать? Особенно в преддверии Потопа, насланного на нас. Кстати, я до сих пор убежден, что мы, люди, этого бедствия не заслуживали. Двойные стандарты. В этом все дело. Он утопил людей за то, как говорится в Библии, что они погрязли в грехе. Но, простите, они из него не вылезали никогда. Если уж по справедливости, то начать Ему следовало с Адама и Евы, которые согрешили еще в Эдеме. Заодно облегчил бы себе работу: Потом был бы куда меньше. Чего уж там: можно было вообще обойтись без Потопа. Просто попросил бы архангелов притопить эту парочку в Евфрате, вот и все.
Ну, хорошо. Будем считать, что грех Адама и его возлюбленной не слишком велик. По мне так, это вообще не грех. Может, они просто проголодались, и стянули с дерева первый попавшийся плод. Интересно, это Ему никогда в голову не приходило? Ладно, оставим прародителей. Но вот… Каин. Это ли не страшный грех? Убить брата, что может быть хуже? Но и тогда — никакого наказания. Абсолютно. Что? Ах, видите ли, Каина изгнали? Ну, и где в этом наказание? В то время, судя по Библии, на Земле было от силы сотня-другая, человек. И нет ничего страшного для одного из них в том, что его (с женой и детьми! удобная ссылка, не находите?) просят переехать куда-нибудь подальше. Километров за двести — триста. Нет, наказание, если мы вообще можем считать его таком, слишком мягкое, на мой взгляд. Тем не менее, именно так Каина и «наказали». Никаких Потопов, заметьте.
А вот множество людей, которые всего лишь обсчитывали покупателей, не вовремя молились, жадничали, порой изменяли женам и мужьям, но, заметьте, — не убивали своего брата, или сестру, или мать, вообще не убивали! — Он решил утопить.
У меня есть (и, надо признать, совершенно не прошло) подозрение, что Бог относился к Адаму, Еве, и их последышам чересчур мягко по той причине, что они были как бы его детьми. Родственные связи, знаете ли, они многое объясняют. Нет, конечно, все человечество не пошло от Адама, как вы полагаете. Ведь Яхве (Бог, наш Бог) был удельным князьком, божком небольшого племени, от которого пошли наши племена. То есть, если ты родственник Бога, тебе и море по колено, простите за жестокий каламбур. О какой справедливости мы может тогда говорить?
Но о справедливости Он никогда не думал. А, замышляя Потоп, он о ней вообще не вспоминал. Ему, видите ли, не понравилось то, что мы погрязли в пороках и блуде, и Он решил хорошенько вымыть свой народ. Искупать, так сказать. По мне, так купание с летальным исходом — не самое мягкое наказание для бедолаги, который забыл помолиться в субботу. Но об этом я никому, естественно, не говорил. Даже старался не думать об этом. Ведь когда ты думаешь, то участвуешь в, своего рода, беседе с Богом. Это ужасно: чувствовать, что ты постоянно находишься под наблюдением. Это нервирует, признаюсь я вам. Более того, году на седьмом после смерти отца я пришел к выводу, что он вовсе не ушел из моей жизни: просто его основательно заменил Бог. Так что свободней я не стал, если не считать появившейся возможности напиваться в любое угодное для меня время суток. Свободу алкоголизма я получил, чего уж там.
Впрочем, не воспринимайте мои сетования относительно выпивки чересчур уж всерьез. Ведь если бы я не напился в тот день, мне бы никогда не узнать о грядущем потопе, и, следовательно, не спастись, и не спасти огромное количество животных.
Люди? А что они? По вашему, я поступил негуманно, не взяв с собой на корабль жителей окрестных деревень? Но, во-первых, и тут я не стану спорить с морской свинкой, никто не поверил мне, когда я рассказал о намерении Бога утопить всех нас. Во-вторых, — и тут я вынужден признать горькую для себя истину, — к зрелому возрасту я стал мизантропом. Чего уж там: люди меня раздражали. О, нет, это вовсе не значит, что я их не любил. Любил, но раздражался, скажем так. Да нет, не вру! В конце концов, если бы не любил, то не взял бы на «Спасение» никого из своей семьи. А ведь причин относиться к ним теплее, чем к посторонним людям, у меня еще меньше!
Ну, дело в том, что в семье меня недолюбливали. Всегда. Может быть, причина этого в том, что мы с отцом были очень похожи, и родственнички нутром чуяли, что по смерти папаши от семейной тирании им все равно не избавиться. И были правы. Несмотря на то, что папашины методы я не одобрял, став главой семьи, их позаимствовал. Да, тирания. А как иначе, скажите, пожалуйста, управлять оравой неуправляемых кочевников, только-только слезших с седла, заносчивых, как дьяволы, драчливых, как цепные псы, лживых и лицемерных? Ведь для них обмануть ничего не стоило: более того, это считалось доблестью. Да что там говорить, взгляните на нынешних бедуинов. Рыцари песков? О, да. Но только между собой. В отношении чужестранцев кодекс кочевника не действует. В отношении другого кочевника, кстати, тоже. Единственная возможность выжить, и пользоваться уважением: надо представлять из себя ощутимую угрозу. Вас будут уважать только если станут бояться. И это я познал на собственном горьком опыте.
За первые несколько лет правления семьей мне пришлось подавить около десяти маленьких бунтов. Цель каждого из них была одна: унизить этого выскочку Ноя, которого никогда не любил папа, и самому (самой) стать главой семьи. Причины же были разные, и, отмечу, смехотворные. На мою власть покушались даже из-за нечаянно пролитой на плащ воды, неудачно отелившейся коровы, не услышанного приветствия. Чтобы утихомирить этот серпентарий, мне пришлось потратить немало денег, времени и сил. Двух самых дерзких пришлось даже убить. Вот вам и патриархальный мирный уклад!
Постепенно, замечая, что становлюсь очень похожим на отца, я начал понимать его. Увы, слишком поздно. Ну, это всегда так. Лучше всего понять мы можем только мертвеца. Так вот, я начал подозревать, что характер у моего папаши был вовсе не таким уж кошмарным, как мне представлялось. Напротив, делал я вывод, раз характер мягкий у меня, стало быть, и у него (давшего мне не только внешность, но и воспитание) был такой же. А все остальное, — авторитарные методы управления, склонность к тирании, заносчивость, — наносное. Изначально ему не свойственное. Решив так, я мысленно помирился с отцом, и даже принес извинения на его могиле. Правда, перед этим я немало выпил.
И к моей сбивчивой речи, безо всяких сомнений, прислушивался Бог. Я его не видел, но чувствовал — он где-то рядом. Отчасти это нервировало. С другой стороны, кто, как не Он, смог бы передать мои слова покойному папе?
Вы уж не думайте, что старый и спившийся Ной хочет рассказать вам историю всей своей жизни, а попутно оправдаться перед вами и обелить себя. Просто все это я рассказываю для того, чтобы вы поняли: к моменту, когда началась вся эта неприятная история с Потопом, нервы у меня были ни к черту. Я постоянно был на взводе. Часто срывался, иногда даже мог заплакать безо всякой причины. Никого это не волновало: все считали меня жестоким сумасбродом, чересчур эмоциональным, более того — склонным к душевным расстройствам. Причины никого не интересовали. Еще бы, записать ближнего своего в сумасшедшие гораздо легче, чем попытаться понять и простить его. До Иисуса было еще далеко, идея прощения особой популярностью у иудеев не пользовалась. Если бы вы и сказали кому-то: прости меня, ибо я часть тебя, на вас посмотрели бы как на психа. Никакие эмоциональные порывы не приветствовались. Напротив, вас могли счесть одержимым бесами, и после этого подвергнуть нелицеприятной процедуре: забить камнями. К экспромтам, — во всем, в том числе и в общении, — относились настороженно. С опаской, переходящей в маниакальную подозрительность. Никаких шагов право или влево. Никаких прыжков вверх!
Все было регламентировано, все расписано по пунктам: как ты должен себя вести с людьми, с богом, с женой, с домашним скотом; деревьями, насекомыми, птицами, землей, небом, водой; что ты должен думать или делать в той или иной ситуации. Мы были роботами в прямом смысле слова. Искусство поэтому не поощрялось. Ремесла не поощрялись. Паси скот (обрабатывай землю), выполняй все требования Контракта с Богом, и ты получишь свое в виде благополучия при жизни и процветания после смерти. В результате мне, чтобы найти мастеров, способных соорудить корабль, пришлось потратить немало времени. Но среди нашего народа я таких мастеров не нашел. Пришлось выписывать иностранных мастеров.
Полет их фантазии меня просто обрадовал: когда один из них, вдоволь насмеявшись над моим рассказом о потопе (конечно, я хотел взять их на борт!) предложил мне сделать закрытый корабль, воздух в который будет поступать по длинной трубе, я был поражен. Никто из наших до этого бы не додумался. «А такой корабль есть в Заповедях? А его конструкция одобрена Всевышним? А в скрижалях было хоть нечто подобное?». Вот что я услышал бы, предложи кто из моих соотечественников соорудить подводную лодку.