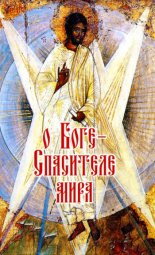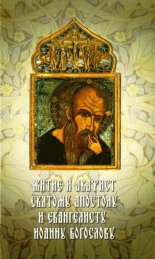Смех Again Гладов Олег

© Олег Гладов, 2014
© Екатерина Александрова, фотографии, 2014
© Екатерина Александрова, иллюстрации, 2014
Редактор Анастасия Контарева
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
За 35 дней и 1500 километров, до (…)
Пот сначала просто выступает на лбу крупными каплями. Потом бежит ручейками. Затем начинает выедать глаза.
— Алло?
Первая половина дня, а термометры уже зашкаливают за отметку 40 градусов выше нуля. Воздух струится, размазывая отдалённые объекты в непереносимом тяжёлом зное. Солнце выжигает сетчатку, искря битым бутылочным стеклом в пыли, словно крошечные вспышки электросварки.
— Алло?
В одинокой телефонной будке на окраине города Ад. Преисподняя. Железная коробка с чудом сохранившимися мутными стёклами раскалилась до предела. Превратилась в камеру пыток. На металлических частях многослойные следы бывших покрасок. Видно, что каждый последующий слой просто наносился на предыдущий. Теперь это словно срез земной коры. Когда-то в мезозойский период будка была красной. Потом — зелёной. Даже — синей. Сейчас преобладающий колор — ржавчина.
— Алло?
Трубка в этой раскалённой на солнце коробке чёрная. Скользящая в мокрой от пота руке. Воняющая горячей разлагающейся слюной сотен людей, говоривших в её хрипящий микрофон. Запах, вызывающий отдалённые позывы рвоты.
— Алло?
Пылинки медленно кружатся в вязком, как варенье, воздухе.
Полчаса назад на соседней улице жёлто-синий милицейский мотоцикл задавил чёрного котёнка. Он погнался за весёлой зелёной мухой. И теперь она, возможно, ползает по трупу. У него даже не было имени. Звенящие отголоски его безымянного ужаса, взорвавшего кошачий космос, доносит сюда. Мешает сосредоточиться.
Имя. Пылинка. Цифра в статистическом отчёте. Да и та — ноль. Ничего. Жалкая тень.
— Алло? Я вас слушаю?
Голос на том конце старой шипящей линии пуст. Как и миллионы голосов на этой планете.
Трубка медленно опускается на рычаг. Пылающий шар в небе сместился на несколько миллиметров. Это был последний номер. Последний город. Последняя попытка.
Здесь их нет.
Граница мира. Пыльная окраина с улицами без асфальта.
Последняя телефонная будка.
Конечная станция. Тупик. Дальше двигаться некуда. И незачем.
Их нет нигде. Ни в одном из городов, ни по одному из номеров, оставшихся в потрёпанном блокноте памяти. Все названия и цифры вычеркнуты. Замазаны чернилами.
Один. Теперь по-настоящему один.
Нюра Седашова искала котёнка. Маленького чёрного котёнка.
— Котик… кис-кис… котик… — она обошла все углы двора.
Поискала за сараями. Заглянула в чёрную дыру канализационного люка. Страшное место. Мама запрещала сюда подходить. Но сейчас мамы нет. Нюра огляделась по сторонам и опасливо заглянула в круглое отверстие:
— Котик… кис-кис…
Она направилась к песочнице. Котик иногда рылся там, закапывая свои каки. Но сейчас в сером песке, сквозь который уже успели прорасти крепкие сорняки, никого не было.
— Котик… — тоскливо позвала Нюра.
«Котик» — простое слово. С простыми словами у Нюры Седашовой было более-менее нормально. «Песочница» и «канализация» были словами сложными. Они никак не хотели запоминаться. Растворялись в воздухе. Лопались пузырьками. Таких пузырьков в её голове было много, сколько Нюра себя помнила. Они весело шевелились у неё внутри, щекотались и мешали сосредоточиться. Они носились по кругу, выписывали спирали и прыгали. Они не давали ничему задержаться, выпихивали всё многослоговое. От их постоянного присутствия в голове тихо и радостно звенело. И сама голова была похожа на большой звенящий пузырь.
— Нюра! Нюра Нюра! — хихикали мыльные шарики, пытаясь развеселить её. И она
улыбалась.
«Нюра» — простое слово. Но запоминать его пришлось очень долго. Мама повторяла его постоянно, пока Нюра не привыкла к тому, что «Нюра» — это она.
Ко многому нужно было привыкать, но так и не получалось. К солнышку, к тому, как включается телевизор и какой из кранов таит в себе горячую воду. Всё это трудно было запомнить, потому что весёлые пузырьки всё время отвлекали её.
Нюра так и не научилась завязывать шнурки. А пора было бы: в следующем году ей исполнялось сорок лет.
Мозг Анны Сергеевны Седашовой не смог бы воспринять эту информацию. Он, как и его хозяйка, навсегда остался в трёхлетнем возрасте.
— Котик… кис-кис… — Нюра подошла к выходу из двора и осторожно оглянулась на своё окно. Дома в этой части города были старыми двухэтажками, сложенными из хрупкого ракушечника. По ночам они скрипели своими полупрогнившими перекрытиями и заставляли прятаться под одеяло с головой.
Нюра ещё раз посмотрела на свою форточку и медленно двинулась к дороге, по которой, рыча, ехали большие и страшные машины. Она в любой момент ожидала маминого окрика: выходить за двор было строго запрещено.
Нюра увидела пожарную машину с включенными мигалками и, открыв рот, выбежала на тротуар. Машина, громко вопя сиреной, пронеслась мимо.
— Бибика! — зачаровано сказала Нюра.
Следом за первой проехали ещё несколько красных автомобилей.
— Бибика! Бибика! Бибика! — запрыгали шарики.
Нюра с удовольствием посмотрела на своё пальтишко. Оно такое же красное, как и большие машины. Мама не разрешила бы надеть это пальто в такую жару. И пуховый платок. И новые ботики. Но мамы не было. И Нюра долго примеряла свою любимую одежду, крутясь перед трюмо. А потом вышла искать котика. И сейчас на тротуаре она совсем забыла про чёрного котёнка, пожарные машины и маму. Она гладила своё пальто рукой, наблюдая, как распрямляются мягкие ворсинки. А потом огляделась по сторонам.
Сначала она не поняла, где находится, и испугалась. Но увидела за спиной свой двор и успокоилась. Зачем же она сюда вышла? Наверное, чтобы сходить к магазину. Там интересно. Там можно сесть рядом со ступеньками, и тогда в стаканчик кто-нибудь кинет денежку. Мама очень ругала ее за это. Но сейчас мамы нет.
Нюра нащупала стаканчик в кармане и пошла к булочной.
Нюра не могла ориентироваться во времени. То, что было утром, было «давно». А вчера — «очень давно». Поэтому она не смогла бы сказать, как долго нет мамы. А между тем, мамы не было «очень-очень-очень давно». Она умерла полгода назад. Но Нюра не могла этого осознать.
— А где мама? — спрашивала она иногда тётю Зою, присматривающую за ней.
— Скоро придёт, — отвечала та, поглаживая Нюру по волосам.
— Ага, — говорила Нюра и сразу забывала о маме: шарики уже рассказывали что-то интересное.
Но сейчас не было и тёти Зои. Она «давно» ушла с большой сумкой. Поэтому остановить Нюру и поругать было некому.
Она подошла к магазину, достала пластиковый стаканчик и присела на своё любимое место. Справа от двери. Сначала она смотрела на разноцветные бибики, проезжающие мимо и слепящие солнечными зайчиками, прыгающими по их хромированным деталям. Нюре хотелось мороженого, но денег в стаканчик пока никто не бросал. Потом она забыла и про мороженое: по асфальту одинокий муравей тащил здоровенную стрекозу. Когда-то очень давно мальчишки во дворе привязали к такой же стрекозе ниточку и дали Нюре подержать. Стрекоза била крылышками и хотела улететь в небо. Но Нюра не отпускала. Тогда было интересно и весело. И понятливые мыльные пузырьки, почувствовав её настроение, завертелись ещё быстрее. Нюра окунулась в радостное щебетание и наблюдала за их прыжками и танцами.
— Нюра! Нюра! Нюра! — смеялись они.
Шарики никогда не молчат, они всегда с ней. Всегда в ней. Успокаивают её ночами и веселят по утрам.
— Мы твои друзья! — звенят они своими тоненькими голосами. — Нюра! Нюра! Нюра!
Она почувствовала тень на своём лице.
— Ню… — осеклись шарики и замолчали. Только лёгкий звон продолжал звучать в мыльном пузыре её внутреннего мира.
Она подняла глаза.
Из поднебесья, из-под самых облаков, прямо в неё упёрся взгляд тёмных, как уголь, глаз. «Какой красивый! — подумала Нюра, увидев бледное лицо, приближающееся к ней. — Красивый, как…»
— Здравствуй, Анна, — услышала она голос.
И в ту же секунду звенящий мыльный пузырь лопнул. И она увидела пыльный, жаркий полдень, машины, летящие по дороге, и дохлую стрекозу на тротуаре. Бледный, коротко стриженый человек стоял с ней рядом. «Ему плохо, — подумала Анна, — ему очень плохо».
— Пошли домой, — сказал он спокойно. И она поняла, что это спокойствие вызвано надвигающимся мороком.
— Пошли, — сказала она, — здесь недалеко…
— Кто ты?
— Молчи.
— Тебе плохо?
— Очень. Молчи. Закрой дверь. Никого не впускай.
— Тётя Зоя скоро придёт, у неё есть ключи, что я ей скажу?
— Скажешь,
Я твой брат.
Приехал в гости.
Скажешь,
Заболел.
— Но она… не поверит.
— Она поверит. Говори, и сама поймёшь, что говорить. Я помогу. Не думай. Просто говори.
А сейчас молчи. Молчи.
Нужна тишина.
Тишина.
Тишина.
Тс-с-с-с-с-с-с-с…
Иглы, имена & телеграммы Part 1
Иногда мне кажется, что главная причина того, что произошло, в том, что мне с детства не нравилось моё имя. Не то чтобы мне прямо в роддоме не понравилось сочетание звуков, которым меня нарекли. Но в тот момент, когда я осознал, что у окружающих тоже есть имена, моё мне разонравилось окончательно.
Вокруг меня непринуждённо передвигались в пространстве Сашки, Сантёры и Шурики.
Вокруг меня стреляли из рогаток и ставили подножки Димки, Димоны и Димасы.
Дёргали за косички и воровали велосипеды Жеки и Жендосы.
Получали двойки, кидались собачьими какашками Серёги, Юрчелы, Вовики, Ромчики и Витюхи.
И только я — словно в белых бабских коньках на катке — торчал у всех на виду со своим дурацким, отвратительным, ни в какие ворота не лезущим «Артём».
Артём. Застрелиться можно.
Застрелился бы. Особенно когда узнал, что изначально меня хотели назвать Александром.
То есть Сашкой.
То есть Сантёром, Шуриком, Шурдосом, Шурмапедом.
— А почему не назвали? — спросил тогда четырёхлетний я.
За неделю до того, как я с божественной прыткостью покинул лоно моей матери, в далёком Мурманске появился на свет крепкий голубоглазый мальчик. Мой двоюродный брат. В его свидетельство о рождении вписали: Александр.
— Но почему Артём-то? — недовольно спрашивал я. — Артём-то зачем?
Затем, что ни по маминой, ни по папиной линии Артёмов ещё не было. А Александр теперь, соответственно, был. Мурманского кузена по этой причине я ненавидел до десятилетнего возраста. Как оказалось, впрочем, зря.
Но больше всего бесило то, каким отчеством я награжу своих детей. Сын мой с детства станет носить идиотское клеймо «Артёмович». А бедная моя дочь будет до конца жизни страдать какой-то нереальной «Артёмовной», дружить с ней нормальные люди откажутся, и хорошего мужа она себе не найдёт.
Какое бы имя я ни подставлял, получалось всё равно мерзко: Наталья Артёмовна… Не-а. Валерия Артёмовна? Тьфу!.. Ксения Артёмовна? Вообще на голову не натянешь… Будущую дочь нужно было спасать. В четвёртом классе я стал выписывать в тетрадку все имена подряд. Потом — просто все слова женского рода. Исписав 96 листов, я с ужасом понял: единственное благозвучное сочетание, пришедшее мне в голову, — Ракета Артёмовна.
Тетрадку я порвал и сжёг за домом. После чего решил вообще не жениться. Потом я привык. Потом мне стало пох.
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
Звук, который сопровождает тебя постоянно, становится безликим. Все эти «тик-так» со стены в зале, шум воды в трубах и урчание холодильника.
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
Во время войны водители засыпали на ходу, за рулём прямо под взрывы бомб. Они их не слышали. Тут главное привыкнуть.
Люди, живущие возле железнодорожного полотна, не просыпаются посреди ночи. А днём просто делают телевизор погромче. Они не слышат стука колёс.
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
Можно, не спеша, есть под звук вбиваемых в землю свай. Можно спокойно спать под гул взлетающих самолётов.
Главное — привыкнуть.
К глухому шуму за окном. Непрекращающемуся ремонту у соседа. Ежедневному жужжанию у тебя в руке.
— Ай!
Говорят, к боли можно привыкнуть. Даже получать удовольствие. Мазохизм… Вроде так.
— Ай!
Грудь — место чувствительное. Рядом проходят нервные окончания соска. До него пара сантиметров, но ощущения малоприятные. Будто водят раскалённым гвоздём. Есть места повеселее. Например, кожа на рёбрах.
— Ай! Ты делаешь мне больно!
— А ты всегда бреешь грудь?
Я опускаю конец иглы в маленькую ёмкость с краской:
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
Стены до самого потолка увешаны листами с чёрно-белыми и цветными рисунками. Узорами. Celtic & afro. Tribal & котята. Языки пламени и улыбающиеся мышата. Большинство уже перекочевало на кожный покров десятков людей. Сотен. Растиражировано в массы.
Я копировальный аппарат. А сидящий в кресле — ещё один лист бумаги из пачки. Он говорит:
— По контракту положено.
— И ноги бреешь?
— И ноги.
— И лобок?
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-жж-ж
— И лобок… Ай! Ты садист!
— А ты пидор.
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
— Я не пидор.
— Ты танцуешь для пидоров.
Каждый вечер, кроме понедельника. Групповой танец в форме морячка. Одиночный — в кожаных шортах с подтяжками. Приват — в слипах. Так, что веревка давит в анус.
— Для старых толстых пидоров.
— Я не пидор, — говорит он.
— Я танцор, — говорит он.
— Стриптизёр, — поправляю я, — конец иглы опускается в ёмкость с краской. 10 фунтов за 10 ml. Качество. Прямая поставка из Лондона.
— Они трогают тебя руками? — спрашиваю я.
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
— Они суют тебе в трусы деньги?
— Конечно. Это моя работа, — он морщится, — тебя не раздражает это жужжание?
— Нет.
Главное привыкнуть.
— Скоро уже?
Если когда-нибудь, кому-нибудь придёт в голову составить сборник часто задаваемых вопросов, я внесу свою лепту. Каждый сможет. Человек любой профессии. Глав в такой книге будет много. Но сами они будут очень короткими.
Глава «Продавец». Или «Работник торговых предприятий»:
Сколько стоит (название товара)?
Или:
Можно посмотреть этот (название товара)?
Или:
Срок годности (название товара) не истёк?
«Скоро уже?» Вот что я скажу составителю книги.
Неисчислимое количество раз. Биллионы? Квадриллионы? Сикстиллионы?
Много раз. Каждый раз.
Я выключаю машину, снимаю резиновые перчатки, протираю вздувшийся эпидермис чистой салфеткой, протягиваю мыло:
— Промой хорошенько.
Я открываю ящик и достаю один из тюбиков:
— Детский крем. Смажь сейчас. И каждый день, пока не заживёт.
Я говорю:
— Не отковыривай корочку. Пусть отпадёт сама.
Он смотрит на своё отражение в зеркале.
— А скоро заживёт?
Где ты — составитель книги?
— Скоро, — я смотрю на часы. Мне нужно успеть сделать ещё одно дело. И сделать его нужно именно сегодня.
— Рейс на Волгоград отправляется с четвёртой платформы через пятнадцать
минут.
Голос диспетчера, искажённый и усиленный динамиками, рикошетит о стены, прохладный мраморный пол и теряется где-то в вышине. В районе выгнутого дугой купола с пыльными стёклами.
У мужика, стоящего в очереди передо мной, потускневшее от времени обручальное кольцо из паршивого золота и грязь под девятью ногтями. Десятый ноготь отсутствует. Вместе с мизинцем левой руки.
— Уважаемые пассажиры. К вашим услугам на втором этаже автовокзала
круглосуточно работают секция игровых автоматов, комната матери и ребёнка, медпункт.
У диспетчера неестественно бодрый голос и странный акцент. Средние частоты, преобладающие в динамиках, делают этот акцент совсем уж запредельным. Марсианским?
У мужика впереди — выцветшая невнятная татуировка на тыльной стороне ладони.
«Коля»
Набита лет тридцать назад канцелярской копеечной тушью, которая продаётся в тысячах магазинов вместе с ватманами, циркулями и прочей хренью. Машинка была самодельной. Из электробритвы. А струна, которая использовалась вместо иглы, — тупой. Когда игла недостаточно остра, она рвёт ткани, нанося микротравмы. Повреждённые участки начинают кровоточить. Кровь смывает тушь, не давая ей закрепиться на коже. Результат — вот он. В полуметре от меня.
— Уважаемые пассажиры. В связи с участившимися террористическими
актами, просим вас обращать внимание на…
Марсианин предупреждает нас о готовящемся инопланетном вторжении. Сгорающих в клубах огня городах. Сожжённых посевах. Что ж. По крайней мере, честно.
Очередь к кассе сдвигается на пару десятков сантиметров. Я делаю шаг и смотрю по сторонам. Недалеко от меня несколько рядов пластиковых сидений. Женщина с гигантской клетчатой сумкой и маленьким мальчиком в розовых сандалиях; две пожилые женщины, неторопливо жующие пирожки; два парня и рыжая девчонка с огромными туристическими рюкзаками. Я не слышу, о чём говорят эти туристы, но по тому, как рыженькая держит за руку ближайшего к ней молодого человека, понимаю: они парочка.
Я понимаю даже несколько больше. Такое со мной бывает иногда. Мимолётное ощущение. Словно испаряющаяся в доли секунды капля жидкого азота. Описать я это не могу. Ощущение? Чувство? Предчувствие? Не знаю…
Я называю это «чуйка».
За несколько мгновений до того, как чашка с горячим кофе выскользнет из руки сидящего за соседним столиком в кафе. За секунду до произнесённых вслух слов. За некоторое время до супружеской измены в семье знакомых. Я это
Ощущаю? Предчувствую? Чую?
Это бывает редко. И всегда неожиданно.
Эта рыженькая. Прижимающая к себе локоть своего блондина. Она ему изменяет. Вот с тем, вторым, сидящим через сидение от неё и вытирающим лоб зелёной банданой.
Чуйка.
Очередь сдвигается ещё на десяток сантиметров. Марсианин сообщает, что через пятнадцать минут от второй платформы отправится автобус в Воронеж. Почему не на Марс? Я смотрю на правую руку стоящего передо мной.
Когда член «якудза» совершает проступок, он отрезает себе палец. Я думаю, мелкий какой-нибудь проступок. Потому как, если японский браток напорет откровенных боков — тут и тремя пальцами дело не ограничится. Ему тогда голову, нах, отрежут. Ну… это я так думаю.
Вряд ли, конечно, «Коля» имеет отношение к «якудза». Эти черти в тату шарят не по-детски. В каталогах сотни фоток. Японская школа — одна из древнейших на земле.
Я вообще до хрена знаю о татуировках. А хуль? Работа такая. Правда, сегодняшнее моё дело с работой никак не связано. То есть, абсолютно никак.
— Мне один до Софиевки… — говорит «Коля» в окошко кассы. Жду, когда он заберёт свой билет.
— Один. До Чёрного Яра, — я протягиваю деньги усталой кассирше.
Сегодня 15 июня.
Жара просто полный «пэ». Ташкент. Африка.
Автобус — жёлтый дребезжащий сарай на колёсах. Салон — топка мартеновской печи с изрезанными липкими сидениями. Воняющий навозом, протухшей капустой, потом. В открытые люки под потолком врывается горячий воздух. Он пахнет: а) навозом, б) протухшей капустой, в) потом.
Мои попутчики — несколько старушек с пустыми вёдрами, звякающими на ухабах. На задней площадке два мальчугана, вцепившись в новенький, завёрнутый в промасленную бумагу велосипед, раскачиваются в такт движению. По-моему, велосипед в таком же полуобморочном состоянии, как и все.
Сарай на колёсах карабкается на пригорок. Поднимает клубы пыли на отрезке дороги вдоль лесополосы. Потом с выключенным двигателем катится с затяжного спуска. Так, под шуршание шин и дребезжание пустых вёдер, — мы минуем знак «ограничение скорости 30 км» и вкатываемся на просторный асфальтированный пятачок. Двери с обречённым шипением открываются. К этому моменту мою футболку с лого «Micky Sharpz» можно выжимать.
Конечная остановка.
Чёрный Яр. Крошечное село в сорока километрах от города. Здесь, в низине, телеантенны возле дворов торчат на длиннющих шестах с растяжками. Смотрю на экран мобильника. Так и есть: «поиск сети». Единственное средство связи с внешним миром — автобус. Нет. Есть ещё телефон. Вернее целых три телефона: в сельсовете, у участкового и на почте. Старушки с вёдрами бредут к магазинчику. Он справа от меня. Пацаны вытащили велик из салона и уже копаются в тени с отвёртками и гаечным ключом.
Почта слева. Мне туда.
Мою бабулю (царствие ей небесное) звали Надежда. Баба Надя была предпоследним ребёнком в большой крестьянской семье. Самого младшего ребёнка назвали Раисой. Бабуля моя очень любила свою младшую сестру. Сегодня пятнадцатое июня. День рождения бабы Раи. На почте я беру бланк для телеграмм. Устраиваюсь поудобнее за исцарапанным столом в углу. Текст я знаю наизусть. Год назад день в день и чуть ли не минута в минуту я уже заполнял точно такой же бланк. И в предыдущие пять лет тоже.
Баба Рая мне не нравилась с детства. Не могу объяснить почему. Моложе моей бабушки на десять лет. Опрятная. Морщинки вокруг глаз. Конфеты из своего Мариуполя привозила, когда в гости приезжала. По голове гладила.
«ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ДОРОГАЯ РАЕЧКА», — пишу я.
Конфеты я не любил. Как и мороженое. Я был ненормальным ребёнком. Я любил борщ. И вареную курицу. И томатный сок.