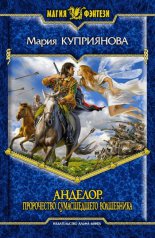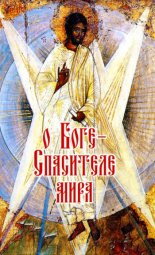Здесь мертвецы под сводом спят Брэдли Алан

Если я правильно помню, во Франции есть место под названием Ланс. Наш сосед Максимилиан Брок, концертирующий пианист на пенсии, рассказывал мне, что однажды местные шахтеры забросали его кусками угля, когда он, не подумав, начал свое выступление с патриотического произведения Перси Грейнджера, вместо того чтобы сыграть Дебюсси, указанного в программе.
Но при чем тут палас? Имеется в виду ковер? Или это тоже географическое название? Я не имею ни малейшего понятия. Если Макс будет на похоронах, можно его спросить.
Или я неправильно прочитала слово? При нагреве буквы расплылись так быстро, что изначально они вполне могли означать Линц – а это город в Австрии. Я в этом вполне уверена, потому что однажды Фели упомянула, что Моцарт написал там в состоянии сильного умственного напряжения одну из самых лучших своих симфоний – всего за четыре дня по заказу какого-то старого графа[16].
Но какая связь между Линцем или Лансом и Харриет? Какое послание может содержаться в этих словах?
Должно быть, что-то очень важное, поскольку Харриет, упавшая в ледяную расщелину и знающая, что надежды на спасение нет, написала свои последние слова мочой на бумажнике из промасленной ткани, в который она положила свое завещание.
Обработанная поверхность должна была сохранить ее послание в неприкосновенности, по крайней мере, до той поры, когда в будущем исследователь – я вздрогнула при мысли, что им оказалась я, – нагреет бумажник и обнаружит эти слова.
Но ЛЕНС ПАЛАС?
Бессмыслица.
Может, это отсылка к какому-нибудь фильму? Если да, то к какому?
Непохоже, чтобы Харриет оставила такой туманный ключ, и хотя он загадочен, кто-то где-то должен его расшифровать.
Послание должно стоить таких усилий.
Если бы у вас осталась лишь пара слов перед смертью, что бы вы сказали или написали?
Одно точно: ничего легкомысленного.
Может, это анаграмма – простая перестановка букв: Л-Е-Н-С-П-А-Л-А-С.
Я попробовала попереставлять буквы, чтобы получить другие слова, но у меня ничего не получилось. Слов было множество, но они не имели смысла.
На миг я подумала, что может, это простой шифр с заменой, одна из тех салонных игр, когда А равно Б, Б равно В, в которые нас заставляла играть гувернантка мисс Герди дождливыми днями до того, как начались Неприятности.
Очевидным решением, конечно же, будет показать бумажник тетушке Фелисити – Егерю собственной персоной. Она точно знает, что с ним делать.
Но что-то меня удерживало. Я отдала завещание Харриет отцу – потому что это было правильно. Но послание моей матери – это совсем другое дело.
Почему?
Сложно объяснить. С одной стороны, завещание – это личное. Оно предназначено для того, чтобы донести желания Харриет, какими бы они ни были, до ее семьи. Но невидимое послание на бумажнике предназначалось кому-то совершенно другому.
По крайней мере, так мне кажется.
И потом, разумеется, остается неоспоримый факт, что я хотела приберечь что-то и для себя. Я легко могла отдать бумажник инспектору Хьюитту и позволить ему насладиться славой, расшифровав код, если он сможет это сделать.
Но разве это не то же самое, что отдать то немногое, что осталось от моей матери?
Честно говоря, я не хочу делить последние два слова Харриет ни с кем: ни с отцом, ни с тетушкой Фелисити, ни с полицией. У меня какое-то странное ощущение, что эти слова, возникшие из ниоткуда в тепле бунзеновской горелки, предназначаются мне и только мне.
Звучит глупо, но так я чувствую.
Я никому не скажу.
Выключив газ под бунзеновской горелкой, я наблюдала, как пламя угасло, оставляя комнату еще более холодной и печальной, чем когда-либо.
Я подтянула халат вокруг шеи, уселась на стул, зацепившись пятками за перекладину, и задумалась над рассказом тетушки Фелисити.
Харриет возвращалась домой через Индию и Тибет. Кто-то ее предал. За ней следили.
На леднике она упала.
Или ее столкнули?
Неприятное сходство с происшествием на платформе Букшоу, когда мужчину столкнули под поезд. Интересно, это совпадение?
Или за ним что-то кроется?
Стала ли Харриет жертвой убийства?
В дверь вежливо постучали. Я знала, кто это, еще до того как сказала:
– Войдите.
В комнату медленно вошел Доггер.
– Пришло время, мисс Флавия, – тихо произнес он.
Я сделала глубокий вдох.
Вот он.
Тот момент, которого я боялась всю свою жизнь.
27
Отец – не самый чувствительный человек. На самом деле иногда я сомневаюсь, есть ли у него вообще чувства. Может быть, его сердце хранится в ледяной пещере, в замороженном уголке сознания.
Но сейчас, усевшись на откидное сиденье «роллс-ройса» Харриет, по лицу отца я поняла, как он страдает.
Чем сильнее боль, которую он испытывает внутри, тем меньше он показывает снаружи.
Почему я не поняла это много лет назад?
Его лицо – словно фотографический негатив его души: белое – это черное, и черное – это белое, в точности как на той пленке, которую я проявила. Он приучен быть совершенно бесстрастным, и как же он в этом преуспел!
Невидящим взглядом он смотрел в окно на проносящиеся мимо изгороди с таким видом, будто он просто какой-то городской житель, направляющийся в центр Лондона провести еще один нудный день за полированным столом в каком-нибудь мерзком офисе. Сидя между Фели и Даффи, он не замечал, что я за ним наблюдаю.
Какой же он седой и бледный.
Еще час, – подумала я, – и этот мужчина увидит, как его возлюбленную опускают в землю.
В этот самый момент Харриет ехала где-то впереди нас в катафалке, в гробу, снова покрытом британским флагом.
Ее ненадолго внесут в церковь, скажут несколько слов – и все.
Я не раз была на похоронах, чтобы знать, что слов утешения, сказанных викарием, никогда не бывает достаточно, что живое воображение скорбящих сведет их эффект на нет. Все благоразумные слова Джона, Джоба и Тимоти не смогут вернуть Харриет де Люс, и мне остается только надеяться, что наш господь Иисус Христос больше преуспеет в деле воскрешения моей матери, чем я.
Знаю, что это звучит озлобленно, но так я сейчас думаю.
Даффи сжимала «Книгу общих молитв», из которой там и сям торчали клочки бумаги. Викарий попросил ее сказать несколько слов о нашей матери, и хотя сначала она запротестовала, в конце концов решилась и нехотя согласилась. По пятнам, оставленным ее карандашом, я видела, что она много раз стирала написанное в попытке сравняться с высокими стандартами Диккенса или Шекспира.
Мне было жаль ее.
Фели держала на коленях ноты для органа. Она, во всяком случае, сможет отвлечься, соображая, на какую клавишу и педаль надо нажать, и ей не придется, как всем нам, просто смотреть на гроб. Вот в чем прелесть работы органиста, полагаю: дело в первую очередь.
Адам и Тристрам следовали за нами с Леной и Ундиной в «рендж ровере». Адам предложил сесть за руль, и Лена согласилась. Старый «роллс» Адама со срезанной крышей, заставленный цветочными горшками, не соответствовал моменту, поэтому его оставили в Букшоу.
Миссис Мюллет с мужем Альфом ехали в кэбе Кларенса Мунди. Миссис М. скрыла лицо под черной вуалью, перед тем как сесть в машину, и сказала, что не поднимет ее, пока «мисс Харриет не похоронят должным образом».
– Бишоп-Лейси никогда не видел слез Маргарет Мюллет, – яростно прошептала она мне на ухо, – и не увидит.
Альф, увешанный всеми своими медалями, положил руку ей на руку и сказал:
– Тихо, тихо, девочка моя, – и только тогда я поняла, что под черной вуалью его жена содрогается от слез.
Церковное кладбище и подъездная дорога просто кишели людьми, так что Доггеру пришлось замедлить «роллс-ройс» до черепашьей скорости. Мы словно рыбы в аквариуме, за которыми наблюдают сквозь стекло.
Над головой торжественно проплывали пухлые белые облака, отбрасывая печальные тени на окружающий пейзаж.
Это ужасно. Просто ужасно, и звон огромного колокола делает все еще хуже.
Все глаза устремились на нас, когда мы вышли из «роллс-ройса», и по толпе волной пронесся шепот, но я не смогла разобрать, что говорили.
– Это дама Агата Дундерн, – прошептала Даффи, скашивая глаза в том направлении, куда я должна была посмотреть.
– Вице-маршал авиации? – спросила я уголком рта.
– Вроде того, – ответила Даффи. – Она десантировалась на парашюте в Арнем[17].
– Боже мой! – сказала я, хотя с легкостью могла бы представить, как она это делает. Эта женщина – пушечное ядро с нашивками на рукавах.
Мы обе подпрыгнули, когда нас обеих ущипнули за локти.
– Пожалуйста, заткнитесь, – тихо произнесла Фели. – Это похороны, а не ярмарка.
Она бросила на нас зверский взгляд и двинулась ближе ко входу, изо всех сил сжимая ноты в кулаке. Никто не попытался остановить ее.
Викарий встретил нас у входа на кладбище, и мы стояли в неловком молчании, пока шесть носильщиков, все мужчины и все незнакомцы, за исключением Дитера, аккуратно вынимали гроб Харриет из катафалка. На широком плече Дитера теперь покоилась голова Фели. Скоро в Бишоп-Лейси начнут чесать языки, я уверена.
– Отец настоял, – прошептала Даффи.
Я попыталась улыбнуться Дитеру, но не смогла поймать его взгляд.
Теперь викарий сопровождал нас к церкви. Он облачился в пурпурную епитрахиль поверх черной сутаны и в ослепительно белый стихарь.
На пороге стоял мистер Гаскинс, служивший одновременно могильщиком и пономарем, он жестами показывал, чтобы мы следовали за ним.
Церковные скамейки были уже заполнены людьми, многие стояли в задней части церкви и в боковых проходах, и внезапно все умолкли, когда орган заиграл навязчивую мелодию. Я сразу же узнала «Элегию» Дж. Толбен-Болла, которую Фели разучивала все эти дни, думая, что никто не в курсе.
Слева сидел Джослин Ридли-Смит со своим новым санитаром, которого я не узнала. Бедный Джослин, он думал, что я – это Харриет, и я задумалась, интересно, на чьи похороны, по его мнению, он пришел. Я ободряюще улыбнулась ему, и он, не вставая, улыбнулся мне в ответ и изобразил любезный поклон.
Дальше находилась Синтия Ричардсон. Они с Харриет были большими друзьями, и я с изумлением поняла, что на этих похоронах ей, быть может, еще тяжелее, чем мне.
В конце скамьи стояло инвалидное кресло, в котором сидел доктор Киссинг. Хотя я смогла поймать его взгляд, он не подал ни малейшего знака, что узнал меня. Я поняла, что он не хочет афишировать наше знакомство, по крайней мере, на публике. Он просто старый школьный директор отца, и не более.
Наша маленькая процессия двигалась по центральному проходу следом за носильщиками, и когда гроб Харриет с военной аккуратностью поставили на деревянные козлы за алтарными вратами, мистер Гаскинс жестами показал нам, чтобы мы заняли свои личные места в трансепте.
Доггер, Дитер и Мюллеты уже сидели прямо за нами. Их присутствие успокаивало меня. Дитер явно передумал, или кто-то заставил его передумать насчет того, чтобы держаться в стороне.
Наклонившись вперед, я могла видеть почти весь зал. Большинство обитателей Бишоп-Лейси уже столпились внутри и деловито листали «Книгу общих молитв» в поисках похоронной службы.
Мое сердце пропустило удар. У прохода сидели инспектор Хьюитт и его жена Антигона. Он что-то тихо говорил, наклонясь к ней, а она серьезно кивала.
Я хотела было помахать им, но сдержалась, потому что кое-кому это придется не по вкусу.
Антигона Хьюитт один раз пригласила меня на чай, а я тогда все испортила. Я выжидала, когда мне подвернется возможность попросить у нее прощения, но пока что безрезультатно.
Последний раз я видела ее неделю с лишним назад, когда она подвезла нас домой после пасхальной службы. Она пообещала свозить меня – только она и я! – за покупками в Хинли. «Девичник» – так она это назвала.
Но потом пришла трагическая весть о Харриет, и теперь маловероятно, что такой легкомысленный выход может состояться в обозримом будущем.
Лена и Ундина боком проползли на свои места рядом со мной. Лена была одета в черный костюм, а Ундина – в красное бархатное платье, и в ее волосах был черный бант.
– Я и не подозревала, что будет такой аншлаг, – пробормотала Лена в никуда. – Дайте протолкнуться.
Где-то в запутанных лабиринтах моего сознания что-то промелькнуло. Но это было лишь мимолетное видение в вихре образов.
Ундина поднесла к лицу экземпляр «Псалмов древних и современных», как будто плохо видела, и, прикрывшись книгой, показала мне язык и жутко скосила глаза.
Я произнесла в ее адрес неприличное слово одними губами, и уверена, она поняла, поскольку широко распахнула глаза, преувеличенно шумно втянула воздух и уронила челюсть, будто от изумления.
Она что-то прошептала на ухо Лене, но мне было наплевать.
Орган разразился ликующим песнопением, и от этой великолепной музыки у меня мурашки по спине побежали.
Все глаза устремились на гроб моей матери, и каждый из нас от удивления открыл рот, когда внезапный луч света пробился сквозь витражное стекло и озарил «Юнион Джек».
Мы с Даффи изумленно переглянулись. Можно было подумать, что похороны Харриет были отрепетированы на небесах.
Теперь вперед вышел викарий. Он помолчал минуту, дожидаясь, когда Фели доиграет элегию, и произнес те слова, которых я опасалась:
– «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»[18].
Это правда! Это происходит на самом деле!
Часть меня верила, что пока эти слова не произнесены над ее телом, есть еще надежда, пусть совсем слабая, на то, что Харриет еще жива. Но теперь, и это было трудно осознать, заверения викария, что Харриет будет жить вечно и никогда не умрет, стали теми самыми словами, которые сделали ее смерть официальной: смерть стала реальностью прямо на наших глазах.
Я содрогнулась.
На скамье рядом со мной Лена, делая вид, что утирает слезу, извлекла серебряное карманное зеркальце и тайком изучала свое лицо.
Викарий тем временем продолжал:
– «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога»[19].
И пока он говорил, мне в голову пришла блестящая идея!
Почему бы не замуровывать мертвецов в стеклянные блоки и не хоронить их в склепах под прозрачным полом? Тогда покойные легко могли бы видеть Бога, а он – их, не говоря уже о том, что потомки во время тихой воскресной прогулки могли бы следить, как их предки обращаются в прах.
Идеальное решение, и я задумалась, почему никто до сих пор не придумал ничего такого. Надо упомянуть об этом викарию в более подходящий момент.
– «Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною».
Он уже перешел к Тридцать девятому псалму, а мы только начали.
Я знаю, что Тридцать девятый – отнюдь не самый длинный из псалмов, но следом за ним будет Девяностый: «Господи! Ты нам прибежище в род и род» и так далее. А потом начнется поучение: часть одного из довольно длинных посланий святого Павла к коринфянам, то, которое заканчивается словами: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»
Я перестала слушать викария.
С другой стороны зала, в противоположном трансепте от витражей исходило чудесное сияние. Я с удовольствием восстановила в памяти список химических веществ, которые сотни лет назад использовались при их производстве: двуокись магния – для пурпурных оттенков, железо или золото для красных, соли трехвалентного железа – для коричневой кожи и хлорид серебра – для желтого цвета.
На одной из секций витража мускулистый мужчина, одетый в львиные шкуры и напоминающий церковного силача, спал, положив голову на колени женщины в красном платье, отрезавшей ему волосы чем-то вроде острых ножниц. Сзади, из-за портьер в углу комнаты, выглядывали человек шесть, наблюдая за процессом.
Когда я была младше, я верила – потому что так мне сказала Даффи, – что это женщина по имени Бренда, она помощник цирюльника, а мужчины, прячущиеся за портьерой, – это экзаменаторы, которые либо дадут ей лицензию цирюльника, либо нет.
Конечно же, это Самсон и Далила, а наблюдатели – правители филистимлян из города Газы, заплатившие ей, чтобы она его предала.
Под этой сценой был изображен желтый свиток с красивыми черными буквами:
Самсон – Далила
На следующей секции витража Самсон опрокидывал две колонны, между которыми его приковали, а зрители с комично удивленными выражениями лиц падали вверх тормашками с крыши, словно кегли.
Звуки органа вернули меня из Газы. Мы должны встать, чтобы спеть гимн. Я вернулась к реальности очень вовремя, чтобы присоединиться к первой строке:
- Ты доблесть ищешь? Вот,
- Славней нет мужа.
- Он верность пронесет
- Сквозь град и стужу.
- Сомненья не в чести,
- Преграды не найти,
- Дабы сошел с пути
- Паломник строгий.
Это тот самый великий старый гимн из «Путешествия Пилигрима в Небесную Страну», написанный Джоном Баньяном, когда он сидел в тюрьме. Вместо смягченной версии, которую обычно исполняют последние пятьдесят лет, Фели выбрала оригинальные слова, с которыми в книге Пилигрим обращается к Уповающему. Она сказала мне, что мелодия называется «Монашеские врата», и это замечательная вещь! Я не могла дождаться последней строфы.
- Кто, праздно говоря,
- Пустым рассказом
- Его тревожит, – зря
- Смутит свой разум.
- Не страшен великан,
- Ни лев, ни истукан.
- Пройдет сквозь вражий стан
- Паломник строгий.
Дама Агата Дундерн, обратив к свету свой суровый лик, вкладывала в эти строки всю душу, как будто она сама написала эту мощную военную песнь, и всего лишь несколько мгновений назад под ее руководством силы зла были повержены.
Даффи тоже пела со всей душой, и какой же у нее красивый голос! Почему я никогда раньше не замечала? Как я могла этого не видеть?
Я внезапно поняла, что когда гимн исполняется большой группой людей, чувства очень обостряются. Я отложила это наблюдение на потом, чтобы хорошенько его обдумать; полезный приемчик для того, кто практикуется в искусстве расследования. Наверное, именно поэтому инспектор Хьюитт так часто ходит в церковь.
Я бросила короткий взгляд в его сторону и увидела, как Антигона, видимо, думая, что никто ничего не замечает, сжала его руку.
Сейчас орган и паства готовятся к исполнению последней строфы – моей любимой:
- Злой искуситель, бес…
О, как же я обожаю чертенка и злого искусителя! Они – успех этого особенного гимна, и если бы было по-моему, я бы обязательно включила таких интересных созданий во многие гимны.
- Его не мучит.
- Он благодать небес
- В конце получит.
- Летят виденья прочь.
- Чтоб морок превозмочь,
- Трудись и день и ночь,
- Паломник строгий.[20]
Когда мы сели, викарий едва заметно кивнул Даффи. Она взяла свою стопку бумаг и поспешила на кафедру, где шуршала ими, пока я не начала думать, что вот-вот сойду с ума.
Из ниоткуда она выудила очки и нацепила их на нос, отчего приобрела вид горюющей совы.
– Я почти не помню свою мать, – наконец заговорила она, ее голос подрагивал и казался неожиданно тихим для простора церкви. – Мне не было и трех лет, когда она уехала, поэтому у меня остались только воспоминания о светлой тени, мелькнувшей на краю моего маленького мирка. Я не помню, как она выглядела, не помню звука ее голоса, но я точно помню, какое чувство она вызывала во мне – чувство, что меня любят. Пока она не уехала.
Когда она уехала, я больше не чувствовала, что меня любят, и начала верить, что, должно быть, мы с сестрами натворили что-то ужасное, из-за чего она нас покинула, хотя я никак не могла сообразить или предположить, что бы это могло быть. Видите ли, нам никогда не говорили, почему она уехала. Даже сейчас, сейчас, когда она к нам вернулась, мы не знаем причин. Надеюсь, вы не против, что я говорю так откровенно, но викарий сказал мне, что я должна говорить то, что чувствую, и быть честной.
Неужели это правда? Неужели Фели и Даффи не имеют ни малейшего представления о занятиях Харриет? Возможно ли, чтобы тетушка Фелисити, которая была и, по всей видимости, остается Егерем, намеревалась вечно скрывать от них истину?
Я глянула на отца, и от его вида – он просто стоял, чисто выбритый, неподвижный, прямой, – мне хотелось разрыдаться.
Даффи замолчала и по очереди обвела присутствующих взглядом. Повисло мертвое молчание, сменившееся нервным шорохом ног.
– То, чему мы стали свидетелями вчера и сегодня, – продолжила она, – позволяет сделать вывод, что тело моей матери было возвращено нам для похорон благодарным правительством, и за это я приношу ему благодарность.
Церковь снова затихла, так что можно было почти расслышать дыхание святых на витражах.
– Но этого недостаточно, – говорила Даффи, и ее голос стал громче, в нем прозвучали обвиняющие нотки. – Недостаточно для моего отца и для моих сестер Офелии и Флавии. И абсолютно недостаточно для меня.
Где-то рядом со мной всхлипнула миссис Мюллет.
Даффи продолжила:
– Мне остается только надеяться, что однажды нам скажут правду. Мы, ограбленные, заслуживаем не меньшего. Ограбленные – это слово точно описывает то, что произошло с остатками нашей семьи. У нас отняли жену и мать, нас лишили гордости, а скоро мы потеряем и наш дом. Посему я прошу вас молиться за нас. Как вы молитесь за упокой души нашей матери, Харриет де Люс, помолитесь за тех из нас, кто остался жив и понес тяжелую утрату. А теперь споем любимый гимн нашей матери.
Я хотела зааплодировать, но не решилась. Мне хотелось закричать: «Браво!»
Глубокая и зловещая тишина охватила церковь. Множество людей смотрели на крышу, на свои туфли, на окна, на мемориальные мраморные доски на стенах и на свои ногти. Никто не знал, куда девать глаза.
«Играй, Фели!» – мысленно взмолилась я. Но Фели держала паузу, пока несколько человек не начали покашливать, чтобы разрядить напряжение.
И тут заиграла музыка. Из глоток органных труб вырвались шесть невероятных нот!
Да-да-да-ДА-да-да.
Их нельзя было не узнать.
Люди переглядывались, узнав мелодию, сначала удивленно и с недоверием, а потом все шире и шире улыбаясь такой дерзости.
Даффи запела своим прекрасным громким голосом:
– Та-ра-ра-БУМ-де-эй, та-ра-ра-БУМ-де-эй…
А потом мелодию подхватил кто-то еще, невероятно, но кажется, это была Синтия, жена викария. Потом присоединились другие, сначала неуверенно, но потом с каждым тактом все тверже и тверже:
– Та-ра-ра-БУМ-де-эй, та-ра-ра-БУМ-де-эй…
Все громче и громче, пока почти все в церкви не запели:
– Та-ра-ра-БУМ-де-эй, та-ра-ра-БУМ-де-эй…
Откуда-то из-за купели эхом донесся гулкий бас мистера Гастингса, могильщика.
Викарий тоже пел, инспектор Хьюитт и Антигона пели, дама Агата Дундерн пела – даже я пела:
– Та-ра-ра-БУМ-де-эй, та-ра-ра-БУМ-де-эй…
Фели завершила произведение торжественным тушем, и затем орган умолк, как будто ошеломленный смелостью произошедшего.
Когда под балками и перекрытиями древней крыши стихла музыка, Даффи сложила свои бумаги и безмятежно вернулась на свое место в трансепте рядом с отцом.
Глаза отца были закрыты. По лицу текли слезы. Я положила руку на его ладонь, лежащую на подлокотнике, но, кажется, он не заметил.
Люди все еще улыбались своим соседям, покачивали головами, перешептывались, и повсюду, за исключением скамьи де Люс, в воздухе повисло умиротворение.
Я обернулась и посмотрела на Доггера, но его лицо было, как говорят в триллерах по радио, непроницаемым.
Даффи и Фели вместе это замыслили, – подумала я. За закрытыми дверями они спланировали это действо ноту за нотой. Жаль, что они не приобщили меня к своему плану. Я бы посоветовала им этого не делать.
Теперь вперед вышел викарий.
– «Но Христос воскрес из мертвых, – заговорил он, не моргнув и глазом, – первенец из умерших».
Как будто ничего и не было; как будто только что в его церкви не случилось нечто волшебное – может, и правда чудо; как будто «Та-ра-ра-БУМ-де-эй» не были последними словами, произнесенными им и всеми остальными.
– «Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут…[21] – и так далее, все эти красивые слова о славе солнца, луны и звезд, пока, как я и знала, он не подошел к неизбежному пассажу: – Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»
Вот и все. Нас оторвали от прекрасного пения и снова окунули в горе. Я сражалась со своими чувствами, уставившись на витражное стекло, как будто оттуда могла явиться помощь, как будто из разноцветных химических веществ на стекле могла родиться надежда.
Желтый свиток, скорее всего, был нарисован с помощью серы и кальция, черные буквы покрыты краской, которую составляли в средние века с помощью тщательно охраняемой формулы, содержащей точно отмеренные количества измельченного в пудру железа или окиси меди, связывающего вещества и мочи стеклодува.
Я снова прочитала эти слова.
Самсон – Далила
Сначала показалось, будто художник сделал ошибку. Буквы читались: Сашсон – Дапипа. М выглядело как ш, л – как п. Только когда глаз и мозг приспособились к затейливым изгибам готических букв, можно было увидеть, что на самом деле Сашсон – Дапипа – это Самсон – Далила.
Легко, когда начинаешь понимать.
Как и многое другое.
В этот самый момент, в этот тончайший отрезок времени меня осенило.
В моем мозгу возникли слова ЛЕНС ПАЛАС – эти жизненно важные слова, которые Харриет написала собственной мочой.
Конечно же! Как же все это ясно, когда начинаешь понимать!
С – это А. П – это Д, и клянусь всеми святыми, первая А – это Е и вторая – Ю!
Когда я начинала размораживать промасленный бумажник Харриет, буквы на старой ткани сразу же начали расползаться, с каждой секундой становясь все более непонятными и фантастическими.
Ее послание не было зашифровано и не содержало непонятные слова: «ЛЕНС ПАЛАС». Она написала имя женщины, которая сидела сейчас рядом со мной, полируя ногти под прикрытием юбки.
Лена де Люс.
Это Лена следила за Харриет от Сингапура до Индии и от Индии до их последней стычки в Тибете. Кто еще это мог быть? По каким другим причинам Харриет могла написать имя Лены невидимыми чернилами на наружной части своего бумажника, в котором хранилась ее последняя воля?
Моя кровь похолодела – и затем вскипела.
Я сижу рядом с убийцей!
Это создание, которое сидит и прихорашивается рядом со мной, словно кошка, слопавшая канарейку, убило мою мать! Свою собственную плоть и кровь!
Возьми себя в руки, Флавия. Ты не должна дать ей понять, что ты все знаешь.
В этот конкретный момент, – подумала я, – на всей этой огромной планете, которая вращается во Вселенной по предназначенному ей пути посреди других планет, ты одна-единственная из двух с половиной миллиардов ее обитателей – если, конечно, не считать Лену, – кто знает правду.
Что прокричала мне тетушка Фелисити в резиновую слуховую трубку во время нашего полета на «Голубом призраке»?
«Нам, де Люсам, доверена… вот уже триста с лишним лет… величайшая тайна королевства. Некоторые из нас на стороне добра… другие нет».
Ясно как день: Лена из тех, кто нет.
Почему я не прислушалась к своим инстинктам в тот первый раз, когда увидела эту женщину? Как я могла позволить ей спать – ей и ее противной дочери – под крышами Букшоу? От одной этой мысли меня затошнило.
Вопрос заключается вот в чем: зачем Лена приехала в Бишоп-Лейси?
Ужасное понимание пришибло меня, словно камни дома, обрушенного Самсоном.
Тот мужчина на вокзале – мужчина под колесами поезда, мужчина в длинном пальто, «тот, что разговаривал с Ибу», как сказала мне Ундина.
Он пытался предупредить меня – или хотя бы отца.
«Егерь в опасности. Гнездо под…»
Под угрозой – вот что он наверняка собирался сказать.
Но Лена была тогда на платформе!
Мужчина в длинном пальто говорил с ней. Ундина выболтала мне это, когда мы играли в игру Кима.