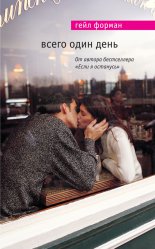Один человек (сборник) Бару Михаил
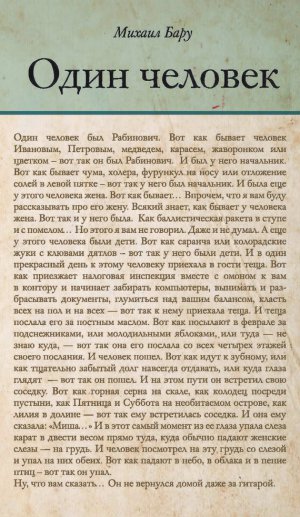
— Серёж, ты этого… заснял? Правда, что ли?! Пошли отсюда.
И они быстро ушли. А я остался доедать то ли сосиску с кетчупом и горчицей, то ли чебурек с яйцом, то ли шаурму Точно не помню[8].
Вчера вдруг страшно захотелось выпить почитать какую-нибудь книжку Не то чтобы совсем вдруг, но до этого терпел и ничего, а тут вот припёрло. Ну, и прямиком в книжный. Стою, стало быть, в очереди среди таких же книголюбов. Большая очередь. Стоим тихо — кто читает обложки на полках, кто трудовую копейку из дыр в карманах выуживает, а одна молодая пара так и вовсе друг дружке пересохшие губы языком облизывает. И тут слышу шум и ругань вдалеке, в районе кассы. Оказывается, бабка какая-то шумит. По виду бабки… хорошего ничего не скажешь. Завсегдатай этого книжного. Видимо, просит в кредит у продавщицы. А та не даёт. Кредит-то у бабки просрочен, а те векселя Юкоса и международного валютного фонда, что она предлагает в обеспечение покупки, магазин не принимает. Продавщица нервничает, посылает бабку на хср просит бабку как человека покинуть помещение на хер. Бабка, однако, не сдаётся. Да и кто бы сдался, когда с самого утра внутри последний день Помпеи. И тогда продавщица вызывает охранника. И он выплывает из подсобки точно крейсер или даже авианосец, в чёрном костюме и галстуке, играя такими мускулами, которые у нас, обычных людей, встречаются, может, у одного на тысячу. Да и те недоразвитые. Подходит он к бабке, двумя пальцами берет за рукав и, воротя нос в сторону, начинает выводить её на улицу. А бабка точно к полу приросла. Охранник уж её и в спину стал подталкивать, а она ни с места. Он на неё шипеть — мол, выходи скорее, заколебала уже всех. И по всему видно, что охранника сейчас стошнит от бабки. Еле-еле он сдерживается. Тут бабка и говорит ему: «Выйду я, выйду, не толкайся. На бутылку-то дай — я и выйду». Охранник аж поперхнулся. «Вали, — говорит, — бабка, по-хорошему. Последний раз прошу Я тебе сейчас дам, но не на бутылку, а по шее». А бабка к нему подошла поближе и выдохнула перегаром духами и туманами: «Не хошь на бутылку — дай тогда поцеловать тебя. Взасос». И слюну, которая у неё по подбородку текла, втянула шумно. И улыбнулась ласково всеми своими двумя гнилыми зубами. И побледневший враз охранник, худого слова не говоря, достал из кармана полсотни рублей и дал ей. И она ушла. Дверью не хлопала. Там дверь с механизмом таким, что им и не хлопнешь. А может, и зря он так откупился. Встречаются же заколдованные алкоголики принцессы. Редко, но встречаются. Они бы поцеловались, и она…
Утром в переходе с «Новослободской» на «Менделеевскую» сотни и сотни людей, ещё в масках последних снов, плотной толпой, покачиваясь из стороны в сторону, мелкими шагами продвигаются к эскалатору. Поверх толпы диктор бодро спрашивает из Левитанского, «что происходит на свете», в то время как ты чувствуешь себя пинкфлойдовским последним кирпичом в крепостной стене этого города, в котором тишина только матросская. А другой и нет.
Ближе к ночи на станции «Чистые пруды» прозрачным, невесомым и детским голосом пела романс «Отвори потихоньку калитку» седая измождённая старуха. Она пела и держала красными, узловатыми руками раскрытый для подаяний полиэтиленовый пакет.
Уж и поезд подошёл к «Красным воротам», а всё было слышно «не забудь потемнее накидку»…
Говорят, что человек перестаёт чувствовать себя иностранцем, когда его начинают спрашивать прохожие о том, как пройти, к примеру, в библиотеку Москвы, конечно, это не касается. Тут все спрашивают всех, и никто не знает, как пройти или проехать. Тем более в библиотеку. Здесь понаехали даже кошки с собаками. Зато почти все знают, как протолкаться. Но не расскажут. Я не знаю, как в Москве перестают быть иностранцами[9]. Нет, если ты олигарх, депутат или министр — всё просто. Купил себе немного Москвы и стал своим. Среди таких же москвичей. А если не купил? Не хватило трёх рублей, и не купил. Сосисок полкило, хлеба, шпрот и чая в пакетиках купил, а Москвы — нет. Тогда как? А не знаю.
Вот я ехал сегодня в метро и заснул. Я всегда засыпаю после «Кольцевой». На «Проспекте Мира» ещё книжку читаю, а на «Рижской» уже сплю без задних ног. Хоть бы и стоя. Сегодня, правда, спал сидя. С книжкой в руках и очками на носу. И где-то на «Алексеевской» разбудил меня пьяненький мужичок, который качался надо мной, держась за поручень. Разбудил и говорит: «Ну, ладно, пойду я. Приехал. Ты сам-то как? Дойдёшь?» И тут же вышел, не дожидаясь моего ответа. А я вдруг понял… Или мне показалось… Не знаю почему.
Нет, я никогда не буду москвичом. Да и без надобности мне. Но видимо, это происходит — если происходит — помимо нашей воли. Москва нас не спрашивает.
Мрачнее шоссе Энтузиастов только вестибюль станции метро «Шоссе Энтузиастов». Тусклый свет, мрачные нависшие своды, арки, точно надбровные дуги питекантропа, мозолистые пролетарские кулаки, цепи, винтовки, штыки, торчащие из стен. На одной из стен висит большая бронзовая плита, на которой изображена пылающая в огне дворянская усадьба. К ней, точно змеи к Лаокоону, тянутся крестьянские вилы, топоры и косы.
Говорят, что ещё несколько лет назад каждую ночь, ровно в двенадцать, эта плита со страшным скрежетом отодвигалась и из чёрного провала появлялся опутанный электрическими кабелями и паутиной призрак Чернышевского и громовым голосом звал Русь к топору. То ли так архитектор задумал, то ли оно само получилось — теперь уж никто не вспомнит, уборщицы и милиционеры Чернышевского сначала боялись, а потом привыкли. Стали уборщицы бегать за ним по перрону и кричать: «Гаврилы-ы-ыч…» Он подойдёт, поздоровается. А они, дурищи, давай тыкать его шваброй под рёбра — чтоб рассыпался на мелкие косточки и пенсне. Звон им нравился, с которым он рассыпался. Ну, он раз рассыплется, два рассыплется — да кто ж это каждый день терпеть станет? Мало того — милиционеры завели моду у Гаврилыча регистрацию проверять. Он, конечно, сначала питерским прикидывался, но и те не лычками сержантскими шиты — пробили по компьютеру и выяснили, что саратовский. Сколько у него было ассигнаций, мелочи серебряной — всё им отдал, чтоб отстали. Как же, отстанут они. Помыкался он, помыкался и перестал приходить.
Потом его на «Марксистской» видели. Но там он не поладил с самим Бородой. Так разругались, что однажды, когда Борода, как обычно, в полночь загудел своё «Пролетарии всех стран…» — Гаврилыч и закончил: «Идите на хер!» После этаких-то рифм пришлось ему и с «Марксистской» уходить. А куда, спрашивается, идти? На «Третьяковской», «Тургеневской» или «Чеховской» — его в гробу видали. Сунулся было на «Кропоткинскую» — и там не ужился. На «Площадь Революции» к пролетариям с наганами и собаками? И самому не охота. Какое-то время продержался на «Площади Ильича». Но совсем недолго. Ильич-то, он какой? Он добрый только с детьми. Особенно с невинно убиенными. А так-то ему слова поперёк не скажи — у картавит. Гаврилыч на него обижался страшно. Слова Ильичёвы про свою книжку вспоминал, стыдил. И в глаза бы плюнул, если бы призраки плеваться могли. А хоть бы и плюнул — тому всё божья роса. У Ильича вообще два любимых слова было — интеллигенция и говно. Потому как оба без буквы «р». Вот он их всё время и выкрикивал на разные лады. И выходило у него, что Гаврилыч… А потом и вовсе стал выпроваживать. Дескать, я звала не навсегда и сегодня не среда. Свинья, да и только. И Гаврилыч ушёл.
За Кольцевую линию ему не хотелось. Все эти «Пионерские», «Электрозаводские», «Красногвардейские»… Чёрт знает, чего от них ожидать. В «Царицыно» тоже не пойдёшь. Там тоже не забыли. И стал Гаврилыч бомжевать по разным станциям. Одну ночь на «Цветном бульваре», вторую на «Арбатской», а третью и вовсе на «Парке Культуры». Долго ли, коротко ли — попал он таким манером на «Лубянку».
С тех самых пор никто его и не видал.
Третьего дня стою я в очереди за какими-то макаронами или колбасой. Рядом со мной бабка. В толстых очках, за которыми буравчики. Стоит и этими буравчиками прилавок сверлит. Буквально до дыр. А за прилавком селёдки разложены. И бабка так на них смотрит, что селёдки не знают, куда глаза свои солёные девать. Тут как раз её очередь подошла. Продавщица ей и говорит:
— Ба, а ба! Тебе чего?
Молчит бабка. На селёдок безотрывно смотрит и губами шевелит. Может, даже и разговаривает с ними. Ну, с третьего раза докричалась продавщица. Бабка шевелить губами перестала, за седой ус себя подёргала и отвечает продавщице:
— Выбери мне, дочка, селёдочку. Но так, чтобы малого с молокой, а не девку с икрой.
Продавщица тут и рот раскрыла. И этим раскрытым ртом ей начала отвечать:
— Ба, да ты охре… я тебе гинеколог, что ли…
А потом почесала в светлой от мелирования голове наманикюренным пальцем, быстро достала селёдку, положила на весы и сказала:
— Самый что ни на есть малый. С такой молокой… Но ты зря, ба, в малого упёрлась. Девки у нас сегодня с чёрной икрой. Специальный, блин, посол.
Вчера поздно вечером вышел из метро — темнота, ветер и дождь проливной. Смотрю, под дождём старушка стоит в древнем плаще-болонье. Она меня тоже приметила и тянет ко мне букетик чего-то зелёного и мокрого. И предлагает его купить тем самым голосом, каким говорят: «Молодой человек — купите девушке букетик». Пригляделся я к букетику — а это пучок петрушки. Уже и желтизной тронутый. Такой же, стало быть, букетик, как я — молодой человек. А как не купить? Не стоять же бабке до утра с этой петрушкой. Дал я ей червонец и, не прикасаясь к петрушке, пошёл своей дорогой. Шагов через десять оглядываюсь, а она смотрит мне в спину и зелень свою протягивает. Вот как колхозница тянет свой серп вслед убегающему рабочему. У меня штаны от дождя чуть насквозь не промокли. Бывают такие старушки — только с виду старушки. А приглядишься — самые что ни на есть мойры. Возьмёшь у неё обычную петрушку, и такая петрушка начнётся… Дурак — всего червонец дал. Что этот червонец — тьфу, не деньги. Разве им откупишься? Да и чем откупишься…
Если сесть на прогулочный теплоход «Император», который на самом деле старая двухпалубная калоша облупленного красного цвета, ползущая от Северного Речного вокзала в сторону Химкинского водохранилища и обратно с пивом, чипсами, водкой и пассажирами, не знающими куда себя деть в выходной день, то поначалу проплываешь мимо гор песка и щебёнки на причалах и огромными железными цаплями портовых кранов; потом мимо буксиров и старых посудин с оторванными именами, уткнувшихся от стыда в берег; потом мимо гор мусора на пляжах и пивных шатров с эмблемами «сибирских корон» и «клинского»; мимо пьющих отдыхающих в прибрежных кустах москвичей, думающих, что они проводят выходные на природе; мимо шумных, разноцветных детей, бегущих вдоль берега за всем, что плывёт, и машущих руками и ногами от полноты чувств… и в тот самый момент, когда «Император» кряхтя и скрипя разворачивается, чтобы идти обратно, к вокзалу, взору откроется написанное огромными белыми буквами на каменной облицовке берега: «Хуй вам».
У входа в подземный переход стоит палатка. Называется «народный гриль». В ней продают мясо по-мексикански. В лаваше. С капустой, солёными огурцами и ломтиками зелёных помидоров, синих от холода. А от голода там есть самса, обсыпанная маком. Кончился у них кунжут, кончился. Сначала не было мяса, а потом и кунжута не стало. Под землёй, в переходе, есть сувенирный киоск, где можно купить гейшу большую и гейшу среднюю. Обе они из Китая. Рядом, в крошечном пенале с окошком, предлагают сфотографироваться. Можно даже на памятник. В овале или без. Только просунь голову в окошко. У противоположной стены сидит на корточках бугай в вязаной чёрной шапочке и просит на корм собаке. Его четвероногий раб лежит рядом, прикрыв глаза и отвернув нос от брошенной на картонку мелочи. Дрожит от холода. Приди он без хозяина — собрал бы больше. Мимо проносит свой живот багровый милиционер. Пустая банка из-под «Балтики» подкатывается к ногам старухи, играющей на гармошке. Она играет «Амурские волны». А может, «На сопках Маньчжурии». А может… не разобрать. Но поёт она «Поедем, красотка, кататься». Бог её знает почему.
В аптеке передо мной в очереди стоят двое немолодых, небритых и нетрезвых мужчин. Подошли они к окошечку и тот, который более нетрезвый, чем небритый, говорит провизору:
— Девушка… Мне бы лекарство от ран… трын… кран… твою мать! Как же оно называется-то?!
Девушка недоумённо молчит. И тут второй мужчина, который менее молодой, чем нетрезвый, вступает в разговор:
— Ну что ты, девка, стоишь-то, рот разинув. Давай, помогай человеку!
Девушка раскрывает рот и… закрывает его. Стоящая неподалёку пожилая женщина в пожилой нутриевой шубе говорит:
— Небось от ран ему надо. Говорит же — от ран!
— От душевных, — говорит второй мужчина. — Они у него горят. Как трубы. Правда, Сань?
Саня обводит мутным взором всех нас и опять заводит своё:
— Трын… крын… А! Вспомнил! Такая херня в чёрном тюбике!
Пожилая нутриевая шуба радостно восклицает:
— Ну, это другой разговор! Девушка, ему мазь нужна. Дайте ему мазь.
Немного подумав, добавляет:
— Или зубную пасту.
— Раны замазывать, — говорю я.
Провизор открывает рот, но продолжает молчать. Все нервничают и начинают играть в поле чудес лекарств, периодически обращаясь к первому мужчине с просьбами открыть букву или даже всё слово. Мужчина, однако, равнодушен к просьбам. И вдруг его прорывает. Он поворачивается к своему спутнику и говорит:
— Коль, ну их всех на! Пошли пива попьём.
Они разворачиваются и выходят из аптеки.
Мы постояли-постояли, а потом стали покупать то, за чем пришли. Не успел я расплатиться за свои капли от насморка, как широко распахнулась дверь и давешний Саня, уже с банкой пива в руке, закричал с порога:
— От радикулита, мать вашу за ногу!
Радикулит его, конечно, мучил, поскольку после этих слов он упал на руки Коли, стоявшего за его спиной.
По дороге с работы в подземном переходе была распродажа. Щуплый мужичок с глазами, носом, лицом и даже шапкой кавказской национальности распродавал ананасы, веники и мочалки. Мужичку было холодно, он синел щетиной и тонко кричал: «Распрода-а-а-ажа». Но я купил слойку с абрикосовым повидлом. Не всё то золото, что блестело у него в зубах ананас или веник. Потом эскалатор. Стоял на нем справа. А раньше… раньше так пробегал палево слева… На перроне валялась бесхозная табличка с известным обращением к нам, едущим с работы и на неё: «Люди добрые, помогите на…». Кто-то, значит, обронил, переходя из вагона в вагон. Я уже многих узнаю в лицо в своем вагоне. Даже гейшу на обложке толстой книжки, которую уже третью неделю подряд читает солидная дама с толстыми же губами. Такие встретить ещё можно, но вообразить нельзя. Она читает и жуёт, жуёт губами — да так, что мне вдруг вспоминаются те самые мельницы, которые «мелют медленно, но пережёвывают всё». В нашем вагоне почти нет детей. Только девочка лет шести в розовой вязаной шапке с заячьими ушами и школьник со школьницей, слушающие один плеер на двоих, у них наушники в крайних ушах, а ближними они прижимаются друг к другу. Однажды школьники неделю не возвращались в наш вагон. Мы разное думали. Мужчина с усами сказал, что у них, наверное, размолвка. Одна девушка предположила, что между ними даже разрыв и теперь они разбежались по разным вагонам навсегда. Может быть, даже на месяц. А старушка с клетчатой сумкой сказала: «Давайте думать про них хорошее. Они просто заболели или у них каникулы. Вернутся, никуда не денутся». У нас вообще-то хороший вагон, один из лучших на зелёной ветке. У нас по полу не катаются пивные бутылки. И мы всегда возвращаемся. Кто к вечеру, а кто и к утру, из командировок и отпусков — всегда возвращаемся. Без таких вагонов, как наш, ветка может засохнуть. А в других вагонах разное случается. Бывает, что и перебегают из вагона в вагон. Бывает, что и вовсе пересаживаются на трамвай или троллейбус, но таких находят и возвращают. Всегда. Потому что мы в ответе за тех, кого станция «Баррикадная» или «Алтуфьево». Или «Смоленская».
Переходил я со станции «Тверская» на станцию «Чеховская» и увидел подземный памятник Горькому И это при том общеизвестном факте, что «Му-Му» написано Тургеневым. Вдруг вспомнилось мне самое начало перестройки. То время, когда многие во всеуслышание у себя на кухнях говорили: «Вот как переименуют Горький в Нижний, а Ленинград в Петербург, — так сразу и поверим в вашу свободу». И я говорил. Да что там на кухне — даже и в гостиной, не говоря о спальне, мог такое ляпнуть… И действительно — переименовали. Не осталось ни одной старой вывески — все новые. А в свободу — не ту, которая внутри, а ту, которая снаружи, — всё не верится. Двадцать с лишним лет прошло. Кухни, на которых мы тогда фрондировали, давно уже требуют ремонта. Уже выросло то, чем поливали. Уже зацвело махровым цветом, а… не верится. Чёрт его знает почему. Я-то двадцать лет назад ух как свободы хотел. У-ух даже. Думал, как начну запрещённым глаголом поджигать всё, что горит… Только бы спички свободу дали. И что же? Пишу себе про кузнечиков, про снег, про дождь, про такое, что любая власть и запретить-то побрезгует. А о политике, фельетон какой-нибудь, чтобы буря и натиск… нет, увольте. И думать об этом противно. Склизко даже. К чему я это всё? А и сам не знаю. Вдруг вспомнилось и подумалось. День сегодня хороший. Уж на что вчера был хорош, а сегодня ещё лучше. Их чем меньше остаётся, этих хороших дней, тем они лучше.
В туннеле, между «Алтуфьево» и «Бибирево», наш поезд остановили. Ждали минут пятнадцать, а то и двадцать, пока пройдёт курьерский в центр. Вдруг из бокового туннеля как выскочит! Как промчится! Только и успел я заметить бронированную кабину состава с торчащими из узких прорезей иглами ракет класса «метро — метро», которые у них называют «Чёрная дыра», да десяток автоматчиков с фокстерьерами на открытой платформе, да занавески из красного бархата с шитыми золотом двуглавыми орлами на окнах единственного пассажирского вагона, да стол полированный орехового дерева, за которым сидел невысокого роста человек с холодной головой и горячим стаканом чая в серебряном подстаканнике с гравированными на нём щитом, мечом и тремя буквами. А вот буквы-то я прочесть не смог — уж очень быстро поезд пролетел.
Сегодня день такой был… ну вот как варенье у жены Собакевича — «ни груша, ни слива, ни иная ягода». Такие дни бывают в ноябре. Ни вторник, ни среда, ни четверг. На работе пил чай без сахара и в окно смотрел. За окном у меня тишина и пруд, вернее не пруд, а очистные сооружения в маске и костюме пруда. И он уже застыл. Лёд на нем разноцветный — зелёный, жёлтый и синий. Я догадываюсь, почему он такой разноцветный, но знать наверное не хочу. Сплю и без того плохо. Здание у нас большое и контор в нём много. Я даже и не знаю, чем они занимаются. Во дворе свалка и гордиевы узлы ржавых труб. Из подвалов выходят на поверхность какие-то покосившиеся дверки или просто зияют чёрные дыры вроде крысиных ходов, из которых время от времени появляются чумазые сантехники или слесари, несущие в заскорузлых руках то разводной ключ, то обрезок трубы, то кусок оцинкованного железа, и тут же исчезают в следующей дыре. И всё это в полном молчании, нарушаемом лишь глухим утробным стуком или жужжанием откуда-то из глубин подвалов. Возле одной из стен растет клён. Как он выживает здесь — ума не приложу. По весне на его ветках набухают не почки, а гайки. Теперь клён их сбросил и они, жёлтые и красные от ржавчины, валяются у его подножия. Небо над этим двором даже в солнечную погоду всегда серое, с цементным облаком. Облако прижилось здесь, как и клён. В засушливые дни оно питается жирным осклизлым дымом из красной кирпичной трубы. Если смотреть на эту картину больше десяти минут… нет, этого делать не стоит. Я и не смотрел. Допил чай и стал звонить в Петербург, в одну приборостроительную организацию. Они согласились изготовить прибор по моим чертежам. И вот уже вторую неделю никак не выставят нам счёт. Я звоню им каждый день и разговариваю с начальником отдела договоров. Он вежливый. Каждый раз извиняется и обещает немедленно прислать счёт. Буквально к концу рабочего дня. Только не говорит какого. Сегодня, однако, и он не выдержал. Попросил меня подождать минуту-другую и не класть трубку. А сам как закричит куда-то в сторону: «Ну, сейчас я тебе вставлю! Нина! Нина!» И связь оборвалась. Я потом пытался перезвонить, но телефон не отвечал. Умеючи, наверное, долго. Незаметно подкрался конец рабочего дня. Я вымыл чайную чашку, спрятал сушки в ящик стола и пошёл домой.
Сегодня в метро, на эскалаторе, диктор читал новые стихи. Ещё вчера было тютчевское «Есть в осени первоначальной», его почти два месяца читали, а сегодня уже Пушкин — «…отечество нам Царское Село». Почему про лицей — кто его знает. Да и никто, наверное, не знает.
Уютней всего Москва поздней осенью. Когда с самого утра зарядит дождь, нудный, как годовой бухгалтерский отчёт, и к вечеру, ударившись оземь, превратится в чёрный лёд, когда прохожие при ходьбе чавкают, а машины при езде всхлипывают, когда облака тучнеют от дыма бесчисленных труб, собираются кучками и торчат на одном месте сутки напролёт, точно прибитые гвоздями, когда… тогда лучше всего сидеть дома, на пятом этаже без лифта, курить на тёплой кухне, смотреть в запотевшее окошко, чертить пальцем на стекле рожицы, пить чай с сушёной земляникой или мятой, зевать в потрёпанный детектив, в котором кем-то вырваны первые страницы, и слушать, как где-то далеко-далеко, в соседнем квартале, заполошно вскрикивает автомобильная сигнализация. Потом допить чай, почесать в затылке, ещё раз почесать в затылке, запахнуться поглубже в тёплый халат, задремать и видеть во сне Москву, её разноцветные огни костров под котлами с кипящей смолой и серой, её сверкающие витрины, из которых роскошь выпираст точно огромный бюст из тесного корсажа, её уютные кофейни, в которых неловко попросить чаю с бубликами, а прилично только чизкейк и капучино, её бесчисленных нарядных проходимцев прохожих, её… впрочем, теперь всё её, а что не её — так это ей и без надобности. И ты ей, кстати, тоже ни к чему.
Ближе к вечеру ехал в вагоне с необъятной женщиной средних лет. Она была прилично одета — шарфик с люрексом, кровавый маникюр, наушники и плеер. Что-то там у неё играло в плеере. Цифры мигали на дисплее. А сама она спала. И при этом так богатырски храпела, такие выводила носом арии из опер, что дикторша, объявлявшая станции, не смогла её перекричать, страшно обиделась и мы, считай, до самого дома ехали без объявления остановок.
В переходе с «Курской» на «Чкаловскую» встретил злую волшебницу. Она была одета в чёрный длинный потрёпанный плащ с бахромой из него же. Спина басовым ключом. На спине невыносимо красный школьный рюкзак, разрисованный бэтменами и прочей голливудской нечистью. На голове — высокий вязаный колпак. В жёлтой куриной руке она держала клетчатую челночную сумку, из которой торчала голова огромного чёрного кота. Волшебница бодро шаркала, шевелила длинным крючковатым носом, верхней губой с усами пергидролевого цвета и, шепелявя и плюясь, разговаривала с котом. Поравнявшись с ней, я услышал: «Думаешь, буду для тебя жопу рвать? Разбежалась, как же. Сначала за прошлый раз расплатись, паскудник!» В ответ на эти слова кот равнодушно зевнул, облизал усы и спрятался в сумку.
Покупал в аптеке таблетки от головной боли. Теперь таблеток от головной боли столько, что глаза разбегаются. Как раз у меня был перерыв в голове, и она не болела. Я решил выбрать что-нибудь современное и попросил у аптечной девушки показать мне то место на витринах, где лежат эти самые средства. Девушка ткнула накладным ногтем вдаль и… там я увидел памперсы и прокладки. Может, они помогают, но памперс мне не проглотить. Тем более что его сколько не запивай… Спросил ещё раз. Тогда девушка закричала в подсобку:
— Зинсанна! Где у нас головная боль?
— Рядом с контрацепцией. Правее и выше, — отвечали из подсобки.
Может, она и права, эта Зинсанна.
Перед входом в вестибюль метро станции «Шоссе Энтузиастов» возле телефонов-автоматов стояла старушка. В одной руке у неё была сумка и палка под мышкой, а другой она листала толстый телефонный справочник. Тот, который с жёлтыми страницами. Листала-листала, потом вздохнула, закрыла справочник, перекрестилась на него, взяла палку в руку и пошла.
На платформе станции «Мрак Парк Культуры» сидел юноша, опутанный плеерами, наушниками и проводами, точно Лаокоон змеями. Он сидел и напевал что-то, притопывал ногой, прищёлкивал пальцами и читал толстую книгу. Книга была Книгой. Библией.
Проходя по улице, спиной услышал:
— …Все конфликты происходят, Гена, от недопонимания. Вот ты думаешь, почему я вчера тебя по роже-то ударил..
На Новодевичьем кладбище печальнее всего колумбарий. Какая-нибудь треснувшая мраморная табличка в углу стены и на ней почти невидимые буквы с остатками краски в углублениях. Легко читаются только два слова под именем и отчеством: «…красный партизан». И больше ничего. Не врач, не инженер, не шуруп-саморез, а красный партизан. Короче и страшнее этого приговора только надпись на другой могиле: «Член ВКП(б) со времён войны Алой и Белой Розы с 1899 года».
Покупал что-то ненужное на лотках у метро. Старушка с сумкой на колесиках, из которой торчали вязаные носки, варежки или очень лохматый фокстерьер, говорила старушке, торгующей пучком укропа:
— Щас они будут слушать! Они теперь всё лучше нас знают. Сопли до пояса, а туда же! Я всю жизнь на оборонном предприятии отработала, меня на пенсию так провожали, как сейчас и не встретят никого. И если я ей, засранке с голым пупком, говорю, что билайн лучше — значит лучше! Родная бабка знает, что говорит. Я всю жизнь на оборонном..
На этих словах я понял, что повторение мать учения, и пошёл дальше.
Если лежать на диване и смотреть в окно, то видны только спутанные ветки — чёрные, белые и серо-зелёные. И небо между этими ветками. Белое — утром, чёрное — ночью и серо-зелёное в сумерках. Я смотрю на небо в прожилках ветвей каждый день. Перед тем, как закрыть глаза и после того, как их открыл. На самом деле я смотрю на небо и после того, как закрываю глаза и перед тем, как их открыть. Но это не имеет совершенно никакого значения. Важно только то, что с каждым днём веток всё больше. На самую малость, но больше. Когда-нибудь они зарастут и запутают всё небо. Придавят его к моему окну. И в этих ветвистых силках будут сдавленно каркать вороны, предсмертно пищать воробьи, тускнеть предутренние звёзды и обломки луны. Прижав лицо к окну с другой стороны, из комнаты, которая заросла диваном, телевизором, треснутой кофейной чашкой, махровым халатом, пыльной фотографией, непрочитанным письмом, я пойму: кто спрятался — тот сам и виноват.
Москвичи, конечно, невнимательные, безразличные люди. Сегодня днём я вышел из поликлиники в ярко-голубых полиэтиленовых бахилах на босу ногу, надетых на ботинки. И пошёл к станции метро «Партизанская». И хоть бы один из шедших навстречу мне людей сказал: «Мужик! Да ты с привстом! На ноги-то себе посмотри!» Молчали все, как партизаны. Так квартал и прошёл. Бахилы уж и рваться начали. Хорошо сам потом заметил. Сейчас, конечно, москвичи возразят, что навстречу мне попадались и не москвичи вовсе, а понаехавшие. А уж если б попался мне навстречу коренной москвич, то не только бы сказал, но и снять эти самые бахилы помог, а заодно и показал дорогу к Третьяковской галерее. Знаем мы вас, москвичей. Вы ещё и выкручиваться такие мастера…
В выходные приходила зима. Мягкий, по-детски доверчивый снег летел и летел, как пух от уст Эола. Земля и крыши стали светлее неба. И в занесённом дворе, среди чёрных деревьев, кричащих детей с санками, воробьёв, собак, автомобилей, почти настал полный Брейгель, только без охотников на снегу… но не настал, а растаял. Говорят, что завтра зима опять придёт. Да кто ж им поверит.
В чём ужас метро? Ужас метро в том, что красивая девушка, сидящая напротив тебя, может встать и выйти на следующей остановке НАВСЕГДА. Она может выйти даже тогда, когда ты только входишь в вагон. Зачем такое метро вообще нужно? Почему такая идиотская конструкция вагонов? Куда смотрят машинисты, проводники и милиционеры? Да разве у нас только в метро бардак…
Предновогодний обвал цен в столичных магазинах. Под завалами оказались несколько тысяч женщин и детей. По факту случившегося мужьями и отцами возбуждены семейные скандалы.
Простудился и теперь сижу дома, замотанный в сопли разные кофты и шерстяные носки. За окном метель. Ветер такой, что снег летит горизонтально. Деревья качаются в разные стороны. Кажется, что дом едет куда-то. Может, и вправду едет. Что-то поскрипывает, постукивает, погромыхивает в подвале. Дом старый, едет медленно. Куда только едет — непонятно. Ходят по Москве такие слухи, что эта езда не просто так. Не один дом уже так уехал, как в воду канул. Говорят, что московские власти разные ненужные им старые дома, хрущобы какие-нибудь, заманивают за МКАД и там сносят безжалостно, даже в извращённой форме. Выбирают такое время, чтобы все на работе были, и начинают дом приманивать. А уж как они его приманивают — никто не знает. Может, шифером новым, побелкой или трубами канализационными. Только дом окна развесит и едет. А те старушки да кошки, которые в нём безысходно живут, — они или спят, или не знают, не умеют сигнал какой-нибудь подать. Так все и пропадают почём зря. И меня вот с ними заносит нелёгкая… К вечеру-то все как с работы придут — а тут уже место ровное или даже котлован с рабочими. Они бегают, кричат, ругаются на разных языках. Строят вавилонский торговый центр или банк. И следов от бывшего дома никаких. Только бутылка пивная в кустах валяется, в которую я записку положил о том, что простудился и теперь сижу дома, а за окном метель.
Небо над Москвой в пятом часу утра цвета пыльных мандаринов, серое и оранжевое. Где-то так сильно визжат тормоза, что кажется — водитель визжит с ними заодно. Если лёжа на диване смотреть в окно, вверх, то и Москвы никакой нет. Только чёрные мётлы берёз и осин, которыми ветер сметает и без того невидимые звёзды. Перед рассветом идёт снег. Робкий. Переминается со снежинки на снежинку. Небо и ветви деревьев мало-помалу белеют. Хрипят и откашливаются лопаты дворников. За стёклами окон дома напротив возникают чашки с чаем, яичницы, сосиски, бутерброды с колбасой и последние известия. Во двор выбегают первые, вторые и даже третьи собаки. Бульдоги и овчарки оставляют на снегу своё решительное «утверждаю», а болонки или таксы беззаботное «просто вышел пописать». Немного погодя из подъездов выбегают те, кто в метро, и выходят те, кому не роскошь, а средство передвижения. Потом всё затихнет, и за оконными стёклами дома напротив останутся недопитые впопыхах чаи, колбасные шкурки и шелуха вылетевших в другое ухо последних известий. Серый и оранжевый цвета неба сменяются серым и серым. Снег перестаёт идти, падает и не может встать без помощи дворников. А дворники и сами хотели бы получить помощь. А если нельзя деньгами, то, к примеру, справками о безвременной московской регистрации. Да только кто ж им, дворникам, даст…
На улице снегопад. Так метёт, так метёт… И этак тоже метёт. Если твою собаку зовут Снежок, то лучше из дому её не выпускать. Не успеет и хвостом вильнуть, как затеряется в каком-нибудь сугробе. И не докричишься потом. А если её зовут, к примеру, Иван Иваныч, и она начальник отдела, в котором ты работаешь, — смело выгоняй на улицу. Вряд ли эта сука этот кобель потеряется, но хоть согреешься, когда будешь кричать ему вслед такое, такое… И этакое тоже.
В подземном переходе холодно. Мучнистый пар от дыхания и грязные лужи. По переходу бежит старушка в коричневой дублёнке и белом оренбургском платке. У старушки выдающиеся зубы. Как у кролика. Она кричит на весь переход что-то о судьбе русского народа, о растрате генофонда, о жидомасонах, об инопланетянах, которые вот-вот приземлятся на оранжевой ветке Калужско-Рижской линии… А мы не оборачиваемся. Мы и без того всё знаем. На нашей, Таганско-Краснопресненской, инопланетяне приземлились ещё в прошлый четверг. Вот и бежим мимо. Только один смеётся. Хохочет, как ребенок, заливистым счастливым смехом. Он тянет к бабке крючковатый чёрный палец и смеётся. Дощечка на колёсиках, к которой привязано его безногое тело, накреняется, и он упирается в пол другой рукой, чтобы не упасть. Немного погодя, отсмеявшись, надевает другое лицо и перебирает редкие монетки в шапке. А мы не оборачиваемся. Мы бежим мимо и дальше, дальше…
По пути на работу я прохожу вдоль длинного покосившегося забора, украшенного поверху спиралью из новенькой колючей проволоки. С другой, заколюченной стороны, рядом с гнилыми зубьями забора, из-под снега торчит обломок сухого дерева, трубы, выползшие летом на поверхность погреться, да так и не сумевшие зарыться к осени в землю, а на трубах несколько ржавых вентилей. Из вентилей вырываются струйки пара. Из-за этого пара и сильного мороза колючая проволока всё время имеет вид пушистой и ласковой анаконды. Той самой, из анекдота, у которой был папа ёж и мама уж. Я иду вдоль забора и думаю, что вот такая она — зимняя московская сказка.
В московском зоопарке сугробы и тропинки между ними. «Бразды пушистые взрывая», по снегу скачут кенгуру. Короткими ручками лепят увесистые снежки и бросают их в редких посетителей. У вольера табличка. На ней написано, что кенгуру опекает «Марина Нецветаева». А вот белого медведя опекает какой-то банкирский дом. Понятное дело, медведь — это солидно. А кенгуру… К таким опекунам разве понесешь крупный вклад? Ну как ускачут? Я тоже люблю животных, но опекать медведя или, пуще того, слона мне не по карману. Какого-нибудь мадагаскарского таракана я бы опекал с удовольствием. Или даже семью тараканов. Если небольшую. В московском зоопарке вообще возможностей для опекунов — пруд пруди. С утками и лебедями. Я видел сороку, которую опекает компания «Сорокинструмент». Видел… нет, очкового медведя, которого опекает «Российская партия жизни», в вольере не было. Наверное, жизнь его заела. А ещё видел чёрную птичку с жёлтым горбатым клювом. Видать, из семейства билайновых. Но её никто не опекал. Она и чирикала подряд всякую ерунду, как никому и ничем не обязанная. Ерунда была звонкой и жизнерадостной. Я бы так не смог. Хотя меня, как и её, тоже никто не опекает.
В пятницу вечером смотрел в окно на мелкий снежок. И то сказать — как он шёл? Несло его, мотало из стороны в сторону. Ветер дул такой, что будь у меня хоть воробьиные крылья, хоть парус величиной с носовой платок или пейсы подлиннее… Я представил себя с воробьиными крыльями, носовым платком и развевающимися пейсами. Как меня, сухонького, маленького, отрывает от земли в мутную снежную круговерть… Как срывает шляпу, перчатки и даже брюки… И немедленно представил для равновесия монументальную Розу в каракулевой шубе. Она накручивает на пухлый, в перетяжках, как у младенца, палец мои пейсы, и я то иду сам, то волочусь, то отрываюсь от земли на их длину… Ветер всё крепчает, становится ураганным, пейсы натягиваются и звенят, как струны, и поют. Из глаз текут слёзы — то ли от ледяного ветра, то ли от больно натянувшихся волос, то ли от этого пения… А Роза всё идёт и идёт, не оборачиваясь… Я кричу ей: «Остановись! Отпусти меня! Отпусти!» И просыпаюсь. Ветер угомонился. За окном тихо и темно. На подоконнике, в литровой банке, переминается со стебля на стебель букет увядших роз, который я подарил тебе, да ты, уходя, забыла.
В провинции первый снег как упал — так и лежит, валяется даже. Ждёт второго, а то и третьего. А в Москве его и нет. Сюда первый снег никогда почти и не долетает. Вылетать-то он вылетает, но как вниз посмотрит на всю эту дикую дивизию дворников, которые грозятся поднять его на свои острые мётлы, точно казаки на пики, и порвать, как тузик грелку, — так и летит куда-нибудь подальше. Вот и стоит столица серая, сухая и злая, точно женщина, у которой не осталось слёз. А может, и не было. Потому что она им не верит.
У нас на работе часов в семь фонари на территории выключают. Те, которые горят. Иду я, значит, в темноте, наступаю в лужи, вспоминаю ласковым и тихим словом администрацию. Мимо меня два мужика тащат на верёвке тележку с какими-то железками. По случаю окончания рабочего дня путь тележки извилист и непредсказуем. Один из рабочих говорит другому:
— Ты знаешь, Cepera, кто я? Нет, ты спроси — кто я?
— И… и… ик-то?
— Я — настоящий сварщик!
— Фигасе… А мы с мужиками думали, что ты космонавт. Или депутат. Склиска какая-нибудь.
— Cepera! Ты эти шутки свои мудацкие брось! Ты знаешь, почему я настоящий сварщик? Знаешь?! Ни хера ты не знаешь. Я настоящий, потому что русский. А у тебя в бригаде одни тюбетейки. А у меня в бригаде… — тут настоящий сварщик сделал такой жест правой рукой, которые делают певцы, когда поют «широка страна моя родная», и… поскользнувшись на куске льда, ударился всем телом оземь. Но красавцем не обернулся. Он возился в грязи, хватался за тележку и Серёгу, пытаясь подняться. При этом он всё время бубнил:
— Суки, все суки, су-у-ки-и-и…
Наконец Серёга поднял его, отряхнул и спросил:
— Что ж ты в бригаду одних сук набрал-то, а?
На рынке в мясных рядах загляделся на продавщицу, которая стояла за прилавком с морожеными курами, утками, гусями и запчастями к ним в виде потрохов, крыльев, ног и шей. Сама торговка была немногим уже прилавка, с толстыми золотыми серьгами, толстой меховой шапкой, толстым носом и губами. Покупателей было мало — человека два. Но и они отошли. Продавщица стояла, любовно оглядывала разложенное на прилавке и беззвучно шевелила губами. Казалось, она обращалась к курам и уткам с приветственным словом. Или со словами поддержки. И то сказать — за что их ругать-то? Этаким манером говорила она со своим товаром минут пять и смотрела, смотрела на него во все глаза, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело», а в конце своей речи взяла да и легонько похлопала по животу толстым пакетом с куриным фаршем.
Я не знаю, какой надо быть после этого отмороженной курицей или уткой, чтобы немедленно не продаться.
Возле выхода со станции «Полянка» стоит огромный чернокожий детина. На нём белая шапка, белая куртка, белые штаны и белые кроссовки. На спине и груди у него плакаты со словами: «Я так загорел здесь». И адрес того салона, где его так обуглили. Детина протягивает прохожим бумажки с адресом и улыбается… Белые его одежды напомнили мне о печальной участи наших зайцев в лесу. Они-то уже к зиме полиняли и все белы, как снег, которого нет и неизвестно, когда будет. И теперь их любой волк или медведь-шатун может обидеть, не говоря о съесть с потрохами. А чернокожего на «Полянке» попробуй обидь. Тем более с потрохами. Он тебе как… улыбнётся. И ты ему в ответ. Робкой заячьей улыбкой.
… И когда начинают ставить пустые бутылки под стол, когда у селёдочной головы в пасти окажется окурок, когда уже ясно, кому больше не наливать, когда хозяева мучительно соображают — переходить ли к чаю с вафельным тортом или всё же выставить заначенную на завтрашнее хмурое утро бутылку… в эту самую минуту чья-нибудь дальняя родственница, чья-нибудь племянница из Воронежа или сестра из Тулы, неприметно сидящая на самом дальнем конце стола, вдруг вздохнёт глубоко и запоёт «степь да степь кругом» таким полным и таким грудным голосом, который непременно хочется потрогать руками. И нет человека, хоть бы и лежащего лицом в салате или даже под столом, который не стал бы ей подпевать. И бог знает из каких глубин памяти всплывают слова, которым никто и никогда не учил, а которые просто знают от рождения. И вот ты уже не старший менеджер по продажам китайских утюгов, не живешь во глубине московских хрущоб на пятом этаже без лифта, а натурально замерзаешь в степи и мороз пробирает тебя до самых костей. И понимаешь ты, что приходит твой смертный час, а кольца обручального тебе передать некому, да и любовь в могилу не унести, потому как… И заплакал бы, а не можешь — ещё внутри, в самом сердце, леденеют слёзы. И просишь, кричишь друзьям из последних сил: «Хотя бы зла не попомните, суки-и-и…» А откуда-то издалека, из нависших снежных туч, тебе отвечают: «Не мычи, Серёга. Проснись. По домам пора. Да вставай же, мудила! Отдай хозяйскую вилку и суй руки в пальто. Метро вон скоро закроют. А тебя ещё замучаешься до него тащить».
Хуже долгих проводов только долгие праздники. Точно едешь и едешь под перестук рюмок бесконечными равнинами застывшего холодца по разводам хрена и горчицы, а на горизонте холмится оливье. То выскочит вдруг из-за поворота на тебя жареная утка, а то оскалит мерзкую рожу селёдка в кольцах репчатого лука. Заклубится вдали укропный пар отварной картошки, прошмыгнёт надкусанный солёный огурец в придорожных зарослях квашеной капусты, и вновь холодец, холодец, холодец…
Сам-то я не видел и мне не рассказывали, но ходят слухи, что на одной из тонких веток московского метро… Тут надобно пояснить, что такое тонкие ветки. Ну, с толстыми всё понятно — это те, по которым мы ездим на службу и домой. А вот тонкие — это ветки, по которым ездят те, у которых не принято спрашивать. Едут они туда, куда надо. Но это тема отдельного разговора, который лучше молчать в тряпочку. Так вот, на этой самой ветке, где-то в районе, в котором надо, в том и районе, на одной или другой станции есть шлюз. Или два. Вы спросите — зачем? Лучше бы вы не спрашивали, чтобы потом вам не снилось. Но я отвечу: Москва — порт шести морей. Все, конечно, с детства знают, что пяти. Ну, да. Пяти толстых морей и одного тонкого, по которому плавают те, у которых. Едет себе едет обычный поезд метро от какого-нибудь «Медведково» до… станции «Васнекасается». Свернул куда надо, заехал в шлюз, задраил окна и через пять минут уже плывёт со скоростью двадцать узлов в нужном и архиважном направлении. А через сутки так и вовсе всплывает состав на Канарах или ложится в дрейф на перископной глубине у берегов Калифорнии, а к нему на селекторное совещание приплывают… да мало ли кто может приплыть. Камбала, к примеру, может. Или акула. Но этого, конечно, никто не видел. И я вам всё это рассказываю не потому, что я знаком с этой камбалой лично или дальний её родственник. А потому, что стоял я сегодня на платформе одной из станций рано-рано утром. Ещё и не рассвело даже. И вдруг диктор объявляет, что на прибывший поезд посадку производить не надо. Ну, так часто бывает. Ничего особенного. А вот когда прибыл поезд, то тут я и увидел, что машинист с аквалангом за плечами и в ластах. Сам-то он мне ничего не сказал. Там люди проверенные. Но по глазам его под маской я понял, что девки длинноногие в купальниках во втором вагоне не просто так собрались в феврале месяце и водный велосипед майбах в третьем вагоне с двуглавым орлом на сиденье тоже недаром. А уж про удочки, бредни и три ящика водки в четвёртом вагоне и младенец догадался бы. А во всём остальном — поезд как поезд. Только надписи на дверях не «осторожно, двери закрываются», а «осторожно, враг подслушивает». Впрочем, ничего я толком и не подслушал. На девок в купальниках водный велосипед засмотрелся. Да и поезд стоял на станции всего ничего.
Снег за окном идёт такой мелкий, что он уже и не идёт вовсе, а прогуливается в совершенно разные стороны и щекочет воздух. Крыша соседнего дома вся в недельной щетине сосулек. Её бреют два цирюльника в оранжевых куртках. Снизу им громким лаем подаёт советы собака, проживающая неподалёку, в подвале соседнего дома. Оранжевые куртки ей что-то отвечают, и все трое громко смеются.
По тротуару проходит милиционер. Он маленький и до того щуплый, что погоны раза в два шире его плеч, а дубинка, прикреплённая к поясу, своим концом проводит под ним по снегу жирную черту. Большие у него только малиновые уши, на которых держится шапка с кокардой. Увидев милиционера, цирюльники и собака немедленно прекращают смеяться. Это и понятно — у всех троих просрочена регистрация, а на собаке висит ещё и украденная сарделька из ларька.
Из подъезда выбегает мальчик в крупных, не по сезону, веснушках. Он опаздывает в школу. На ходу из прорехи в его портфеле выпадают три вчерашние большие, красные и толстые двойки и одна маленькая, синяя от холода тройка. Мальчик подбирает тройку, отряхивает её от налипшего снега, прячет в карман и бежит дальше. Двойки, точно каких-нибудь дождевых червей, немедленно принимаются клевать воробьи. За воробьями устремляются голуби, а за голубями приходит большая облезлая ворона. Она долго перебирает клювом двойки, но всё же отходит. В прошлом году она нашла в мусорном баке чей-то дневник и наклевалась этих оценок до полного несварения.
Из окна четвертого этажа во двор смотрят старушка и кошка. На самом деле кошка живет одна. Старушка умерла ещё прошлым летом. А вместо неё во двор смотрит большой старушкин портрет, приклеенный к стеклу Ещё от старушки осталась свадебная фотография. Муж у неё был военный моряк. Но эта фотография висит на стене, над кроватью, и во двор не смотрит. Да и зачем? Кошка ей каждый вечер подробно пересказывает увиденное. Старушка внимательно слушает, нюхает выцветший от времени букетик левкоев и загадочно улыбается. А её муж молчит. Он этими новостями никогда не интересовался.
Сидит напротив меня в вагоне метро мужчина в очках. В элегантном пальто, в норковой шапке, в вырезе пальто виднеется галстук, не крикливый, завязанный не абы как, а узлом «Принц Альберт». Что-то рассказывает своей спутнице — красивой женщине лет тридцати пяти или около того. В процессе рассказа деликатно касается её рукава. Сдержанно улыбается. А другой рукой мужчина придерживает на коленях дорогой кожаный портфель, из которого торчит газета, а на газете этой аршинными буквами написано «ОРГАЗМ С КОНЁМ».
День сегодня серый. Не как волк, но как мышь. Прошмыгнёт переулками — и нет его. Проснёшься на работе, продерёшь глаза, бросишься за ним вдогонку — ан поздно. Он уже вчерашний. Только и останется от него, что телефонный звонок безответный, да письмо ненаписанное, да слова несказанные. И ты всё это потащишь с собой в новый день, чтобы непременно ответить, написать и сказать. А в новом дне свой звонок, своё письмо и слова тоже, но уже совсем другие — не те, которые были вначале. Ты их тоже станешь перетаскивать за собой изо дня в день, изо дня в день… пока не наберётся их такой ворох и не окажется, что никто… и никогда. Да и некому.
На «Маяковской»» целовались юноша и девушка. То есть де-юре они целовались, а де-факто девушка, которая была на полторы огромных головы выше юноши и шире его в плечах, не говоря о груди, так целовала своего избранника, что многие в вагоне забеспокоились — не задохнётся ли? Но юноша, видимо, был живучий. Когда девушка раскрыла рот и он смог вытащить обратно свои распухшие губы, подбородок, нос и, кажется, левое ухо — он ещё смог улыбнуться, помахать всем рукой и уйти без посторонней помощи своей девушки. Поскольку мы с товарищем стояли в непосредственной близости от эпицентра, то тоже отошли. На всякий случай.
При переходе через Электродную улицу одна загадочных лет дама, в потёртой каракулевой шубе, со следами стихийных бедствий на лице, говорит другой, таких же лет даме, в мужской аляске на два размера больше, с банкой «отвёртки», прилипшей к губам: «Ир, да ты что? Куда он нас приглашает? Он же ебанутый. Не май месяц сейчас. Ты хочешь себе яйца отморозить? Хочешь?! Я свои — не хочу!» Вторая дама отхлёбывает из банки, потом протяжно, задумчиво рыгает и молчит.
В Москве, если снег падает — разбивается насмерть. Он, когда вылетает, то, само собой, летит куда-нибудь в лес или в чистое поле. Там упадёт, укроет, укутает и даже украсит. И всем хорошо — и ему, и полю, и лесу. Но это если долетит. А если роза ветров не та, которая к лесу и полю, а наоборот, да ещё и с шипами? И гонит его на трубы, на шоссе, под ноги, под колёса, под ножи снегоуборочных машин, под лопаты дворников. И его затопчут, заездят, сгребут в грязные кучи, польют реагентами. Да он и сам растает поскорее, чтобы не мучиться. Но пока он падает, на него можно смотреть. Как на девушку, которая никогда твоей не будет, а всё равно — чудо как хороша. Она через минуту за угол завернёт или в машину сядет, а ты стоишь, рот разинув, или идёшь за ней. Даже и не за ней, а за своими глазами, которые оторвать от неё не можешь. Вот так и город смотрит на снег. Запрокинет окна в небо и смотрит. И в этот самый момент… Кто его знает, что происходит в этот самый момент. Я и сам не знаю. Но знаю, что хорошее. Может, даже и очень.
В последнее время почти каждый день неудержимо рвёт на родину тянет в отставку. Не на пенсию, а именно в отставку. Так, чтобы дали Станислава второй степени со звездой, приветственных адресов надарили в кожаных папках, телеграмму от товарища министра на каком-нибудь особенном, с тиснением, бланке… Я бы продал свою комнату в общей квартире свой дом в столице и уехал к себе в имение. К примеру, в Тульскую губернию. Или в Курскую. На подъезде к дому меня б крестьяне встречали, староста выехал навстречу на поржавелой «Ниве». Девки дворовые с песнями величальными… Я, конечно, тотчас к девкам ревизию. Где недоимки? Отчего прошлый год ни одной бабы, хотя б завалящей оброку прислали с гулькин хер? Выемку всех документов у старосты учинил бы и чтоб никакого доступа к сети. Завёл, понимаешь, от праздности привычку по порносайтам шастать, а гумно в запустении. Вот и получай от него одни эсэмэски — дескать, отец родной, не погуби, недород… Потом я, само собой, отошёл бы, размяк после бани с девками ржаным квасом и после пирогов с наливками. Прогулялся б на конюшню или на псарню. Велел бы вычистить и подать своё ружьё с серебряной насечкой. Пострелял бы ворон. Напился бы чаю со сдобными девками булками. Стал бы зевать в креслах, и заснул, и видел бы страшный сон о том, как я еду по Калининской ветке на работу И трубный глас диктора объявляет: «Следующая станция — “Шоссе Энтузиастов”». И я просыпаюсь, встаю, и выхожу на ней, как последний энтузиаст.
Солнце сегодня такое, что видна вся невытертая пыль на столе, на полках и на стеклянном синем зелёном чёрном коте, хоть он и размером с два напёрстка. Это внутри комнаты. А снаружи голые чёрные ветки ещё голее и чернее. И на них сидит десятка полтора жизнерадостных и упитанных синиц, которые, если на них смотреть снизу, похожи на мимозные шарики-переростки. Снаружи протоптанная тропинка с упавшей поперёк неё толстой тенью ствола каштана. Какой-то мальчик лет трёх-четырёх доходит до этой тени и решает перепрыгнуть её. И перепрыгивает. Да так удачно, что из сугроба торчит только его голова в полосатой вязаной шапке и валенки с синими калошами. К нему неторопливо подходит ворона, чтобы поинтересоваться — не нужна ли помощь, да и просто поболтать. Мальчик болтает с ней ногами в валенках и смеётся. А от снега такие яркие, такие жаркие искры, что воздух вспыхивает и горит на солнце. А оно светит так, что зажмуриваешься. А… Всё образуется. Непременно. Даже если потом открыть глаза.
Утренний поезд, везущий меня на «Шайсе Энтузиастов», подкатывает к перрону, как тошнота.
На втором этаже нашей конторы идёт ремонт. Ломают перегородки и выбрасывают из окон всё, что можно из них выбросить. По лестницам снуют низкорослые гастарбайтеры из солнечного… не разобрать. Все с ног до головы в пыли, извёстке и чёрной щетине. Что-то у них там не получается. Не пролезает голова в банку шкаф в окно. И один рабочий долго и терпеливо объясняет другому на совершенно своём языке, что надо сделать, чтобы пролезло. А в конце прибавляет: «Покемон, бля».
По вагону ехал на инвалидной коляске очередной утренний нищий. Поздно вечером они другие. Видимо, работают посменно. Задняя сторона его кресла была украшена рекламой кваса «Никола». Там ещё написано: «Не допустим коланизации страны». По этому случаю вспомнился мне один американский бомж, которого я видел в Сан-Диего сразу после известных событий одиннадцатого сентября. Он катил перед собой где-то спёртую тележку из супермаркета, в которой лежали его нехитрые пожитки. А над самой тележкой, примотанный к ней проволокой, гордо реял маленький, но очень звёздный и полосатый флаг. Ну, тогда в Америке был такой силы взрыв патриотизма, что на флаг можно было наткнуться в любом, даже самом интимном месте.
По дороге на работу видел спящего в теньке бомжа. На подошвах его зимних ботинок было написано «Сенатор». Не удивился. Всякое бывает. Вот если бы «Генпрокурор»…
Между прочим, эти шнурки для очков — очень удобная вещь. Особенно для чтения в метро с пересадками. Уронил очки на грудь соседке, а другой рукой взял её за книжку. И ещё одна свободна. Пересаживайся сколько душе угодно. Или на работе вдруг присунет к тебе начальник своё лоснящееся от хорошей жизни лицо с вопросом, от которого ты отшатнёшься, да так, что очки у тебя с носа и свалятся. Или жена с тёщей… Ну, что там говорить — удобная во всех смыслах вещь. Я этот шнурок носил целых полтора дня. А потом глянул на себя в противоположное окно вагона… Мало того, что свисающие за ушами части этого шнурка просто вылитые пейсы, так и выглядишь ты в нём так, что всякий глядя на тебя подумает (хорошо, если с сочувствием) — вот поц человек, который пьёт по вечерам кефир для улучшения работы кишечника, носит зимой тёплые кальсоны с начёсом и которого жена с тёщей… Ну, что там говорить — страшная по своей откровенности вещь этот шнурок. Вот и получается, что это вовсе не шнурок для очков, а тот самый шнурок, который китайский император присылал своему впавшему в немилость подданному — удавись, мол, гад. И то, что тебе его прислал не китайский император, а купила в магазине супруга, дела никак не меняет, а даже и напротив…
Что вам сказать… Таки да — я пью кефир и ношу кальсоны. Можно подумать, что я один в целом свете это делаю. Но признаваться в этом публично… увольте. Нет, может, дома когда-нибудь и попользуюсь шнурком. Бывает, в туалете зачитаешься каким-нибудь кроссвордом — а тут стук в дверь, крики, упрёки незаслуженные. И велят тебе срочно выйти из сумрака. А у тебя все руки чем только не заняты… Вот тогда шнурок-то и пригодится.
Утром на конечной станции «Медведково», чтобы ехать в центр, в вагон вошла крошечная, бестелесная девушка или даже девочка-гот. Нет, де-юре у неё, конечно, были ручки и ножки толщиной с большие охотничьи спички для разжигания костров в лесу или поле, но де-факто она состояла из чёрных ремешков с блестящими пряжками, чёрных ботинок на такой высокой подошве, что глянешь с них вниз — голова закружится. Соломинки её пальцев с чёрными накладными ногтями затянуты в перчатки чёрного гипюра, поверх которых надеты чёрные кожаные гоночные митенки с хромированными заклёпками. А ещё длинная цепь на том месте, где должно быть бедро, а ещё губная помада цвета «позавчера прищемили, посинело и распухло», а ещё пять или шесть преогромных веснушек на курносом носу и щеках. И чёрные очки на три размера головы больше. Что делала девочка-гот на окраине — я не знаю. Всем известно, что готы обитают на Чистых Прудах, в которых они что ни ночь нерестятся и откладывают в тину и под коряги икру, чтобы ни родители, ни учителя, ни милиционеры не смогли её найти. Наверное, эта девочка только что вылупилась и по причине своей бестелесности попала в восходящий поток воздуха от проезжавшего мимо хаммера или мерседеса. И унесло бы её за леса домов, за реки улиц, даже за МКАД, да видимо, успела она зацепиться за какую-нибудь рекламную растяжку или балкон, а теперь вот возвращалась домой. Обычно готы передвигаются вечерами, ближе к полуночи, чтобы замирать от сладкого ужаса, разглядывая свои леденящие душу отражения в окнах полупустых вагонов метро, но у этой что-то сбилось в настройках. Она даже, против всех готических правил, сосала чупа-чупс и читала розовую школьную тетрадку по алгебре. Наверное, по дороге подобрала. Теперь, в конце учебного года, много валяется брошенных тетрадок.
Масло масляное — ехал мимо станции «Тургеневская» и читал «Бежин луг». Как дошёл до того места, где вечерняя заря погасает, начинают густеть и разливаться холодные тени, — так повеяло на меня луговой прохладой, запахом трав и полевых цветов. И в эту свежесть и дивные запахи вдруг плюхнулся рядом на сиденье мужик в белом костюме, в белых туфлях и кричащем в разноцветной истерике галстуке с узлом едва ли не большим, чем сама его голова. Мне, конечно, не жалко, но белый костюм, видать, не мылся с тех самых времен, как мужиков освободили от крепостной зависимости. И пришлось мне всю свежесть, весь аромат и всего Тургенева сворачивать в тонкую трубочку и засовывать в прятать куда подальше. Конечно, я потом, спустя две остановки после того, как попутчик мой сошёл, дочитал рассказ, но так и не понял — за каким Иван Сергеевич приплёл в этот рассказ крестьянских мальчиков, которых выдумал из своей дворянской головы… Хватило бы и облаков, травы, росы и сумеречных теней. А мальчики у него слиплись все от переложенного сахара в один ком.
По дороге на работу видел собачью свадьбу. Она была несколько необычной. Рядом с ней стояли три краснорожих мужика. Трезвые. Два с фотоаппаратами снимали действо, а третий советовал им, какие ракурсы выбрать. Ну, и комментировал происходящее. Радостно комментировал. Буквально захлебывался от восторга. Интересно — купят ли у них молодожёны фотографии?
Они стояли у химфака МГУ и прощались. Ну, как прощается молодёжь — как раз до того самого момента, пока не настанет пора снова встречаться. Он был в затейливо порванных джинсах, серьгах, бандане и на велосипеде. Велосипед под ним гарцевал. Вздыбливался на заднее колесо, кусал тормозами за переднее, прядал рулём и бешено косил фарой. Но всаднику было не до того — он целовался с дамой своего сердца. А дама… Дама была из московских барышень. В столице бывают такие тонкие, прозрачные барышни, которых и разглядеть-то можно как следует только при дневном свете, да и то по сверкающему колечку в пупке, а уж в сумерках их запросто спутаешь с узорчатыми тенями или туманным ореолом вокруг блуждающих городских огней. На такую дунь — и она растает без следа. Но если эта барышня взмахнёт ресницами, то поднимется такой вихрь, что… Одним словом, парня просто носило из стороны в сторону. То он целовал её справа, то слева, то в ухо, а то в нос. И вдруг в прощательном порыве он высунул язык и облизал шею, щёку и нос своей избранницы — точно так, как делают собаки, когда встречают хозяев с работы. Барышня на миг опешила, даже отстранилась, потом тщательно отёрла ладошкой щёку и нос и вытерла руку о бандану своего Ромео. Тут я должен сказать, что девушка была выше юноши. Даже с учётом того, что он был на велосипеде и немного привставал в стременах на педалях, когда целовался. Потому она и вытерла руку о его голову. То есть она начала её вытирать, и вытирала, вытирала… сначала одной рукой, потом обеими, потом прижала бандану вместе с головой к своей левой ключице и… они снова начали прощаться, а я пошёл к остановке троллейбуса. Завтра мне опять по делам службы надо быть на химфаке. Посмотрю — небось ещё и не простились.
На станции «Студенческая» ко мне подсел не очень трезвый мужчина лет сорока. Вернее, очень нетрезвый. Вернее, не подсел, а упал рядом. И стал громко икать. Минуты три икал. Потом его отпустило. Он наклонился ко мне и доверительно сказал: «Извини, друг. Не вторник, а хер знает что. У… Уикался весь, с ног до головы. Зато Америка, блядь…» Тут он снова икнул, положил голову ко мне на плечо и заснул. На «Багратионовской» я вышел. Даже и не знаю, куда он потом преклонил свою буйную икающую голову.
С утра пораньше поехал я в одну контору покупать винтики из нержавеющей стали. Хорошие винтики, не ерунда какая-нибудь под отвёртку а то, что надо, — под шестигранный ключ. Контора эта находится в районе метро «фили», в Промышленном проезде. Само собой, я заблудился и вместо Промышленного проезда вышел на Багратионовский. И в этом проезде упёрся в дом с вывеской «фетиш-магазин. Три комнаты». И в этих трёх комнатах продавалось эротическое бельё, такая же одежда и даже обувь. Ну, бельё и одежду я себе представить могу. Даже и… ну, могу, чего уж там. А вот обувь… Сколько ни представлял себе — ничего представить не мог. И вдруг как щёлкнуло что-то — вспомнил. Давно, когда я как будущий офицер химических войск был в военных лагерях, то носили мы с собой общевойсковой защитный костюм. И была в нём такая интимная деталь — сапоги-чулки. С завязочками и специальными шпиньками вместо пуговиц. Их надо было надеть за несколько секунд, потому что на весь костюм полагалось не более сорока секунд. Вот же мы с ними натрахались натрахались… И до того мне захотелось посмотреть на эротическую обувь моей молодости, что я… вспомнил, за чем сюда приехал — за винтиками из нержавеющей стали. И побрёл искать Промышленный проезд.
P.S. Ладно, врать не буду. Там дверь была приоткрыта — ну, я и заглянул. Смотрю — на полках стиральные порошки стоят. Мыла разные. Ну, думаю, правильно. Сначала постирайся, помойся, а потом уж и… Но заходить не стал. Зачем? Я когда голову вверх поднял, то увидел, что заглядывал в соседний магазин — в «Бытовую химию».
У станции метро «Университет» сидела на скамейке девочка лет пяти-шести. Она крепко прижимала к груди и одновременно убаюкивала рыжего, с белым пятном на лбу, котёнка. Маленькие девочки любят убаюкивать котят до полусмерти. Котята, однако, не жалуются, поскольку прекрасно понимают, что нет на свете никого, кто их любил бы больше, чем эти самые маленькие девочки. Рыжий тем не менее засыпать не хотел. Он бы, наверное, заснул, но в другой раз и не в десять утра. Девочка продолжала упорно, даже с ожесточением, укачивать своего питомца. При этом она тихо напевала ему песенку. Я навострил ухо и услышал: «Оле-оле-оле-оле…»
Вот эти современные юбки, которые держатся у девушек на честном слове юношей — это ужас что такое. Сегодня видел на Шаболовке такую юбку. Она была с поясом, а на поясе — широченная пряжка. И не просто пряжка, а целый экран, который как у хоккеистов защищал по которому бежали слова из красных точек: «Я по тебе скучаю!». Вот прямо по… и бежали слова. Как тараканы или другие насекомые. Поди догадайся — кто скучает, по кому и каким местом… А девушке хоть бы хны. Уши все в наушниках. Идёт и вертит всем, чем можно вертеть. Не говоря о крутить. Чего ж не вертеть, когда есть чем. Да и крутить тоже.
Субботу, как и всякий интеллигентный человек, решил провести культурно. Сначала читал Мартель Камю. Потом решил усугубить прослушиванием оперы. Я, конечно, не настолько интеллигентен, чтобы оторвать жопу от дивана пойти в оперный театр — меня вполне устроит прослушивание по каналу «Культура». Что уж там давали — не помню. Но что-то вполне занудное классическое. Я переключил как раз когда пели дуэтом герой и героиня. Ну, герой как обычный оперный герой. Щёки со спины видать. Поёт животом вперед. А вот героиня… очень даже. Молода и хороша собой. Голос у нее тембра… ну не меньше четвёртого, а то и пятого. И такое глубокое декольте контральто, что просто глаз не отвести. Спасибо оператору за крупный план. Смотрю Слушаю я, стало быть, арию крупным планом и думаю. У оперных певиц пение — оно как происходит? Ежели вверх поют — грудь бурно вздымается, а если вниз — то наоборот. И так она ходит вверх и вниз за одно представление не семь, но до семижды семидесяти раз. А то и больше, если опера, к примеру, Вагнера. Что из этого следует? А то, что после таких тренировок, как говорил бравый солдат Швейк или сапёр Водичка о своих знакомых девках с Градчан или из Смихова, «груди у них налитые, что твои мячи». Должны быть. А в действительности вместо бурного вздымания всё дрожит точно подтаявшее желе. Я буквально через силу смотрел слушал. Что же это получается? Ведь наши оперные, не говоря о балетных… или врут? у нас же педагоги лучшие на всём музыкальном свете и кремы лифтинги методики у них самые передовые. Или дурят нашего брата? Короче говоря, выключил я телевизор и опять стал Камю читать. Но уже под закуску.
На Лубянке митингуют коммунисты. Старушки с портретами Сталина и Жукова, карикатурный Горбачёв на плакате с американским флагом на лысине и Ельцин, грызущий кривыми кариесными зубами красные буквы «с», «с» и «р». Да, букв «с» было только две. Видимо, одну он уже загрыз и проглотил. В то время как с трибуны скандируют: «фашизм не пройдёт!», между рядами деловито снуёт молодой человек, предлагая участникам митинга фашистский листок «Русский марш».
На троллейбусной остановке маленькая женщина показывает пальцем на рекламный плакат с надписью: «Большая бутылка для большой страны» и, обращаясь к полному лысоватому мужчине, говорит с возмущением:
— Убивала бы за такие надписи.
Мужчина вздыхает, чешет в затылке и еле слышно отвечает:
— Это да… за правду у нас убить готовы.
Проходя по Третьему Павловскому переулку, попал под лошадь видел девушку внушительных статей. До того внушительных, что ростом она была на две головы выше меня. Ну, не совсем на две, а на одну голову и грудь. Или две. Сначала-то я плёлся позади неё по переулку, рассматривая не смея обогнать. Такие девушки, я вам скажу, не для узких переулков. Им нужны проспекты и площади, чтобы не протискиваться, поминутно рискуя застрять между припаркованными с обеих сторон машинами, а величаво плыть. Короче говоря, ухитрился я её обогнать. Сначала на треть корпуса, потом на половину, а потом забежал вперёд и побежал, не оглядываясь, к остановке троллейбуса. Уже в троллейбусе подумал, что зря я так торопился. Если разобраться, то и у больших девушек есть свои приятности. С одной-то стороны, конечно, да. Ей меньше двух эскимо и предлагать смешно. Не говоря о шампанском. А с другой… Придёшь домой после работы, уставший как собака. Весь день тебе начальник мозг сверлил сверлом с победитовой напайкой, секретарша его нс дала нс посмотрела вернула шоколадку просто мегера. Ещё и в общественном транспорте тебе отдавили совершенно личную левую заднюю ногу… А ты вскарабкаешься к своей девушке на колени, а то и вовсе забьёшься в какой-нибудь самый дальний и глухой уголок её необъятного тела, где ещё не ступала нога и не трогала рука. Свернёшься калачиком, пригреешься и, не без приятной жалости к себе, скажешь словами из песни: «Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой». Не вслух, конечно, скажешь. Про себя.
Москва, конечно, ужасный город — эти бесконечные пробки, эти пустые бутылки, с грохотом перекатывающиеся по вагонам метро, эти брюликоватые хозяева жизни, которые и за стол садятся, не снимая с себя мерседесов и хаммеров, эти бесчисленные попрошайки, обокраденные в столице и какой уж год собирающие деньги на проезд до своих владивостоков и новосибирсков, эти вечно голодные милиционеры, требующие справки о регистрации даже у бездомных кошек и собак, эти фешенебельные рестораны, в которых для того, чтобы выпить чашку кофе, надо брать кредит в банке… всего не перечислишь. И кабы прилетел какой-нибудь огромный дракон вроде того, которого на гербе Москвы попирает Георгий Победоносец, и стал угрожать столице пожаром и разорением, если не будут приводить ему каждый вечер на съедение по одной красивой девушке, — то прокатился бы по стране такой вздох облегчения, что будь у нас не электрическое, а свечное освещение — сидели бы мы в полной темноте. Если бы… Да только красивых девушек в Москве столько, что ешь их по три в день хоть сам дракон, хоть всё его семейство, включая тёщу с тестем и шурином, больным на все три головы после разборок с Ильёй Муромцем, то и тогда стоять этому городу ещё не одну сотню лет, а то и тысячу. Ещё когда сказано было — красотою мир спасётся. Много ли тех, кто поверил и спасается? Фомы неверующие. Сомневайтесь и дальше. А вот хитрая Москва давно уже… А иначе я и не знаю, чтобы на её месте было. Может, лес, а может, озеро с русалками. Волоокими и полногрудыми. И пели бы они такие сладкие песни об удивительном подводном граде по имени Москва…
P.S. Как из Москвы выедешь, так двадцать первый век и кончается. Начинается двадцатый и тянется, понемногу переходя в девятнадцатый. Если отъехать подальше или вовсе далеко-далеко, то где-нибудь за Уралом можно набрести на конные патрули гаишников стрельцов с пищалями, визжалями и даже скрежеталями, но… я так далеко не забирался.
Возле моста через Оку, на правом берегу, есть небольшой залив. На прошлой неделе он покрылся льдом, тонким, как яд воспоминанья из стихотворения Анненского. И не успел толком покрыться — усеяли его рыбаки. А у противоположного берега, там, где глубина и течение сильное — льда никакого нет. Но и там рыбаки. Стоят себе в резиновых сапогах по колено в ледяной воде и яйцами звенят удят. Я так думаю, что существуй ещё и третье состояние Оки — парообразное, то и там не обошлось бы без рыбаков. Парили бы себе с удочками и бутылками среди летучих карасей, окуней и головастиков. Рыбак неприхотлив и может приспособиться к любому состоянию. Кроме трезвого, конечно.
P.P.S. Приехал из столицы домой, в Пущино, вышел из автобуса, и захотелось крикнуть: «Люди, где вы? Ау!» Неужто эта мамаша с коляской, эта бабка с клетчатой сумкой на колесиках, этот растрёпанный юноша, этот красномордый рыбак с коловоротом и эта бездомная кошка у двери моего подъезда и есть все?
И слышно, как лает собака, как скрипят и раскачиваются деревья, вынуждая ветер дуть, как он недовольно шумит спросонок, путаясь в тонких и толстых ветвях, как в соседнем дворе какая-то женщина кричит сиплым наждачным голосом: «Коля, да не слушай ты их — пошли всех на хуй…»
Настоящий английский поросёнок
Данте
- земную жизнь
- пройдя до половины,
- я очутился
Из раннего детства мало что помню. Нет, если б я был Лев Толстой, который всё помнил о себе ещё с того самого момента, как его батюшка подкрался к Софье Андреевне с предложением… Хотя… Софья Андреевна здесь ни при чём. Точно ни при чём. Просто общее впечатление такое, что она его и… Но нет. Отчество-то у писателя было — Николаевич. Ну да я не Лев Толстой. Никто в меня не смотрелся как в зеркало. И мимо смотрели, и сквозь — всяко бывало, а так, чтобы революция в меня, как в… нет, этого не было. Если только драка какая… Но я отвлёкся. О детстве так о детстве. В памяти лоскутки какие-то. Жили в коммуналке. В трёхкомнатной квартире. У нас была одна комната, а у соседей две. У соседей, кроме двух комнат, была дочка Валя. Лет на пять меня старше. Или около того. А у соседей по этажу была тоже девочка и тоже Валя. Такого же возраста. Я потом подрос, и мы втроём дружили. Бегали по двору и ходили в кино. Грызли семечки. Вот самое первое воспоминание и связано с семечками. Я-то не помню, конечно. Мама рассказывала. Я лежал в своей коляске (не было у меня ещё кровати), в комнате. Грудничок был. Месяца три-четыре. А обе Вальки бегали вокруг. Мать им разрешила со мной поиграть. Ну, они играли, как могли. Со мной тогда какие игры? Пускал я себе и окружающим от избытка чувств пузыри и руками сучил. Валькам надоело передо мной трясти игрушками, и они в порыве чувств принялись кормить меня жареными семечками. Но чистили сами. На мои дёсны надёжи-то не было. Они, перед тем как, — во рту у меня пальцами пошарили — зубов не было ни разу. Так что лузгали они их сами. Мне оставалось только ими давиться. Но виду я не подал. То есть молчал, как партизан на допросе. Это дало Валькам основание утверждать, что ел я добровольно и даже с охотой. Это они потом маме рассказывали, когда она их застукала за моим кормлением. Плакали, каялись и рассказывали. Но это ещё не конец лоскутка. Потом промелькнуло ещё лет двадцать, и одна из Валек окончила институт и стала инженером. Пришла на завод работать. Где и её отец, и мой работали. Мой папа взял её к себе в отдел. И вот как-то раз горел план. Тогда такое время было — чуть что, и план начинал гореть. И такое веселье начиналось в дыму горящего плана… Тех, кто его поджигал, так, и так… и эдак тоже. Оргия, одним словом. Папин технологический отдел был в числе поджигателей. Собрал отец совещание, чтобы определить, как быть дальше. Само собой, тут же и директор, и председатель парткома, и портрет вождя на стене злорадно ухмыляется в тараканьи свои усы. Ответ держат все, а тех, кто не мог его держать, брали на поруки и держали всем коллективом вместе с ответом. Дошла очередь и до подруги моего детства. За какую-то она там гайку отвечала. Тьфу, а не гайка. И говорить не о чем. Но порядок есть порядок. И её отец строго спрашивает — доложи, мол, Валентина, как обстоят дела с такой-то гайкой? Почему ты допустила, что резьба на ней получилась левая, а не правая, в соответствии с чертежом и словами, которые я ещё на прошлой неделе говорил начальнику участка, токарю и даже его станку, чтоб им не дожить до аванса и замены машинного масла? Растерялась Валька… Задрожали губы у молодого специалиста, и начала она свой ответ главному технологу со слов: «Дядя Боря…». Тут упал занавес, графин со стола и папироса изо рта директора. Ну, потом всё хорошо кончилось. Даже и премию квартальную Вальке дали. Или тринадцатую зарплату. Тех подробностей я уж не помню. Я и этих-то не помню. Хорошо, что есть у кого спросить.
В раннем детстве я боялся двух вещей. Именно вещей. Первой вещью был большой плюшевый медведь, который страшно рычал. Это был подарок какого-то из родственников. Я им почти не играл, и он жил в изгнании, на шкафу. Пылился молча. Иногда, когда я капризничал и плохо себя вёл, то мне грозили, что медведь меня заберёт к себе. Попасть на шкаф мне хотелось, но жить с медведем… А ещё я боялся книжки «Три поросёнка». Очень мне было страшно за поросят. И за себя, конечно. Какой же ребёнок не отождествляет себя с поросёнком? Это сейчас нет нужды отождествлять, поскольку за тебя это делают все кому не лень, а тогда… Если бы я мог, то эту сказку сократил бы до одной, последней, страницы. Той, где всё хорошо кончается и от волка на картинке видны только сверкающие пятки. Но мне очень нравился каменный домик Наф-Нафа. А картинка с домиком была на предпоследней странице. Я смотрел на неё, на очаг из красных кирпичей, на котёл с кипящей водой, на кресло, в котором сидел Наф-Наф… и мечтал жить жизнью настоящего английского поросёнка. Изредка я быстро переворачивал страницы и с ужасом взглядывал на страшные картины разрушения домиков Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Моя поросячья душа мгновенно уносилась в пятки и там сладко замирала от ужаса. А через несколько секунд, перевернув страницу, я отдыхал душой в интерьерах домика Наф-Нафа. Ян сейчас хочу жить в таком домике. И продолжаю хотеть. Скажете, что это непозволительная роскошь — жить жизнью настоящего английского поросёнка?..
Потом я чуть-чуть подрос. И как-то раз папа привёз мне из командировки, из Ленинграда, детский набор «Юный…» не помню кто. То ли плотник, то ли слесарь, то ли… нет, не алкоголик. Точно не он. Потому что в наборе были и молоток, и маленькие гвоздики, и лобзик, и, кажется, даже рубанок. Зачем алкоголику лобзик? Его, то есть лобзик, может отобрать жена и им его же, то есть алкоголика, пилить. Короче говоря, отвёл я душу. Ну, и ответил, конечно, по полной программе. За каждый вбитый гвоздик. Почему-то запомнился мне один гвоздь. Я его забил в стенку, в угол, за какой-то тумбочкой. Гвоздь загнул изо всех силёнок и нарисовал вокруг него циферблат, как у часов. На обоях и нарисовал. Старался, чтобы все цифры из тех, что я к тому времени знал, были. Кажется, не обошлось без нескольких повторов. Это должны были быть мои личные часы. С моим, совершенно личным, временем. Так мне хотелось и… досталось на крупные орехи. Почти кокосы. Всё же я был довольно шустрым мальчиком. Когда я всё это успевал проделывать… Без присмотра я почти не оставался. Взрослых не было в комнате буквально минуту. Вернулись — а на стене новые часы. Да, забыл сказать. Я был не только шустрый, но и смышлёный мальчик. Поскольку по нашей коммунальной квартире мы, дети, передвигались в безвизовом режиме, то часы я устроил у соседей в комнате. Подальше от своих родителей… Иногда мне кажется, что я так и живу по своему, по личному времени. И мне всё так же за это достаётся.
А любовь к гвоздям и прочим железкам у меня так и не прошла. Лет в шесть или пять мне купили новое пальто и выпустили во двор погулять. Я набрал в карманы этого пальто разных нужных и полезных гаек и винтов, которые в изобилии растут в любом дворе. Дело было весной. Гайки и винты только проклюнулись из земли, и их пришлось выколупывать. Немного они были грязные. Ну, я думал, что немного. Один шуруп, конечно, повёл себя по-свински. Порвал мне карман. Понятное дело, что мы в ответе за шурупы, которые собираем в карманы новых пальто. Но не до такой же степени, чтоб стоять из-за этого в тёмном углу целый час. В тусклом свете собственного малинового уха.
Воспоминания о жизни в детском саду, куда меня отдали года в три или четыре, оторвав от няньки, не очень радостные. Мы с нянькой, у которой я рос до этих пор, переживали. Она не хотела меня отдавать, да и я не хотел отдаваться. К своим трём с лишним годам я довольно неплохо отличал даму от валета и мог во время игры в домино вовремя крикнуть «рыба». А может, и не вовремя, но с чувством. Что мог дать мне детский сад? Тем не менее родители решили меня приобщать к жизни в коллективе. Они опасались, что я вырасту букой. Букой я вроде не вырос, но привычки к коллективу у меня так и не завелось.
Детский сад примыкал к заводу, на котором работал папа. Район этот назывался Свисталовка. Не знаю почему, может потому, что рядом была железная дорога и оттуда постоянно доносились свистки маневровых паровозов и тепловозов, и кто-то недовольным голосом кричал: «Десятый! Какого… вы до сих пор на седьмом пути?! Быстро в депо!», а может, и потому, что местные жители были соловьями-разбойниками.
Само здание детского сада когда-то было купеческим особняком. Это был старинный деревянный дом. С резьбой по наличникам и даже башенкой. Там была большая парадная зала, в которой стояло пианино. На стене висела огромная репродукция шишкинского «Утра в сосновом лесу». Впрочем, в то время репродукций для меня не существовало. Сплошные оригиналы. Это сейчас заранее считаешь всё подряд репродукциями и страшно удивляешься, что вдруг — и оригинал. А тогда… Кроме «Утра в сосновом лесу» висел портрет того, кого дети той страны, в которой я родился, путали то с зайчиком, то с северным оленем из анекдота. Однажды в день рождения этого зайца с оленьими рогами мне пришлось читать стихи, ему же и посвящённые. От волнения я, конечно, всё позабыл и решил смыть позор обильными слезами… Сейчас-то я бы ни за что не заплакал, несмотря на то, что теперь не помню не только этих, но и многих других стихов.
В зале устраивались и «обычные» торжественные мероприятия, по более нам понятным и человеческим поводам, с приглашением родителей. И ещё мы там занимались зимой зарядкой и разучивали песни и стихи всё к тем же торжественным мероприятиям. Аккомпанировала нам старушка, которую звали Милица Николаевна. Конечно, мы, неучи, звали её Милицией. Закладывала она за воротник довольно основательно. Впрочем, не столько за воротник, сколько за нижнюю деку пианино. Ну там, где педали. Она пила одеколон «Сирень». Был такой в крошечных пузырьках и стоил чуть ли не шесть копеек. Странно, но пузырьки эти я хорошо запомнил. Они были прямоугольные, с сиреневой этикеткой и белой завинчивающейся крышечкой. Вот она и бросала их в щель, за эту деку. А потом пианино стало плохо играть. Вызвали настройщика, а он как откроет эту деку, а оттуда как посыплется… Как я теперь понимаю, эту историю наверняка кто-то придумал. Но мы тогда под страшным секретом её друг дружке пересказывали.
Воспитательница наша, Клавдия Владимировна, была женщиной строгой. Я совсем не любил играть в разные коллективные игры на свежем воздухе. Мог просто сесть в сторонке и смотреть, как за забором по улице люди ходят и едут машины. Помню, однажды зимой она велела взять мне санки и просто так возить их, чтобы я не замёрз. Я возил-возил, пока не исхитрился завезти их от неё подальше, за деревья и кусты, а там опять прильнул к забору. Но меня и оттуда извлекли… Тем не менее кое-какая личная жизнь в детском саду у меня была. Я был влюблён в двух сестёр-двойняшек сразу. Нинку и Маринку. И всё не знал, на какой из них жениться. Нинка и Маринка тоже не торопили события, хотя мы уже с ними мерялись целовались в кустах, за верандой. Но если играли, то всегда втроём. Клавдия Владимировна откуда-то была в курсе моих мечтаний. Однажды после обеда она велела встать мне на стул и всем громко сказать — на ком же я буду жениться. Не то чтобы я оскорбился такой постановкой вопроса или разревелся. Как раз нет. Я задумался…
Уж Нинка и Маринка повыходили замуж, уж и развелись и снова повыходили, а я всё… Иногда мама мне говорит, что встречает маму Нинки и Маринки. Когда та спрашивает обо мне, то всегда говорит: «Ну, как там дела у зятя?» Да, чуть не забыл. Ещё тогда, в саду, Нинка и Маринка однажды пришли в сад в новых белых шубках. Шубки были овчинные. И почему-то невыносимо пахли рыбьим жиром. Подойти было нельзя. Пришлось их разлюбить. И шубки, и Маринок.
Перед праздниками Клавдия Владимировна говорила нам: «Дети! Передайте своим родителям, что я люблю духи «Красная Москва». Мы говорили, и родители покупали высокие и круглые красные коробочки с «Красной Москвой». В них был стеклянный пузырёк в виде Спасской башни. Вручали духи воспитательнице дети. Мы подносили духи, Клавдия Владимировна нас целовала, немедленно открывала пузырёк, шумно нюхала, едва ли не до половины втягивая его в свой огромный нос, а потом… потом расстёгивала свой белый халат и часть духов отливала за вырез платья. Вот такой был ритуал. Не хуже и не лучше множества других ритуалов. Кстати, Клавдия Владимировна была дамой крупной, с таким бюстом, что упади случайно пузырёк в декольте — его не один час искать пришлось бы. Или это мне тогда так казалось Неужели уже тогда…
Меня часто забирали домой позже всех из сада. Я оставался со сторожем. Рядом была заводская лесопилка, и мы ходили к щелям в заборе смотреть и слушать, как визжали поросячьим визгом циркулярные пилы. В воздухе носились тучи мелких и пахучих чихательных опилок. У сторожа было ружьё. Двустволка. И он мне разрешал её подержать. А может, и не было никакого ружья. Может, оно было в чьём-нибудь другом детстве. Не помню. Столько лет прошло. Но сторож был. Это точно.
Я страшно завидовал тем детям, которых забирали первыми. А иногда случалось такое счастье, что сразу после обеда приходил кто-то из родителей и нянечка кричала: «Петров! Быстро одеваться — мама пришла». За Петровым часто приходили раньше положенного. Какое-то время я даже мечтал превратиться в Петрова, чтобы и меня мои родители уводили пораньше из сада. Впрочем, у Петрова уже тогда были таких размеров уши, что и до сих пор мои существенно меньше. А ещё веснушки, из-под толстого слоя которых сам Петров был еле виден… Так что я, прикинув все плюсы и минусы этого опасного мероприятия, передумал превращаться.
Тем, кто оставался в саду, предстояла пытка послеобеденным сном. Засыпать приходилось с большим трудом. Взрослым легко засыпать — они умеют считать овец или облака. А когда ни считать, ни писать… Мало того, засыпающий ребёнок должен был, согласно приказу воспитательницы, «лечь на бок, положить руки под голову и закрыть глаза». Верчение на кровати, хихиканье и перешёптывание строго пресекались. Я был упорный незасыпанец. Лежал-то я тихо и руки держал, где велели, но глаз не закрывал. Рассматривал трещины в штукатурке, остатки гипсовой лепнины, чудом сохранившейся ещё с дореволюционных времён, печные заслонки затейливого литья, дубовый паркет, который регулярно натирали до блеска нянечки жужжащим полотёром, выходившие в сад высокие стрельчатые окна с огромными подоконниками и ветви огромных лип, которые, должно быть, ещё и к купеческим детям заглядывали в комнату, когда они не хотели засыпать. Никогда не мечталось с таким удовольствием, как тогда. Только одно мешало — запахи приготовляемой на кухне пищи. Запах каких-нибудь щей или горохового супа мог разрушить любой, даже самый неприступный воздушный замок.
Я очень хорошо запомнил эти интерьеры. Потом, много лет спустя, читая самые разные книжки, я представлял себе, что действие происходит именно в этой обстановке. И романы Дюма и пьесы Уайльда — всё разыгрывалось в декорациях моего детского сада. Увы, запахи я запомнил тоже хорошо. И когда миссис Чивли из «Идеального мужа» так изощрённо шантажировала сэра Роберта Чилтерна в гостиной его дома на Гровнер-сквер… Так вдруг некстати в эту гостиную вползал запах вчерашних детсадовских щей…
Одним из самых больших удовольствий в те годы был приезд передвижного кино в наш двор. Тогда слово двор ещё не было синонимом парковки. В нашем дворе стояли скамеечки, как в кинотеатре, и была сколочена сцена из досок. Поздней весной и летом, по выходным, как начинало темнеть, крутили разные фильмы. Над сценой натягивали экран. Но… перед скоромным было постное. Этим постным был лектор общества «Знание». Кратенько, минут на сорок, в цифрах и фактах, как говорил карнавальный Огурцов, нам рассказывали о международном положении, о видах на урожай зерновых, а то и зернобобовых, о том, что в этом году район по яйцам так вырвался вперёд, что оторвался от них напрочь, ну, и, конечно, о жизни на Марсе. Иногда лектора заменяли коллективы местной и заезжей художественной самодеятельности. В основном дети или пенсионеры. Пели и плясали. Играли баянисты и балалаечники. Но кино было интереснее всего. Смотрели по десять раз «Волгу-Волгу», «Весёлых ребят», «Детей капитана Гранта». Можно было бегать между рядами, свистеть, плеваться шелухой семечек и кричать главному герою: «Обернись! В тебя целятся!» Тогда, в шестилетнем, кажется, возрасте, я увидел фильм «Женитьба Бальзаминова». Скорее всего, почти ничего и не понял, но с тех пор Миша Бальзаминов, не считая Обломова, один из самых любимых моих литературных героев. Наверное, потому, что я и сам на него похож. По крайней мере, так утверждает моя мама. Ей виднее. Как хотите, но я б и сейчас издал указ, чтобы бедные женились на богатых, а богатые — на бедных. Конечно, получилось бы чёрт знает что, как это обычно у нас и получается. Богатые сейчас же стали бы взятки давать чиновникам из дворцов бракосочетаний, откупаясь от бедных невест и особенно женихов. Заключались бы фиктивные браки с бедными где-нибудь в районном загсе с выцветшими тюлевыми занавесками и тайные с богатыми в фешенебельном загсе на Канарах. Некоторые беднели бы нарочно. Ходили бы в рваных костюмах от Версаче и ездили на подержанных роллс-ройсах. Самые отчаянные из богатых и на преступления шли бы. Пусть хоть в тюрьму, но жениться только на богатой. Начались бы показательные суды над богатыми, не желающими жениться. Наши журналисты строчили бы душераздирающие статьи о том, что в какой-нибудь вологодской деревне местный олигарх уже оформил три брака с местными доярками и прижил от них кучу ребятишек, а сам тайно повенчан… Ну вот, опять включили свет. Не дают помечтать…
В тот год, когда мне пришла пора идти в школу, мы переехали в другой дом под названием «Самогонщики». Стоял он на улице имени человека с горячим сердцем и холодными конечностями, и номер у него был — тридцать шесть дробь один, но назывался не иначе как «Самогонщики». Дом наш был «самостроевский», как тогда говорили. Отец выстоял на родном секретном заводе очередь, чтобы иметь право включиться в дружный коллектив строителей этого дома. Как только коллектив был укомплектован и завод наскрёб по своим секретным сусекам достаточное количество бетонных плит, кирпичей и оконных рам, строительство началось. Так получилось (так почему-то всегда получалось), что строить начали в январе.
Рытьё котлована под фундамент в январе представляет собой, мягко говоря, не слишком остроумное занятие, но сорок лет назад порядку было не в пример больше, чем сейчас, и все хорошо понимали, что остроумие отдельно, а отдельные квартиры… ну, в общем, понятно. Не будем разводить тавтологию. Морозы в моём детстве были, само собой, морознее, и процесс с мёртвой точки не двинулся даже до запятой. Тогда решили греть землю. На заводе изготовили несколько десятков обогревательных аппаратов… Нет, не так всё просто. Сначала их спроектировали секретные конструкторы, потом секретные снабженцы выбили на их изготовление фонды, потом секретные рабочие их изготовили, а уж потом… наступила весна. Буквально ни с того ни с сего. Вывезенные на место будущего котлована установки заправили соляркой, и они, нещадно коптя, начали греть раскисшую землю. Эффект был. Сгорела бытовка и заготовленные доски для опалубок. Проходивший не раз и не два мимо народ на предмет подобрать плохо лежащие стройматериалы прозвал эти огнедышащие устройства из высококачественной секретной стали самогонными аппаратами. Почему? Да потому. Оговорился народ, что называется, по Фрейду. С тех самых пор вот уж сорок лет так дом и называют — «Самогонщики».
Раз уж зашла речь о домах, расскажу про соседский дом, совершенно такой же, с позволения сказать, архитектуры, но с названием «Караси». Котлован там вырыли летом (и такое случалось в нашем народном хозяйстве), но этим дело на несколько лет вперёд и ограничилось. Начальство, настойчиво спрашиваемое народом, отвечало словом «фонды» и со значением вздымало вверх указующий перст. Лето было дождливое. В котловане образовалась сначала лужа, потом большая лужа, потом лужа огромных размеров, потом заквакали лягушки, и местная ребятня устремилась к этой луже с самодельными удочками. Что уж там можно было поймать — не представляю. А тогда — тогда и я ходил. Кто-то пустил слух, что старик Прохорович (которого все звали не иначе как Прохерыч), вохровец с родного и от того ещё более секретного завода, как-то поймал там карася. Может, это был и не карась, а пустая бутылка, до собирания которых Прохерыч был большой охотник, — о том история умалчивает и по сей день. Мы тогда, в приступе карасёвой лихорадки, даже с уроков сбегали, чтобы поудить в этом рыбном эльдорадо, да только всё без толку. А вскоре и кусок фондов на строительство начальство изыскало где-то, котлован, вместе с нашими мечтами о карасе (о Карасе с большой буквы) осушили и стали строить дом.
С тех самых пор, как легко догадаться, вот уж сорок лет… «Караси» и никак иначе.
Прохерыч, кстати, хоть и был простым вохровцем, а в самострое вместе со всеми замечен не был. Собирая пустые бутылки денно и нощно в свободное от дежурств время в электричках по маршруту Серпухов — Москва, накопил он денег на кооператив. Говорили даже, что после его смерти (жил он бобылём) в сберкнижках на предъявителя оставалось чуть ли не двадцать тысяч новыми деньгами. Определённо врали, потому как многие покойника на дух не выносили.
Я почти не застал чернильниц в первом классе — началась эпоха авторучек. Тех, которые с открытым или закрытым пером, с поршнем или попроще, с пипеткой. У меня была простая — с открытым пером и пипеткой. Копеек шестьдесят она, кажется, стоила. Чёрт меня дёрнул положить её в карман форменных брюк и бегать на перемене до полного упаду. Тут это чудо техники и сломалось. Чернила, натурально, в карман и далее везде. Дома штаны снял, пятно пытался замыть. Размазал обширно. А ещё были трусы. А ещё части тела фиолетового цвета. Нога, ну и… всякое там разное. Разное никак не отмывалось. Чернила были какой-то особенной стойкости. Сейчас таких ни за какие деньги не купишь. В разгар моих помывочных усилий в ванную комнату зашёл папа. Посмотрел на меня, на уже светло-фиолетовое разное, и спросил: «Сынок, а чем ты сегодня в школе писал?» Любят родители задавать дурацкие вопросы детям. Ох, и любят…
Читать я научился рано и быстро втянулся в это увлекательное занятие. Втянулся настолько, что забросил беготню по двору со сверстниками. Родители забеспокоились и стали в принудительном порядке выпроваживать меня во двор погулять. Сопротивляться было бесполезно. Никакие обещания погулять потом или «уже иду, только главу дочитаю» не спасали. Меня выталкивали, как я ни упирался… для виду. Под курткой у меня уже была спрятана книжка. Мы жили на третьем этаже. Я поднимался на четвёртый и там читал стоя, привалившись к перилам лестничного пролёта.
На четвёртом этаже среди прочих жила семья одного из папиных сослуживцев. Собственно, у нас в доме, да и в микрорайоне, почти все были сослуживцами — работали на одном заводе, Фима, о котором пойдёт речь, был начальником цеха метиза, попросту говоря, цеха болтов, винтов, гаек и шайб. Помнится, он уже был пенсионером или почти пенсионером, но на пенсию его не отправляли. Начальство ценило Фиму за феноменальную память. Он наизусть знал все виды болтов и болтиков, гаек и гаечек. Да и в коллективе цеха, среди токарей, фрезеровщиков и кладовщиц он пользовался непререкаемым авторитетом. Подчинённые души не чаяли в своём начальнике и были готовы носить его на руках. Он, конечно, был хороший начальник. Никто и не спорит. Но этого, как вы сами понимаете, маловато для того, чтобы инженера Ефима Ароновича Дворкина, хоть бы и начальника цеха, уважал токарь Иванов Пётр Васильевич или фрезеровщик Сидоров Иван Фёдорович. Не говоря о носить на руках. Дело было в том, что Фима мог перепить любого в своём коллективе. На моей памяти один-единственный раз его привели под руки домой подчинённые-собутыльники. Да и этот раз никому не запомнился бы, если бы товарищи по ударному труду и ещё более ударному отдыху по ошибке не привели его к двери совершенно другой квартиры, в другом доме, из которого Фима вернулся к своей жене Фире через два дня и, как говорится, только на минутку за гитарой. Увы, Фима не был примерным семьянином. Все эти заводские кладовщицы, секретарши… Все эти полутёмные кладовки и пустые кабинеты… Он был не из тех, кто способен пройти мимо, Фима ещё очень был способен не пройти. Бедная Фира — что она терпела в маленьком городке, в микрорайоне, где все, начиная с соседей и заканчивая собаками и кошками, судачат, собачат и мяучат обо всех превратностях твоей личной жизни. Тем не менее Фима регулярно возвращался к Фире. Так же регулярно она не хотела его пускать в квартиру Начинались сложные переговоры через дверь. Вернее, со стороны Фиры они были сложными, а Фима был по-военному краток и только бубнил: «Открой уже дверь, не буди соседей». Соседи, конечно, спали беспробудным сном у своих дверных глазков. Но Фиру было трудно остановить. Рассказ о своей несчастной семейной жизни с Фимой она начинала ещё с беременности своей мамы. По мере приближения повествования к сегодняшнему дню Фира переходила от причитаний на идиш к русскому мату точно так же, как после выстрелов в воздух переходят к стрельбе на поражение. У соседей к картинке добавлялся звук… Впрочем, у Фиры с Фимой все кончалось вполне благополучно. Воцарялся худой мир, который, как утверждали злые языки, был лучше толстой Фиры.
У других всё было более затейливо. Сосед, живший за стенкой, а до этого проведший в застенке не один год, почти каждый вечер устраивал своему семейству что-то вроде отборочных игр чемпионата по кикбоксингу. Выходя на семейный ринг, он, конечно, пользовался не только руками и ногами, поэтому имели место случаи и стулбоксинга, и даже утюгбоксинга. Супруга его довольно ловко уворачивалась, хотя и выпивали они на равных. В промежутках между атаками и контратаками жена соседа стучала кулаком в нашу общую стенку и кричала: «Лариса, спаси!» Само собой, в доме все были в курсе, что мама работает в милиции. Мама звонила в дежурную часть и вызывала наряд. Приезжал воронок и забирал дебошира на пятнадцать суток. На следующее утро проспавшаяся и опохмелившаяся соседка приходила в милицию и, размазывая по лицу всё, что на нем отпечаталось после бессонной ночи, проведённой в опустевшей супружеской постели с никелированными шишечками, умоляла вернуть своё, которое горестно мычало тут же рядом, в обезьяннике. Супруга сдавали буквально с рук на руки, и максимум через неделю этот день сурка повторялся. Метались в стену утюги, стулья и прочая домашняя утварь… Живи алкоголики вечно, сосед таки разрушил бы стену и, вероятно, принялся за другую. Однако в неравной борьбе с зелёным змеем только у змея отрастают новые головы, а у соседа отказала и единственная, не выдержав постоянных скандалов с печенью. Ходили слухи, что при вскрытии у него в венах нашли чистую политуру, без всяких примесей крови. Ян сейчас верю этим слухам.
Вспоминается мне ещё один сосед, которого все звали Петюня или атаман П. Петюня зимой и летом ходил в выгоревшей солдатской гимнастёрке. Рассказывали, что во время войны побывал он и в плену, и в партизанах. Ну, а потом — Колыма. Зубов у него после лагеря совсем не осталось. Да если б и были… Кроме водки и хлеба с горчицей, в руках его ничего никогда и не видывали. Человек он был добрый и жизнерадостный, даже с похмелья. Лицо Петюня имел удивительно подвижное, гуттаперчевое. Мы часто приставали к нему с просьбой представить комедию или трагедию на лице. Он представлял — втягивал в беззубый рот лицо так, что того и гляди глаза проглотит. Получалась хоть и страшная, но комедия. Наверное, потому, что глаза у Петюни всё время смеялись. За это мы его и любили. Денег ему родители давать не велели, потому что пропивал он их. Хоть копеечку дай — и её умудрялся пропить немедленно. А вот продукты таскали. Такой был у нас натуральный обмен — хлеб на зрелища. В памяти только и остались эти его смешные лица. И ещё одна картина — сидит Петюня на недостроенной стене нашего дома. В одной руке стакан (никогда он из горлышка не пил), а в другой — кусок хлеба. Дом был в тот момент достроен до третьего этажа. Как он тогда не свалился — ума не приложу. Впрочем, тот, кому суждено спиться, — не свалится.
Однако я отвлёкся от рассказа о книгах моего детства. До пятого класса я читал всё подряд, как книгочитательная машина. От Гомера до Мильтона и Паниковского. Кстати сказать, в детстве я старался брать в библиотеке как можно более толстые и потрёпанные книги. Так я выглядел более солидным в своих собственных глазах. Через год такого беспорядочного чтения мне в руки попались «Униженные и оскорблённые». Прекрасно помню потрёпанную синюю обложку с чёрными силуэтами петербургских домов. Помню пожелтевшие ломкие страницы и чёрно-белые рисунки… А вот саму книгу я тогда так и не успел прочесть.
В один прекрасный вечер я отправился с друзьями в кино. Показывали «Гиперболоид инженера Гарина». Тот самый первый и для меня самый лучший фильм, в котором Гарина играл Евстигнеев. Как раскрыл я рот в самом начале фильма, так неделю и закрыть не мог. Гиперболоид меня околдовал. Представил я себе, как недрогнувшей рукой режу страшным лучом школу оливиновый пояс, проходящий под улицей Дзержинского, как язык расплавленного золота выходит на поверхность возле винного магазина в соседнем доме, как соседи и алкаши… Наконец, как Валька Данилова из соседнего пятого «Б»… Дело было за малым. За гиперболоидом. Мальчик я был начитанный, понимал, что в кино всего не покажут. Мелькали в кадрах там какие-то рисунки, но запомнить я их не успел. На следующий день книжка с романом Толстого уже лежала в моём портфеле. Чертежей и там не было, но был рисунок. На первых порах рисунка должно было хватить. А там видно будет. Первые поры прошли дня через два, когда все места в романе, касающиеся устройства гиперболоида, я уже знал наизусть, а понимания, как его делать, не появлялось. Я перерисовал картинку из книжки себе в альбом для рисования, обвёл её химическим карандашом, но… К папе я обращаться за советом не хотел. Я не боялся насмешек, нет. Я боялся, что он расскажет маме, а мама запретит строительство гиперболоида. Так уже было, когда я мастерил паровую мельницу из пустой кофейной банки, а она ни с того ни с сего распаялась, закапала оловом обеденный стол и прожгла паяльником линолеум на кухне. Пришлось за неё отвечать.
Папа всё же заметил мои страдания и посоветовал почитать какой-нибудь учебник по физике. Для начала школьный, а уж потом и тот, в котором написано про конструирование гиперболоидов. Физику в пятом классе ещё не изучали, и учебника у меня не было. Тогда вообще был дефицит с учебниками, и их выдавали в конце года, да и то не все. Выдавали бесплатно, купить их было нельзя. И тут мне помог случай.
На следующий день в школе был назначен сбор макулатуры. Вернее, её отгрузка в утиль. Целый месяц до этого мы ходили по домам, как пионеры (почему как?!), и выпрашивали макулатуру. Нам подавали. Вся макулатура стаскивалась в небольшой сарайчик, стоявший на заднем дворе школы. Ближе к концу учебного года сбор прекращался, приезжала машина, и мы всю собранную макулатуру на неё грузили. День погрузки и несколько дней до него были для меня праздником. В этой пахнувшей плесенью и пылью куче старых журналов, тетрадей и книг можно было отыскать настоящие сокровища. Там я нашёл научно-фантастический роман Циолковского «Вне Земли», двадцать восьмого года издания, книгу о жизни на Марсе и «Затерянный мир» Конан-Дойля. Там я впервые увидел журнал «Огонёк» с портретом Сталина. В другом номере «Огонька» я вдруг открыл, что русский с китайцем братья навек. О том, куда исчез этот век, никто мне не сказал, даже родители, отобравшие у меня журналы. Но самое главное — в этой куче нашёлся трёхтомный курс физики Пёрышкина. Курс был старый, чуть ли не довоенный, но ведь и роман Толстого был написан до войны. Само собой, начал я читать не с первого тома. Меня интересовал раздел оптики. Надо было найти сведения о зажигательных линзах к гиперболоиду.
Через три дня упорного изучения курса физики я решил «снизить объём притязаний», как говорят изобретатели, когда экспертиза им сообщает, что изобретённая ими жужжалка, которой они предполагали жужжать в известном месте, жужжать не будет и в оное не войдёт, а если и войдёт, то выйдет непременно боком. То есть насовсем отказываться от гиперболоида я не хотел, но отложил его строительство до лучших времён. В том, что лучшие времена наступят, я не сомневался. Кто же в детстве сомневается в их наступлении. Я решил делать спектроскоп. Это такой прибор, который позволяет… Впрочем, для данного рассказа не имеет никакого значения, что он позволяет. Важно то, что для этого прибора нужна была стеклянная призма, разлагающая свет. Вот её-то у меня и не было. Но о том, как её сделать, я прочёл в тоненькой книжечке «Библиотека пионера и школьника. Серия “Физика”». О, эти тоненькие книжечки для пионеров и школьников! Мне теперь кажется, что их авторы писали эти замечательные книжки на разных секретных квартирах и в подвалах, спасаясь от гнева родителей юных физиков, химиков и биологов. Помню, как прочёл о том, что срок службы севших батареек можно продлить, вываривая их несколько часов в крепком солевом растворе. Старых батареек у меня не было, поэтому я взял новые, из папиного фонаря, и стал их варить, справедливо полагая, что после этого они уж точно станут живее всех живых. Но они почему-то лопнули, как переваренные сардельки, и из них вытекло чёрное, вязкое и прилипшее намертво к дну кастрюли. Папа потом мне объяснил буквально на пальцах, что, увеличивая срок службы батареек, я сокращаю срок службы нашей мамы.
Но всё по порядку. Призму из настоящего силикатного стекла мне было не изготовить. Нет, если б у меня были кое-какие ингредиенты и высокотемпературная печь для варки стекла, я бы не задумываясь начал его варить. Но печи не было, а духовка в кухонной плите для этой цели не подходила. Я проверял. Получил отрицательный результат, подзатыльник от папы и стал выпиливать призму из оргстекла лобзиком. Естественно, что грани такой призмы были непрозрачными. Я стал читать книжечку дальше. Там было написано, что сначала поверхности призмы обрабатывают напильником, потом шлифуют наждачной бумагой, а уж окончательную полировку делают зубным порошком и зубной пастой. Мне повезло — папа чистил зубы порошком «Жемчуг», а мама и я — пастой «Поморин». Я понимал, что полировку призмы надо успеть сделать за один рабочий день. Запасов порошка, пасты и терпения родителей в доме было немного, и второго такого случая могло не представиться.
В тот день мне повезло ещё раз — первой с работы пришла мама. Квартира являла собой иллюстрацию к повести Пушкина «Метель». В памяти с этой картиной почему-то связывается строчка из пушкинских же «Бесов»: «Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют?». Но это уже рассказ о разборе полётов с участием папы.
А призму я сделал. И она много лет хранилась у меня в каком-то ящичке, потом ею играл сын, а потом она куда-то затерялась. Спектроскоп, увы, у меня так и не получился. Терпения у родителей не хватило. Зря не хватило. Потому что на мои эксперименты по книжке «Библиотека пионера и школьника. Серия “Химия”» им его (терпения) понадобилось гораздо больше.
Описывая своё первое знакомство с химией, я, наверное, должен был бы начать со слов: «Химия ворвалась в мою жизнь», но нет. Химия в мою жизнь не врывалась — она шла своей дорогой, а я шёл своей. Не столько шёл, сколько перебегал в неположенных местах дороги разных естественных наук, следуя своим многочисленным детским увлечениям. Химия в школе мне не нравилась. Преподавала её у нас старушка с седыми растрёпанными волосами, похожая на портрет Менделеева — тот, что обычно печатают в уголке его таблицы, только без бороды. Да и во всём остальном у нашей учительницы и Дмитрия Ивановича было не меньше десяти отличий. Запомнились два: Менделеев, хоть и написал диссертацию о соединениях спирта с водой, — столько не пил этих самых соединений. И ещё у него не было такой огромной груди. Казалось, старушка состояла из неё одной, и эта грудь постоянно перевешивала её при ходьбе. Росту она (не грудь, а старушка) была маленького, поэтому в состоянии, которое в народе называется «выпимши», а иногда и до такой степени, что даже стрелки её огромных, наручных часов смотрели в разные стороны, постоянно спотыкалась при ходьбе обо что угодно, даже об Гоголя.
Поднимем, однако, упавшую старушку, отставим её в сторону и вернёмся к химии. Поначалу я получал по этому предмету сплошные тройки. Учительница даже объявила мне, что способностей к химии у меня нет. Честно говоря, я не расстроился. Мне было скучно заучивать названия разных элементов. Строение атомов и молекул меня тогда мало интересовало. Кого в детстве может интересовать то, что нельзя подержать в руках и попробовать на вкус? И тогда папа взял меня на буксир. Я, конечно, отлынивал — тайком подпиливал буксирный трос, садился на мель при каждом удобном случае и вообще был не прочь открыть кингстоны у своей баржи. Но папа был неумолим. Однажды, проверяя моё домашнее задание, он указал пальцем на значок Си и спросил: «Как называется этот элемент?» Ничтоже сумняшеся я ответил: «Си». Мысль о том, что этот символ обозначает медь, в мою алюминиевую голову не пришла. Тогда отец придвинул ко мне таблицу Менделеева и строго сказал: «Даю тебе пятнадцать минут… нет, и пяти хватит, чтобы найти оставшиеся элементы — до, ре, ми… все шесть».
На следующий день я получил свою первую пятёрку по химии. Но интереса к науке чудес всё равно не было. То есть я учил её, но делал это так же, как и мои дети, когда родители брали их на буксир, и как, наверное, будут её учить мои внуки, когда их родители…
Так всё и продолжалось, если бы в один прекрасный день (как много в детстве прекрасных дней… описывая сегодняшние события, я бы просто сказал «однажды») я не отыскал в библиотеке книжку с биографией английского химика Гэмфри Дэви. Называлась книжка «Живи в опасности». Дэви был великий химик — основатель электрохимии, человек, открывший «веселящее» действие закиси азота, первооткрыватель семи химических элементов. Всех его заслуг не перечислить. Ну да не о них сейчас речь. Восхитил меня сэр Гэмфри удивительным бесстрашием при проведении экспериментов. За открытие калия он и вовсе поплатился правым глазом. Вот этот глаз меня поразил в самое сердце. Я представил себе, как убелённый сединами, в камзоле с блестящими пуговицами, с чёрной повязкой на глазу, с попугаем на плече с открытыми элементами под мышкой вхожу в класс, и наша училка выносит мне поднос, на котором горой насыпаны пятёрки по химии… Как раньше писали в романах, «участь моя была решена». С потерей глаза я решил повременить, но новые элементы надо было открывать незамедлительно. И я с головой ушёл в чтение научно-популярных книжек по химии для школьников. К моему удивлению, специальной главы «Открытие новых элементов» в этих книжках я не нашёл. Вместо этого были многочисленные описания вполне невинных опытов по выращиванию кристаллов поваренной соли или медного купороса. Как, спрашивается, «жить в опасности», выращивая кристаллы медного купороса? Меня заинтересовало только описание обесцвечивания бабочек-шоколадниц газообразным хлором. Об этом я рассказал двум своим одноклассникам, Игорьку и Вовке, которые тоже решили стать великими химиками. Смеялись они надо мной долго. Игорёк сказал: «Старик, ты, конечно, иди, обесцвечивай бабочек-шоколадниц. Не забудь попросить маму купить шоколадку. Обесцветишь заодно и её. Мы-то сегодня вечером с Вовкой взрываем бертолетову соль с сахаром на стадионе. Хотели и тебя позвать… А тебе, оказывается, надо бабочек наловить… Теперь даже и не знаем…»
Нечего и говорить, что к вечеру наша троица в полном составе собралась на стадионе. И начались мои подрывные университеты. Наверное, есть дети, которые знакомятся с химией без опасной для здоровья пиротехники. Но этих детей я никогда не встречал.
По счастью, увлечение взрывами у нашей компании прошло, почти не оставив следов, кроме маленького шрама у меня на ладони, который теперь и не разглядеть без очков, у друзей прошло и увлечение химией. Родители Игорька нашли подпольную домашнюю лабораторию, и отец ему собственноручно выписал постановление об её немедленной ликвидации. Он на этом постановлении потом три дня сидеть не мог. Под впечатлением этого события Игорёк подарил нам с Вовкой свои сокровища. Мне почему-то достался килограмм или больше гранулированного свинца, банка с которым ещё несколько лет пылилась у меня дома, пока мама не уронила её во время уборки на пылесос. Свинец, конечно, не пострадал, а вот мы с пылесосом..
К тому времени я уже увлекся биологией, и на балконе у меня стояла трёхлитровая банка с затхлой водой из местного заболоченного прудика. Эту воду, с кишевшими в ней инфузориями туфельками, инфузориями трубачами и инфузориями барабанщиками, я часами рассматривал в микроскоп, чувствуя себя Левенгуком. Микроскоп был бинокулярный, и к нему нужны были оба глаза. Если бы на стене моей комнаты висел портрет Гэмфри Дэви, то великий химик, наверное, смотрел бы на меня с укоризной своим единственным глазом. Но портрета не было.
В музыкальную школу меня отдали пяти лет. Слух у меня был, и я легко выдержал вступительный экзамен. По мне плакал класс фортепиано. Как обычно это бывает, поначалу всё было завлекательно — и баба сеяла горох, и три четвёртых прихлопа на две восьмых притопа… Довольно быстро я сам собой выучился играть собачий вальс. Как только ученик музыкальной школы начинает играть собачий вальс бегло, без нот, которых, кажется, и не существует вовсе, поскольку такие мелодии, как и считалки эники-беники, которые ели вареники, существуют только в изустном предании, — можно считать, что обряд инициации он уже прошёл. Случись какое-нибудь торжество с приглашением друзей и соседей — ребёнок не посрамит родителей в перерыве между вторым и третьим блюдом. Родителям моим, как оказалось, этого было мало. Начались бесконечные гаммы и этюды. Я затосковал. С домашними заданиями дело обстояло просто — я их не делал. То есть я аккуратно вытирал пыль с пианино, разбрасывал в художественном беспорядке по нему ноты и даже делал в них какие-то карандашные пометки. Если бы обучение в музыкальной школе было заочным, по переписке, то, вне всякого сомнения, я смог бы её закончить. Увы. Приходилось раз или два в неделю ходить в музыкальную школу. Я шёл в музыкальную школу с тем же чувством, что и героиня известной сказки шла на поиски подснежников в феврале.
Школа моя помещалась в маленьком двухэтажном деревянном домике, на втором этаже. На первом была сапожная мастерская. Дверь в неё была всегда распахнута. Весёлые, с густой чёрной щетиной на щеках армяне в длинных фартуках резали кожу, прибивали набойки мелкими гвоздиками, которые держали во рту, и болтали о чём-то своём по-армянски. Если б я тогда понимал, что такое политическое убежище, то я, конечно, попросил бы его в мастерской. По лестнице, ведущей на второй этаж, я поднимался с такой же скоростью, что и артист Янковский, в финальных кадрах фильма «Тот самый Мюнхгаузен» карабкавшийся в жерло пушки.
Учительницей у меня была молодая женщина необычайно яркой цыганской внешности. Смуглая, с цветастой шалью на плечах и яркими бусами, она и представлялась мне настоящей цыганкой. Разговаривала она шумно, размахивая руками в золотых кольцах. Вернее, не столько разговаривала, сколько постоянно ругала меня за нерадивость и не приготовленные домашние задания. Но удивительное дело, родителям моим не жаловалась. Писала мне красными чернилами в тетрадь, которая заменяла дневник, бесконечные «выучить обязательно», «безобразие, опять пришёл неподготовленным» и уснащала всё это множеством восклицательных знаков. Поначалу я все эти листки аккуратно вырывал, а потом и вовсе завёл отдельный дневник для родителей, как делали и делают в подобных случаях все школьники, начиная с древнеегипетских. Через какое-то время она устала бороться и стала мной руководить. «Руководить» тут надо понимать буквально — она брала мои руки в свои и водила ими по клавиатуре фортепиано. Я в этот момент полностью отключался и думал только о своей несчастной детской доле, попутно борясь со сном. Учительница на меня мало обращала внимания. Мне даже кажется, что если б я в момент таких занятий попросил бы поднять мне веки, то она даже и не удивилась бы такой просьбе. Руководила она виртуозно, поскольку при этом умудрялась постоянно что-то жевать. Теперь, спустя десятилетия, я не могу даже вспомнить, как её звали, но до сих пор в ушах стоит хруст от разгрызаемых ею сухарей и сушек, шелест конфетных обёрток. Однажды у неё зачесался нос (к счастью, только он) и она моей рукой, которую ни на секунду не выпускала из своей, его почесала. Изредка к ней приходил в школу муж, такой же шумный и любитель размахивать руками. Я его обожал, поскольку, когда он приходил, учительница про меня совершенно забывала и обсуждала с ним какие-то подробности торговых сделок. Насколько я мог понять, её муж торговал одеждой. В разговоре часто проскальзывало слово «шмотки». Как-то раз она ему в сердцах сказала: «Гриша, какой же ты поц!» После этого я перестал думать об учительнице как о цыганке.
Время шло, и родители, особенно папа, который в детстве и сам окончил музыкальную школу, начали понимать, что пианист из меня, может, и получится, но в самую последнюю очередь, после того как я стану капитаном дальнего плавания или космонавтом. К моменту их прозрения я уже вовсю прогуливал занятия и выходил из дому с папочкой, в которой лежали ноты, лишь только для того, чтобы идти в сторону противоположную от музыкальной школы. Встреча родителей и учительницы неумолимо надвигалась, как танк на окоп с пехотинцем, у которого в руках только и есть, что бутылка с горючей смесью. В моём случае основу этой смеси составляли горючие слёзы таких размеров, при виде которых любой крокодил удавился бы от зависти. И встреча состоялась. На ней после недолгих переговоров между родителями и учительницей был подписан акт об изъятии меня из музыкальной школы. Моей радости не было границ. Первые двадцать лет. Потом я начал жалеть… и сейчас горько жалею о том, что в детстве из меня вышел музыкант и ушёл куда глаза глядят, а я не побежал за ним вслед. Ни капитан дальнего плавания, ни космонавт из меня не получились. Настала последняя очередь — музыканта. Где ты, музыкант..
Почему-то об этом дне остались только дошкольные воспоминания. Мама уходила рано, чтобы быть «в усилении», охранять общественное спокойствие в этот праздничный день. А мы с папой к половине девятого выдвигались к проходной его завода. Там уже кучковался народ. Ветеранам труда выдавали красные ленты через грудь. Им предстояло идти в голове колонны. Всем остальным вручали красные банты, флаги, портреты вождей и огромные, через всю колонну, транспаранты, которые несли два человека. Банты, маленькие детские красные флажки и воздушные шарики вручались легко. А вот портреты, флаги и транспаранты… Народ тщательно обходил грузовик с открытыми бортами, на котором были свалены предметы тогдашнего нашего культа. Некоторые вообще прятались по углам, чтобы в последний момент пристроиться в хвост колонне. И первыми её покинуть. Представители парткома, месткома и администрации шли на разные хитрости. Применяли индивидуальный подход. В нашем с папой случае индивидуальный подход состоял в следующем. Кто-то из властных представителей подзывал ребёнка, то есть меня, для вручения флажка, шариков и банта. Я, естественно, радостно бежал получать. И в конце вручения дядя из парткома тихонько шептал мне на ухо, доставая из-за спины портрет на палочке или, не приведи господь, транспарант: «Минька, пойди, отдай папе. Вместе понесёте». Папа свирепел. Требовал оставить ребёнка в покое. Властные представители смеялись. Взывали к папиной сознательности. Печально разводили руками и говорили отцу: «Борисыч, ну ты ж сам видишь, сколько этой… ну то есть наглядной агитации надо ещё раздать. Не лезь в бутылку». Папа не лез. Он вообще не пил. Поэтому праздник переносил тяжелее, чем те, которые уже с утра в неё залезали и там отсиживались до такого состояния, что не могли вылезти без посторонней помощи. Вернёмся, однако, к флагам и портретам. Однажды нам с папой вручили немаленький флаг. Папа его мужественно нёс, пока я не устал. Мне тогда было лет пять или шесть, и всю дорогу от завода до трибун на центральной площади Серпухова я осилить не мог. Тащить флаг и меня папе не хотелось. Недолго думая, папа выбрал меня. А флаг он собрался потихоньку бросить в придорожные кусты и со мной под мышкой исчезнуть в ближайшей подворотне. Такой у него был нехитрый план. Но бросить флаг я не дал. Вцепился в древко и не отпускал, норовя зареветь… Короче говоря, домой мы явились под красным флагом. По телевизору показывали колонны демонстрантов, идущих по Красной площади. Я пару раз прошёлся по комнате с флагом, держа равнение на мавзолей, но задел люстру и был наказан. Потом он какое-то время стоял в углу в коридоре и пылился. Потом… мама отодрала от него полотнище, а папа укоротил древко и приделал щётку, чтобы мести полы. Она служила нам несколько лет, пока совсем не облысела.
Ничего почти не осталось от моего деда, тоже Миши, погибшего в сорок втором. Несколько полуистлевших писем с фронта, какое-то удостоверение личности с размытой фотографией. Мама его видела в последний раз, когда ей было шесть лет. Бабушка, правда, как-то призналась, что дед писал стихи, и перед войной вышла у него книжка, но книжки этой, конечно, не сохранилось. Профессия у него была самая обычная — бухгалтер. Что бухгалтеров заставляет писать стихи… Чёрт его знает. Наверное, то же, что и химиков. Дед Миша был человек тихий, деликатный и даже лексики ненормативной никогда не употреблял. Так говорит бабушка, которая человек шумный и может употребить запросто. Никаких историй о нём семейные предания не сохранили. Только знаю, что как-то раз в киевском оперном театре, куда он повёл бабушку, то ли ему подмигнула какая-то дама из ложи бельэтажа, то ли он ей. Сцена бабушкой ему была устроена прямо в театре, и спектакль он досматривал уже дома. Ещё был у него родной брат, уехавший в Америку в незапамятные времена. Бабушка с ним боялась переписываться по известным советским причинам. Вот, собственно, и всё. Бабушка и мама говорят, что я похож на деда. Им виднее.
Ездил в Серпухов, к маме и бабушке. Маня, так мы, посемейному, зовём бабушку, как-то совсем усохла и стала похожа на «одну маленькую, но очень гордую птичку». Когда она в очередной, должно быть четыре тысячи пятисотый раз препиралась с мамой, глаза её яростно сверкали. В девяносто лет яростно сверкать глазами — это надо уметь. Кстати, цифру четыре тысячи пятьсот я не с потолка взял. Маня живёт в Серпухове с родителями уже шесть лет. В среднем раза два в день они с мамой уж точно выясняют отношения. В удачные дни успевают и по три раунда переговоров провести. Так что цифра вполне реальная.
Бабушка почти ничего не слышит. Пока мама готовила обед, я пытался с ней разговаривать. На мои крики из кухни появилась мама, посмотрела на меня с укоризной и сказала:
— Если бы ты чаще заезжал к нам с Маней, то знал бы, что бабке надо кричать в левое ухо, а не в правое.
Ничего не слышащая Маня вдруг сказала:
— Не командуй, подполковник. Ты давно в отставке.
Мать стремительно удалилась на кухню. Я стал кричать в левое ухо. Обычно я спрашиваю Маню о чём-то из прошлого. В её возрасте задавать вопросы о настоящем и тем более о будущем всё равно, что глупо и неприлично шутить, как выражался Козьма Прутков. Я решил спросить о некоторых подробностях женитьбы моих родителей. Тут у Мани произошёл какой-то сбой, даже не в памяти, а в дешифровке моего вопроса. Слово «женитьба» из него куда-то пропало, и вышло, что я спрашиваю её о том, помнит ли она моих родителей.
— Что за странный вопрос, Миша? — сказала Маня. — Чтобы я не помнила твоих родителей? Конечно, помню. И папу твоего, Бориса Борисовича, помню, пусть ему земля будет пухом, и маму, Ларису…
На кухне что-то сильно и железно грохнуло. Потом звякнуло. Потом крикнуло маминым голосом:
— И всех нас, и Гоголя… идите обедать немедленно, или у меня будет сердечный приступ!
Надо было идти. Мы с Маней не хотели маминого сердечного приступа. Я встал со стула, но тут бабушка сказала:
— Подай-ка мне вот эту коробочку с полки. Хочу сделать тебе подарок.
Я подал. Маня открыла её, и я увидел пять кусочков белого камня, похожие на давным-давно вырванные зубы. Бабка хитро прищурилась и сказала:
— Помнишь, у меня были мраморные слоники? Семь штук. Ты отбил им хоботы, когда тебе было шесть лет. Ты был такой любознательный… Два потерялись, а пять я тебе дарю. Больше так не делай.
— А слоники?
— А я знаю… Потерялись где-то. Они были такие маленькие. Купишь себе новых. Когда твои внуки отобьют им хоботы, у тебя таки будут запасные. Уже давай идти обедать, а то твоя мать устроит нам утро стрелецкой казни.
Мама отдала мне письма и открытки деда с фронта. Их мало сохранилось. Всего четыре. Бумага, конечно, до крайности ветхая. Запах у неё чуть сладковатый, даже парфюмерный. Какими-то духами или пудрой старинной пахнет, хотя и не должно вроде. В детстве так пахло в доме у бабушки. Столько лет, а всё не выветрился этот запах. Наверное, «Красная Москва». Чернила яркие, почти и не выцвели. Сами письма… обычные письма с фронта. Все в вопросах — как и что. Просьбы писать подробнее. Первого сентября сорок первого года дед писал: «Уничтожим Гитлера, опять заживём. Конец его близок». Обещал после войны привезти маме много игрушек. И ещё одно письмо, от тридцать первого августа того же года. На одной стороне письмо деда с фронта бабушкиной сестре Симе и её мужу Иосифу в Киев. А на другой стороне листка — письмо Симы бабушке. Бабушка с мамой к тому времени были в пути на Урал, в эвакуацию. «Мы пока живые, а дальше не знаем. У нас в Киеве тихо и хорошо. Не бомбят… Я и Иосиф остались. Он не хочет ехать, и через него мы пропадём…» Они и пропали в Бабьем Яру. И Сима, и её муж, и двое их мальчишек. Их выдала немцам дворничиха.
Люди делятся на экспериментаторов и теоретиков. Первые признаки этого деления проявляются уже в раннем детстве. Вспоминается мне (вернее, не мне, а моей маме) такой случай из моего раннего детства. Употреблять (чуть не написал — в пищу) неприличные слова я начал довольно рано. Даже очень. Трёх-четырёх лет от роду. Учил меня этим словам один доктор физ. — мат. наук из соседнего подъезда. Вовкой его звали. Он тогда уже в первом классе учился. На круглые пятёрки. Всё усвоенное (как потом оказалось — навсегда) от Вовки я поначалу приносил домой во рту и пересказывал родителям. Папа, конечно, сразу хотел меня выпороть, но мама решила применить против моей вредной привычки педагогический приём. Она трагическим шёпотом сообщила мне, что если я буду продолжать говорить эти слова, то язык у меня распухнет и губы отвалятся. Ребёнок-теоретик, наверное, глубоко задумался бы над мамиными словами. Переспросил бы у бабушки, у товарищей во дворе, почитал бы советскую энциклопедию на вторую букву в слове ухо. Ребёнок-экспериментатор немедленно стащил у мамы маленькое зеркальце, сел тихонько в углу и начал шептать эти самые слова, внимательно наблюдая за отражением языка и губ в зеркале. Эксперимент мой был непродолжителен. Папа решил его прервать своей тяжёлой правой рукой. Потом ещё была горчица, которой мне намазывали губы в воспитательных целях. Потом… махнули рукой. С тех пор прошло почти сорок лет. Среди разных дипломов, полученных за мою научную карьеру, более всего я дорожу почётным дипломом Российской академии наук, в котором витиеватыми буквами начертано: «За цикл экспериментальных работ по…».
Есть у меня наручные часы. От отца достались. Собственно, он их и не носил, а сразу мне отдал, как они у него оказались. За два года до своей смерти и отдал. До этого я пижонские часы носил, карманные, с цепочкой и крышкой. Между прочим, при моей работе удобно. Потому как химику на руке часы носить не очень удобно. Не ровен час обольёшь чем-нибудь, и корпус позеленеет, а уж про руку я и не говорю. А в кармане сохраннее. Вот только если на улице время надо узнать или прохожий спросит, особенно зимой, как-то неловко получалось. Как начнёшь рукой под полу тулупа лезть, да в кармане их, часы то есть, нашаривать… Бог знает что люди думают. Ну да не об этом речь.
Часы папа мне отдал наградные, к трёхсотлетию российского флота выпущенные. На циферблате крейсер нарисован и флаг андреевский. Ещё и медаль отец получил по случаю этого юбилея. Сорок лет он на своём заводе в Серпухове крепил огневую мощь наших ракетных крейсеров, эсминцев и разных фрегатов. На совесть крепил. Только одно его расстраивало. При допуске, который он имел, ни в какие заграницы его не пускали. Не то чтобы папа собирался отвалить с концами, нет. И мыслей таких никогда не имел. А если и имел, то их (такие мысли) конфисковали у него при поступлении на работу в далёком пятьдесят шестом году. Отец любил путешествовать. Конечно, приходилось ему в командировки ездить, и даже в дальние. К примеру, на Тихий океан или на Северный Ледовитый приходилось летать, но что можно увидеть интересного на палубе ракетного крейсера? Да ничего, кроме того, что он и так каждый день на работе видел. А хотелось ему хоть на Болгарию одним глазком взглянуть. Начальник первого отдела как-то ему по дружбе объяснил: «Ты, Борис, как на пенсию выйдешь, лет пять ещё огурцы на даче поокучиваешь, а потом, если склероз удачно будет прогрессировать, уж и в Болгарию сможешь документы готовить. Откажут, конечно, в первый-то раз. Но через год-другой точно пустят». Такая вот была у папы перспектива. Страшно он завидовал маме, которая в семьдесят третьем, кажется, году была по путёвке в ГДР и даже видела из-за стены западный сектор Берлина. Рассказов потом о ГДР хватило года на два. Помню, как папа спросил у мамы: «А как ТАМ, в Западном Берлине?» И мама, понизив голос почти до шёпота, ответила: «Знающие люди говорят, что вообще… просто сало с балконов капает». Почему-то запомнился мне этот мамин ответ. Лет через пятнадцать я в первый раз пересёк границу нашей тогда ещё пятой, а не как сейчас, шестой части суши и приземлился в токийском аэропорту Нарита, вышли мы с моим спутником профессором Митиным из самолёта и направились к подземному экспрессу, чтобы ехать в Токио и далее в Сидзуоку на научный симпозиум. Подходим мы к поезду, и Юрий Васильевич меня просит:
— Миша, если мне достанется место против хода поезда, а вам по ходу — вы не против будете поменяться?
— Да ради бога, — отвечаю. — Конечно, поменяемся.