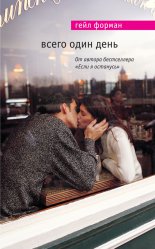Один человек (сборник) Бару Михаил
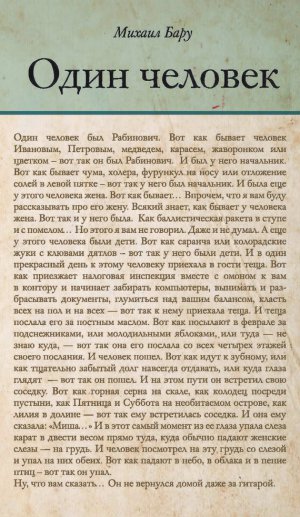
Ездил к отцу, на кладбище. От Пущино надо на автобусе до деревни Борисово, которая почти на окраине Серпухова, а потом пешком, километра два, до деревни Бутурлине. Там и кладбище, рядом с бутурлинской церковью. Церковь уж лет десять как восстановили. При большевиках в ней ничего не было — ни склада, ни конторы, ничего. Просто кресты сбили, колокола умыкнули куда-то, ну и сломали что смогли. К счастью, смогли немного, уж больно прочны были стены, а поскольку ни Дом Советов, ни бассейн «Бутурлине» строить на этом месте не собирались, то отступились, и так она простояла все эти годы. На церковной ограде табличка: «По касающим вопросам звонить по тел. 73-36-38». Во дворе два мраморных надгробия. Серпуховскому купцу первой гильдии Ивану Васильевичу Рябову и жене его, Агафье Антоновне. Сам Иван Васильевич родился в один год с Александром Сергеевичем. Стихов, однако, не писал, а был текстильный фабрикант, фабрику его, после известных событий семнадцатого года, у наследников экспроприировали и переделали в военный завод, на котором работал мой отец. Неподалёку от Бутурлине был Рябовым построен охотничий домик. Я ещё помню его. Была в нём какая-то то ли турбаза, то ли склад спортинвентаря. Домик был деревянный, с красивыми резными коньками на крыше. Сгорел. Что-то там однажды праздновали, да и спалили по пьянке. Ещё построил он больницу и роддом, в котором родилась моя дочь. А при больнице парк разбил с липовой аллеей. Играли мы в парке в казаков-разбойников и жуков майских ловили. Спилили эти липы (а они уж вековые были), когда решили устроить пруд.
Возле входа в храм скамеечка покосившаяся, на ней такой же дедушка и чёрный кот с белыми лапами. Кемарят. Услыхали, как я гравием по дорожке шуршу, — разлепили глаза. По одному на брата. Кот свой глаз тут же и закрыл, а старик шустро открыл второй, подхватился со скамейки и ко мне: «Подай, сладенький, на хлебушек, Христа ради». Подал десятку. Дед на радостях сообщил, что сегодня будут крестины. У Райки Арефьевой внучку окрестят и ещё из Серпухова приедут, кто — не знает, но точно известно, что богатые. Эти, как их… новые! Вот с утра и ждёт по этакой жаре-то. Поданная десятка, точно синица, трепыхалась у деда в руках. А может, это руки её трепыхали с похмелья. Видать, не терпелось ему бежать за бутылкой хлеба, здоровье поправить. Однако и крестины пропускать было жалко. Оставлять же вместо себя кота он не решался. Потоптался-потоптался, попросил закурить, заложил сигарету за коричневое от загара ухо и вернулся на скамейку.
В церкви шла обедня. Кроме батюшки да старушки, что свечи продаёт, — человек семь-восемь, не больше. Хор из трёх девчушек. Голоса у них прозрачные и тонкие — ниточки, да и только. Вот из этих ниточек они и сплетали свои кружева. Узоры-то на них простенькие, деревенские, в городе и богаче, и затейливей, но ведь не по богатству оценены будут. Не по нему.
По почте пришло приглашение к летнему отдыху в Ницце. С заездом в Париж. Не надолго, на пару дней, на экскурсии. И паспорт заграничный предлагают оформить шустро, за пару недель буквально. И скидки у них трёхпроцентные. Телефон, по которому звонить, — многоканальный. Очень удобно. Жаль, что денег у меня как раз только на то, чтобы за грибами сходить или на рыбалку. А так поехал бы, «когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». На кого ж я всё это оставлю? В смысле комаров и мух. Для тех из них, которые за мной закреплены, это будет в некотором роде потеря кормильца. Как им жить после этого? Куда подаваться? Лететь за мной в Ниццу? Проклятые вопросы. А ещё зной. В голове, со вчерашнего, расплавилось штук пять предохранителей. Какие-то они стали ненадёжные. Даже курить не хочется, про остальное не говоря. Нет, не поеду в Ниццу. Пусть и не уговаривают.
Некоторое время назад, а точнее в феврале, ремонтировали в нашем дворе теплотрассу. Между прочим, снесли скамейку возле нашего подъезда, на которой заседала нижняя палата домового парламента. Ещё спилили внушительных размеров липу, что стояла над скамейкой, погнули качели ковшом экскаватора… короче говоря, подготовили участок теплотрассы «Париж — Дакар» к очередным гонкам.
Потом пришла весна, и старушки вдруг поняли, что сидеть-то им и не на чем. Создавалась критическая ситуация — люди в подъезд входили и выходили, вносили и выносили, иногда и просто вваливались и вываливались, а наружное наблюдение отсутствовало. Должная оценка происходящему не давалась, и дневник наблюдений не вёлся. В конце апреля я был остановлен у входа в подъезд Люсей и Зиной, общительными старушками, заядлыми скамеечницами, которые меня попросили написать письмо начальнице нашего УЖКХ ликвидировать последствия ремонта и восстановить скамейку. Я, конечно, написал. Заодно попросил, чтобы лифт заменили, а то его как поставили во время отечественной войны с французом, так и не меняли. Уж больно обветшал. Чтобы дом покрасили, чтобы пенсию вовремя приносили, а кому зарплату — так и зарплату. Такие бумаги нечасто пишутся — только когда совсем допекут. Поэтому в список включается всё, вплоть до просьбы разобраться с самогоноварением в восемьдесят девятой квартире. Гонят и гонят. Алкаши из окрестных домов ходят и ходят. Звонят во все двери, пока не найдут. Житья от них нет.
И бумага пошла по инстанциям. Как водится, ответ заставил себя ждать долго. Это молодежь может ждать сколько угодно, а старики народ нетерпеливый — для них каждое лето может статься последним, и они такое вытворяют… Подумали-подумали и направили копию бумаги нашему градоначальнику. Зарегистрировали в канцелярии. Градоначальник бумагу, может, и получил, но то ли положил её в долгий ящик, то ли на неё положил, скажем, стопку других бумаг — чёрт его знает. Дела градоначальников нам неведомы. Ждали-ждали, а только ответа… Тогда решились на военную хитрость. У одной из наших активисток дочь работала официанткой в ресторане «Гнездо глухаря». И вот узнала она, что ожидается приезд в нашу деревню областного губернатора. Само собой, приезд внезапный, с ревизией. Он нам деньги выделил на строительство дорог и местного крытого рынка, а мы их… Короче, за базар местные власти должны были ответить. В «Гнезде глухаря» подготовка к визиту шла полным ходом. То есть Посудин, может, ещё только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет, а уж для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и сёмга, и сыр, и закуска разная… Ой, извиняюсь, чужое вырвалось. Так ведь со школы… память детская… ну просто насмерть. Одним словом, Люба должна была передать нашу бумагу самому губернатору и генералу. Аккурат между первым и вторым. Или четвертым и пятым. И уж мечтали старушки о том, как губернатор пожалует их скамейкой… а он возьми да и отмени свой визит. Что уж там стряслось — неизвестно. Известно только, что и неприезд губернатора был отпразднован с не меньшим размахом.
А на дворе уж май заканчивался. В соседних домах на скамейках чуть ли не в три смены старики сидели. Делать нечего — надо было пробиваться к мэру. Люся и Зина, как выбранные представители домовой общественности, пошли записываться к нему на приём. Однако же оказалось, что мэр на этой неделе не принимает, а на следующей у него командировка в город-побратим, а потом он собирается в отпуск, который не отгуливал последние десять лет…
И тогда наши старушки решились на захват. Встали утром рано и перегородили дорогу, которая шла в мэрию. Городок у нас небольшой, и дорожка к мэрии ведёт неширокая. Мэр на работу пешком ходит. Надо сказать, что Люся и Зина такой комплекции, что и трассу Москва-Симферополь могут перекрыть в случае надобности. Часам к девяти появился на дороге градоначальник. Тут они его, голубчика, точно Сцилла с Харибдой, и притиснули. Подробностей я этой беседы не знаю, а только не прошло и двух дней, как новенькая скамейка у нас во дворе была установлена. Конечно, не всё было сделано как должно, вкопали её не очень глубоко, некоторым сиделицам приходилось на неё буквально вскарабкиваться и потом сидеть, по-детски болтая варикозными ногами, но дарёной скамейке… Старики радовались как дети. Тут бы и закончить эту историю, но… нет. Приходится продолжать её дальше.
Скамейку мало того что неправильно вкопали, так и место для неё выбрали нехорошее. Как я уже говорил, во время ремонта теплотрассы была спилена огромная липа, под которой стояла прежняя скамейка. Липа давала тень. Чахлая акация, под которой поставили новую скамейку, укрывала своей тенью лишь половину посадочных мест. Оно бы и ничего, но старички и старушки плохо переносят солнцепёк, особенно те, у которых гипертония и комплекция близкая к апоплексической. Как раз у Люси и Зины имелось и то и другое в одном флаконе. И панамки от солнца их не спасали. Вообще-то они думали, что, потратив столько сил на борьбу, будут иметь почётные места в тени даже при полном отсутствии солнца. А оказалось, что лучшие места занимают те, кто раньше пришёл. Вот прямо так берут и занимают. Мало того — не хотят их уступать ветеранам движения. Особенно отличилась в неуступчивости Луиза Васильна из сорок пятой квартиры, известная нахалка. Между прочим, про неё доподлинно известно, что, работая продавщицей в нашем магазине «Подарки», ещё в советские времена она накопила прямо-таки несметные богатства. И теперь на пенсии живёт просто припеваючи. Вообще много чего выяснилось про всех участников посиделок. Про какого-то незаметного деда Колю выяснилось… да ничего, собственно, особенного и не выяснилось. Двое детей на стороне, дача, построенная на казённый счет, — всё как у всех. И этими ложками дёгтя можно было бы заполнить не одну бочку из-под мёда. Таки заполнили. В конечном итоге Люся и Зина вообще перестали садиться на эту злосчастную скамейку. Выходят на боевое дежурство со своими стульями и сидят в отдалении. Смотрят на скамеечников с укоризной. Разговаривают только друг с другом. А сами скамеечники разделились на два лагеря — теневиков и солнечников. Теневики во главе с «Луизкой» сидят и в ус себе не дуют, а солнечники хотят отправить ещё одну депутацию к мэру чтобы добиться установления второй скамейки. Люся и Зина, извещённые доброхотами об этой затее, предупредили меня, чтоб я прошений к мэру более писать не думал, поскольку раз такое дело, то чем хуже — тем лучше, и вообще их обида окончательная, бесповоротная и примирений быть не может.
А дальше… дальше и продолжать не хочется. Только плюнуть в сердцах да и сказать… Но что тут скажешь…
В начале восьмидесятых занесло меня вместе с археологической экспедицией в Самаркандскую область, в один из тамошних кишлаков. Копали мы там античные курганы. «Мы», конечно, громко сказано. Я «двигал отвалы», выражаясь на жаргоне археологов. Кроме того, в мои обязанности входило наблюдение за нанятыми землекопами из местных. Была у них такая слабость: прикарманивать себе всё интересное, что удавалось извлечь из этой древней земли.
Совхоз в этом кишлаке был виноградарский. Росли там лучшие во всём Узбекистане сорта кишмиша. Аборигены сушили его, раскладывая тонким слоем на плоских крышах своих глинобитных домишек. В зависимости от сорта кишмиша одни крыши были янтарного цвета, а другие — тёмно-красные.
В один из выходных дней пригласили нас в гости к уважаемому человеку — главбуху местного совхоза. Главбух был вообще человек некоторым образом причастный к археологическим изысканиям. Год назад в его дворе одна ташкентская девушка-археолог обнаружила внушительных размеров каменный фаллос. На недоуменный вопрос, откуда дровишко, главбух отвечал, что и сам толком не знает. Детишки (числом девять штук) где-то откопали и приволокли. Пусть играются, добавил он. Живём мы у шайтана на рогах, игрушек к нам не завозят. Ещё мы об него орехи и урючные косточки колем. А что? Для чего эта штука? Тут девушка-археолог предоставила слово давно давившемуся смехом студенту-практиканту, а уж он… Впрочем, не будем отвлекаться. Можно опоздать в гости к уважаемому человеку.
Взяли мы несколько бутылок тёплой водки самаркандского разлива, леденцов ташкентских главбуховым детишкам и пошли. Идти надо было по бетонке. Перед нами по ней проехал трактор «Беларусь» с огромным прицепом из металлической сетки, полным собранного винограда. Задавленный собственным весом, виноград не просто плакал, а рыдал своим сладким соком, и ноги приходилось каждый раз буквально отдирать от дороги. Вслед за трактором с грохотом катил деревянный ящик на колёсиках-подшипниках. Ящик был полон чумазых мелкокалиберных детишек. Сегодня у них был удачный день — они исхитрились незаметно прикрепить свой экипаж к тракторному прицепу, и было им простое деревенское щастье. То прилипая, то отлипая, мы добрались до двух больших жестяных щитов с наглядной агитацией. На одном из них было написано: «фауны — наши друзья» и пририсованы такие диковинные друзья, за обладание которыми любой зоопарк мира отдал бы всё, вплоть до последнего ежа. На втором была лишь короткая надпись «Эконом горючи — дело всенародное». Видимо, в этих краях экономить горючее было так же естественно, как не умываться, поэтому обошлись без поясняющих рисунков. От этого щита шла тропинка к дому, где нас уже заждались.
У железных ворот бухгалтерской усадьбы нас встретил золотозубой улыбкой сам хозяин и провёл в дом. Из двери летней кухни нам улыбнулась такой же сверкающей улыбкой супруга хозяина. Потом его мать. Собственно говоря, золотых зубов не было только у детей и собаки, огромной среднеазиатской овчарки. Тогда вообще была мода на золотые фиксы, а уж в Средней Азии, особенно в сельских районах, состоятельные граждане доводили её просто до абсурда. Я думаю, что и сейчас доводят, поскольку тамошняя мода ужасно консервативна. К примеру, галоши на босу ногу носят там без малого лет сто и ещё будут носить долго, по крайней мере, до экспедиции на Марс, которую нам обещают в первой половине нового века, точно будут носить. Но оставим галоши перед входом в гостеприимный дом главбуха. Нас провели в комнату для гостей (у этого дома была даже такая комната, что в тех краях большая редкость) и усадили на пол, возле накрытого стола. Мне досталось место как раз напротив стены с нарисованным непосредственно по штукатурке пейзажем. Чем больше я на этот пейзаж смотрел, тем больше мучился — где я мог его видеть? Я даже умудрился пропустить один из тостов за успех среднеазиатской археологии. Главбух посмотрел на меня и спросил:
— Что, нравится? Родину вспомнил?
Я промычал что-то невразумительное, а главбух продолжал:
— Немалые деньги уплатил за этот картина. Из райцентр художник вызывал, неделя плов кормил, мешок кишмиш отдал.
Однако самое время описать пейзаж. Во всю стену расстилалось поле из тех, что при советской власти назывались «бескрайними колхозными полями». Пшеница колосилась, по краям белели берёзы, а в центре поля по электрической железной дороге мчался прямо на зрителя пассажирский поезд. Небеса с редкими облачками пронзительно голубели. Вообще-то картина как картина. Ничего особенного. Смущала только эмблема с колесом и крылышками, нарисованная в небе над поездом. Где я мог всё это видеть именно в таком сочетании? Какие-то очень смутные воспоминания из детства… поездки к бабушке в Киев на поезде из Москвы… И тут меня толкнул в бок мой сосед, пожилой реставратор из Ленинграда. Он шёпотом спросил меня: «Сахар помнишь?» Как же я забыл! Это была точь-в-точь обёртка двух продолговатых кусочков сахара, которые подавали в поездах к стаканам чаю в мельхиоровых подстаканниках. Я никогда её не рвал, эту обёртку, как взрослые, а аккуратно снимал и хранил до конца поездки. Потом к ней присовокуплялись использованные железнодорожные билеты, а потом это всё выбрасывалось бабушкой или родителями как ненужный хлам. Им, конечно, ненужный…
Мы выпили за картину, за хозяина, за его гостеприимство, за… Если доведётся вам быть в Самарканде или его окрестностях — никогда не пейте местной водки. Чёрт знает, из чего они её гонят. Местные виноградные вина куда лучше любой водки. Особенно хороши сладкие. А уж узбекское полусладкое шампанское просто выше всяких похвал. Но тогда его было не достать — почти всё отправляли на экспорт. Как сейчас — не знаю. С тех самых пор я там и не бывал.
Покупал себе на серпуховском рынке кожаную куртку. Товару теперь много разного. Продавцы поют на разные голоса. А уж обходительны…
— Мужчина, вам понравится. Вы ж посмотрите, какая кожа! Практически телячья.
— А по виду свиная… Точно свиная.
— Мужчина, верьте мне, верьте. Оно, конечно, свиная, но на ощупь практически телячья. Курточки свежие, только утром привезла. Ещё тёпленькие. Телятинка…
— И почём кило?
К прилавку подходит семейная пара. Он — мужчина в расцвете сил с неликвидами размера эдак шестидесятого. Она… он отдыхает.
— Вова, намеряй-ка вон ту, с пуговичками на боках.
— Женщина, ну что вам сказать? Просто очень! Верьте мне. И Владимиру обязательно понравится.
— Рукава что-то длинноваты.
— Ой, да что вы, женщина. Он начнёт ходить, будет руками размахивать — они поднимутся. Вы посмотрите, какие у вашего мужа руки… Он же ими как размахнёт…
— Морщит она как-то.
— Женщина, разве она морщит? Вы бы видели, как морщит. Она вам чуть-чуть улыбается. Вот вы, когда улыбаетесь..
— Вова, ну что ты молчишь? Как тебе?
Вова поднимает руки. Вздыхает и шевелит губами-сардельками. Опускает руки.
— Восторга нет, Лена. Вот нет и всё.
Хотел было я написать про историю одной бедной свиньи, которая очень хотела стать богатой и которую фея превратила в гжельскую свинью-копилку, которая стояла на комоде у одного мальчика, который бросал в неё полученные от родителей деньги на мороженое и кино и который так любил свою копилку, что однажды поцеловал её в порыве нежности прямо в фаянсовый пятачок, отчего свинья снова стала обычной свиньёй, а вовсе не принцессой, как можно было подумать, потому что фея что-то напутала в заклинаниях, но зато с деньгами внутри, которые стали в скором времени выходить наружу естественным образом и которые несчастная свинья с этих самых пор ищет в том, что выходит… но кого теперь интересуют истории о несчастных бедных свиньях, когда вокруг полно счастливых и богатых?
Есть у меня знакомая. Добрая и душевная женщина. Живет она далеко, на другом конце света, и общаемся мы, естественно, при помощи электронной почты. И пишет она мне в письме об одном нашем общем знакомом: «…Всё-таки странноватый. Если бы он был пожилым человеком, то я бы сказала, что он входит во второе детство. Но… ему не может быть больше 50 лет. Я думаю, что он не каждый день включает свой компьютер. А так ведь он очень образованный и прекрасно понимает…» Моей знакомой, между прочим, ближе к шестидесяти. Плоды прогресса заказывали? Ешьте.
Всем хорошо моё Пущино — и Окой безмятежной, и лесами, и холмами, и воздухом прозрачным, и заброшенной дворянской усадьбой на краю, и осенним кленовым пожаром, и дымкой зелёной, апрельской. Вот только… живу я в микрорайоне «Д», а раньше жил в «АБ». А между этими «АБ» и «Д», как можно догадаться, «В» и «Г». И всё. И когда договариваешься с кем-нибудь о встрече, то говоришь — приходи к почте, к магазину «Спутник» или к институту почвоведения.
Двадцать пятого дня октября месяца сего года бродил я по Петербургу и с завистью смотрел на таблички с названиями улиц, площадей, мостов. Назначь свидание у Египетского моста, и она придёт загадочная, таинственная как сфинкс, с чёрными глазами. Назначь свидание на Аничковом мосту, и она придёт, цокая каблучками, строптивая — одно неосторожное слово, и на дыбы… Возьмёшь её ласково под уздцы, по крупу упругому легонько похлопаешь…
Назначь свидание у магазина «Спутник» и… лучше бы она не приходила. Немолодая, невесёлая, недевушка. В руке авоська, из которой торчат перья зелёного лука, похабного вида тепличный огурец из тех, что у нас зимой продают, буханка чёрного и рулон туалетной бумаги. И окажется она матерью кучи сопливых детишек, да к тому же и твоих, бездельник, пьянь, рожа твоя усатая бесстыжая… И побредёте вы уныло к дому в микрорайоне на одну из вышеупомянутых букв. Да по пути не забыть картошки купить, а то уж кончается.
А жил бы я, к примеру, на Кавалергардской… Кончики усов вверх подкручены, сапоги зеркальным блеском, каблуки щёлк-щёлк, мадам, позвольте ручку, ножку, шнуровку на корсаже ослабить, юбки по персидскому ковру разметать… Кавалергардская, одним словом. А письмо написать? Не то, которое мылом и по клаве настучать пальцем заскорузлым, а настоящее. Так, чтобы взять конверт из плотной бумаги, с красивой маркой и, умакнув перо, выводить с превеликим тщанием, с приоткрытым от усердия ртом, с мелкой барабанной дробью, с тонкой флейтой, со звоном шпор и медным полированным сверканием это гордое, стремительное и несгибаемое слово.
Пришёл спам. Предлагают отпраздновать Новый год в Ясной Поляне. «Интимная атмосфера графского праздника. Новогоднее шоу по рецепту Софии Андреевны (sic)! Безупречные номера люкс и полулюкс в графском стиле. Избранная публика в заснеженных аллеях графского парка! Сюрпризы и призы. Севрюжка и грибочки под “Русский стандарт”. Катание в санях по усадьбе». Маловато будет за пять сотен баксов. Так чтобы уж по-настоящему, по-толстовски. А пахать рано утром первого числа? А Катюш Масловых да Анатолей Куракиных в номера для несемейных участников торжества? Для дам, любящих экстрим, — возможность поваляться на рельсах Курской ж. д. Для мужчин — смерть по рецепту Ивана Ильича (после новогоднего шоу по рецепту Софьи Андревны). Ну и порка шпицрутенами после бала. Того, кто вытянет этот фант в новогоднюю лотерею. И обратно по железной дороге до Москвы. Высадка на станции Астапово. Последние семь дней в доме начальника станции. И не сметь противиться злу насилием. Вот это будет по полной программе.
В средние века с маяками дело плохо обстояло. Во время бурь на море корабли во множестве разбивались о береговые скалы или садились на мели, а уж потом их разбивало волной в щепки. Берега тёмные были, огоньков прибрежных селений и не разглядеть с моря. Иногда местные власти зажигали большие костры по ночам, чтобы шкиперы могли правильно ориентироваться среди огромных волн, свирепого ветра и проливного дождя. А иногда и население по собственному почину разводило такие костры. Особенно в глухих местах. Впрочем, тогда почти все места были глухими. Разведут костёр на скалах и ждут всю ночь. И кто держал курс на этот костёр, тот о скалы и разбивался. А наутро, как шторм утихнет, вся деревня, как заправские пираты, отправлялась грабить то, что прибило к берегу после кораблекрушения.
Вот такие у неё и были глаза — как эти пиратские костры.
Среди моих читателей есть житель Петропавловска-Камчатского. Меня давно мучил один вопрос — правда ли, что когда в Москве три часа дня, то в Петропавловске-Камчатском полночь? Ещё в детстве я слышал об этом по радио. Времена тогда были сами знаете какие. Всё от нас скрывали. Потом пришли демократы и продолжали нам рассказывать эти же байки. Но теперь, когда есть возможность, грех не спросить об этом напрямую, без посредников. Ну, не буду вас долго томить — все оказалось полной брехнёй. Даже и близко такого нет. Один раз было где-то минут двадцать одиннадцатого вечера, но очень недолго. И всё! И это за много лет наблюдений! Что вам сказать… Никогда в этой стране не будет порядка. Никогда.
В аптеке видел маленький пакетик с бодягой. Не знаю, что лечат бодягой. Судя по цене — что-то не очень серьёзное и запущенное. Однако это была непростая бодяга. На ней было написано: «Бодяга ПЛЮС». Всё же мы идём вперёд. Появляются новые разработки отечественных фармацевтов. Хотя… это могла быть и старая, секретная. Раньше плюсовой бодягой лечили космонавтов или спецназ, а теперь она доступна всем.
Выхожу я из дому, чтобы обойти избирательный участок десятой дорогой, и слышу, как две бабки беседуют. То есть одна беседует, а вторая натурально убивается. Ту, которая убивается, я хорошо знаю. Она на рынке у нас торгует корнеплодами со своих шести соток. Чеснок у неё ядрёный. Ну, да не о нём речь. О Дружке. Дружок — это пудель бабы Дуси. Незадолго до выборов один из кандидатов в мэры нашей деревни организовал бесплатную столовую для малоимущих и имущих ещё меньше. Для бомжей, стало быть. Дуся и повадилась туда ходить. Нет, сама она там не ела — попробовала, понюхала, и как-то не показались ей бесплатные щи да каша. А вот Дружку своему она это всё скармливала. Хоть и маленькая, а экономия. Можно сказать, прибавка к пенсии. Неделю всего бесплатно столовался Дружок. А сегодня утром взял да и помер. Ещё вчера был здоров и брехал на прилетевших грачей. А потом поел на дармовщинку и… Аккурат к красному дню календаря. Короче говоря, не будет миллионеру голоса бабы Дуси. Пожелания, чтоб он сам своими щами подавился, — были, есть и ещё долго будут. А голоса не будет.
Решил перечитать «Шинель», которая на самом деле и не повесть вовсе, а симфония, картина и повесть вместе взятые. И ещё такое, что и словами-то не объяснить. К примеру, одну только фразу «Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения» хочется съесть всю, обгрызть и обсосать до последней косточки. Или вот… впрочем, этак и всю повесть придётся здесь перепечатать. Но я не о том. Я о том, что «Шинель» перечитать никак невозможно. Пережить можно, а перечитать… нет.
Серпуховский рынок. Прилавок с банными халатами. Всё махровое по самое не могу, конвульсионных расцветок. Турция, одним словом. У прилавка стоит немолодая супружеская пара. Пропорций неописуемых. Стоят, едят жареные пирожки размером с кирзовый сапог снежного человека. С той стороны прилавка — бойкая старушка.
— Молодой человек, купите своей девушке халатик. Гляньте, какие весенние…
— У… э… Клава… — издаёт супруг, готовясь откусить пирожок по локоть.
— Миш, это… а… — неуверенно отрыгкликается супруга.
— Да вы приложите, приложите, — не унимается старушка.
Клава прикладывает к необъятной груди один из халатов. Миша смотрит на неё, судорожно сжимая пирожок в руке. Из пирожка показывается капля повидла, моля о пощаде…
— Девушка, да вы возьмите не этот, а другой, с надписью. Смотрите, какие надписи чудесные. Вот — «Я тебя хочу». Выходите вы из ванной, вся в таком халатике… — Старушка закатывает оба глаза, изображая лицом название второй симфонии композитора Скрябина.
— Кла… ва… ва…
Старушка вздыхает.
— Да вы не волнуйтесь, мужчина. Всё ж по-английски написано. Кроме вас и не поймёт никто.
Моя мама очень хлебосольный человек. Кроме того, как и всякая мать, она считает, что дети её чёрт знает чем питаются, даже голодают… Впрочем, слова этой песни настолько популярны, что нет смысла их здесь повторять. Когда я собираюсь приехать к ней в гости, то заранее должен позвонить и сообщить о том, какие из блюд мне хотелось бы… Сказать, что можно просто чаю попить с плюшками — это обидеть. Тем более что плюшки будут всё равно. После винегрета, холодца с хреном, куриной лапши или рассольника, телячьих отбивных или котлет по-киевски с жареной картошкой будут плюшки. Огромные, с хрустящей корочкой, посыпанные сахарной пудрой и корицей. Откусишь от неё кусок и, пока жуёшь, да, собственно, и жевать не надо — откушенное само тает во рту, намазываешь место укуса плюшки вишнёвым или абрикосовым вареньем, и рот уже и сам по себе открывается, чтобы…
Но если честно, то вопрос о меню скорее риторический. Что ни проси, а мама всё равно приготовит то, что считает нужным. То, что, по её мнению, я должен любить. А я люблю жареную мойву. Что ж тут такого, спросите вы? А вот что. «Представь себе, — говорит мама, — что я прихожу в магазин за этой самой мойвой. (Тут она брезгливо морщится.) Учти при этом, что меня здесь знает каждая собака. (И даже дети этих собак, — про себя добавляю я.) И продавщица Нинка из рыбного отдела, сына которой я за уши вытащила из хулиганской компании, меня спросит: “Что это вы, Лариса Михайловна, мойву берёте? Никак кота себе завели?” Ну, и что я отвечу? Что сын в гости приезжает? Что люди скажут?! Дома у себя будешь покупать мойву! Там, где меня никто не знает». Я и покупаю.
Стою как-то в очереди за мойвой, а рядом Евгений Николаевич, сосед из моего дома. Вид у него, надо сказать, совсем непрезентабельный. Это если не принимать во внимание запах. Ещё и ноги у него замечательной кривизны. Не ходит, а перекатывается. Я, собственно, про его ноги и хотел рассказать. А до этого была преамбула.
Живёт в нашем же доме старушка. Древняя. Есть у неё прозвище — Катюша. Нет, это не имя. Имени её никто и не упомнит. А Катюшей её зовут потому, что во время войны была она водителем грузовика, на котором перевозила снаряды для «катюш». Ну, может, и не только для «катюш», и не только снаряды, а и патроны, но не звать же живого человека патроном. После войны она ещё долго крутила баранки разных грузовиков. Уставала на этой работе зверски. А с устатку-то и пристрастилась. Да ещё и муж попался точно такой же. В смысле и выпить не дурак, и шофёр с той же автобазы. Так они и жили втроём — Катюша, Колюня и зелёный змий вместо сына, а может, и дочки, которых им так и не случилось завести.
Долго ли, коротко, а попёрли их с автобазы всей семьёй. Сильно они не печалились, поскольку стаж уж выработали и пенсия какая-никакая им полагалась. Ну, а зелёный змий рассчитывал быть на иждивении. Катюша устроилась уборщицей на городском рынке, а супруг её свои факультативные занятия по распитию спиртных напитков превратил в ежедневные и даже круглосуточные. Потом у кого-то украл из гаража то ли лобовое стекло, то ли колёса к «жигулям», то ли и то, и другое — теперь уж точно не вспомнить. Вычислили его быстро, и дело дошло до суда. Катюша была возмущена поступком своего мужа. Потому как пропил он украденное вне дома.
На суд Колюня явился с перебинтованной головой, поскольку в ходе семейного следствия и в результате выяснения отношений Катюша отходила его будильником. Это был механический будильник старой советской закалки, не чета нынешним пластмассовым китайчатам. В пролетарской руке такие будильники, я извиняюсь за иностранное слово, конгруэнтны булыжникам. В плохо отапливаемый зал суда (дело было зимой) Катюша вошла с боевыми наградами, приколотыми к зимнему пальто с воротником из видавшей виды чернобурой лисы, которую она называла «лисабуркой». Колюню защищала яростно. Впрочем, её мало кто слушал. Колюне дали год или два с отбытием в колонии общего режима. Может, он и расстроился, даже наверняка расстроился, да только заметить этого ни жене, ни окружающим не удалось.
И стала Катюша жить одна. Может, месяц или два жила одна. А потом стал к ней захаживать сосед. Друг и собутыльник её Колюни. И вовсе не за тем, зачем вы подумали. Евгений Николаевич, а это был именно он, приходил с цветами. Он был отставной военный. Как и все отставные военные — положительный точно протон. Моложе Катюши лет на десять. Самой-то Катюше к тому времени пошёл седьмой десяток. Ходил-ходил, да и перешёл совсем. Да и чего там было переходить — только спуститься на лифте с десятого этажа на второй. Год, а то и два пролетел у влюблённых как один день. Тут-то Колюня возьми да и вернись из своего санатория в солнечной Удмуртии. И спросил у ясеня, где его любимая. Евгений Николаевич как раз в тот день был ясенем или тополем, или просто дровами, поскольку что-то там они с Катюшей отметили накануне, и он лежал без всяких чувств на осквернённом изменой супружеском ложе. Не говоря худого слова, Колюня сгрёб эти дрова и выкинул в окно. Хорошо, что этаж был второй, а то б проходить Колюне повторный курс санаторного лечения. Евгений Николаевич, однако, хоть и не убился, но ноги таки себе переломал и в гипс его укатали буквально по самое не балуйся.
Катюша с Колюней выхаживали его как собственного сына, если бы он у них был. У себя дома и выхаживали, чтоб с этажа на этаж не бегать. Как уж они у него прощения вымаливали — неизвестно. А только в милицию никаких заявлений не поступало. Через полгода или год Евгений Николаевич поправился настолько, что мог своими ногами-загогулинами доковылять до ближайшего ларька за бутылкой. А вот с деньгами на содержание зелёного змия в домашних условиях стало совсем туго. На семейном (а на каком же ещё?) совете было решено продать квартиру Евгения Николаевича и прописать его у Катюши с Колюней, а уж на выручку от этой сделки гульнуть так, чтобы соседям чертям тошно стало. Сказано — сделано. Вот уже второй год соседям тошно, как и планировалось. Вся троица и примкнувший к ним намертво зелёный змий живёт себе пропиваючи. На закуске, однако, экономят. Катюша уже не убирается на рынке, как раньше, а побирается. В конце дня сердобольные продавцы отдают ей мясные обрезки и кости. Иногда всё же и покупают что-то. Вот как Евгений Николаевич мойву. Может, он и думает что-то эдакое про меня, глядя, как и я покупаю вместе с ним эту маленькую и грустную рыбку. Может, и думает. Да только не говорит. А смотреть в глаза ему меня никто не заставляет. Да он и сам их отводит.
Утром в соседней лаборатории пили чай с персиковым вареньем. Я случайно зашёл, и меня усадили. Болтали о разном. Женщины обсуждали какие-то свои дела, а мы с их начальником Славой и аспирантом Димой просто пили чай с персиковым вареньем и кексом. Ни с того ни с сего на женской половине зашёл разговор о размерах бюста. У женщин так всё затейливо — только что о консервировании болгарских перцев и новой диете, а потом раз и… Нам-то что — мы как пили чай с вареньем, так и продолжаем его пить. Я вообще не понимаю, что тут обсуждать — или размер есть, или его нет. Третьего не дано. То есть если третий, то уже, конечно, можно поговорить, а о втором и первом… Соседский начальник вообще молчит как персиковое варенье. У него в подчинении его супруга работает. Ну, так получилось. А у неё с этим делом… Но человек она замечательный и специалист отменный. Только вспыльчивая очень. А они, стало быть, рассуждают, что не в размере счастье, и если ты настоящий мужчина, то размер для тебя просто плюнуть и растереть. И громче всех начальникова жена. У Славика-то уж и плюнуть нечем, и растёр он всё по третьему разу, но… молчит. И вдруг супруга его, несмотря на такое молчание ягнят, говорит ему в сердцах: «Много ты понимаешь!» А у Славика в ответ на эти слова возьми да и выпади: «Когда много — я понимаю». Тут я поперхнулся кексом и вышел в коридор откашляться. Аспирант Дима был так любезен, что вышел вслед, чтобы постучать по моей спине.
Богам Манам. Гаю Цецилию Извергу, гастату[10] второй центурии третьей отдельной дорожно-патрульной когорты Аппиевой дороги, мужу честнейшему и прекрасному, его безутешная супруга Домна воздвигла этот мавзолей. Никогда не брал он более восьми положенных по закону ассов за отсутствие шлема на всаднике и больше пяти сестерциев за не прошедшую техосмотр колесницу, и не было случая, чтобы не выписал он нарушителю табличку. Никогда не пропускал он за три тысячи сестерциев через свой пост конных отрядов фракийца Спартака под стены Рима. Пусть накажут боги вольноотпущенника Курвинея за его донос и клевету. Кто здесь справит малую или большую нужду, пусть от того она не отстанет до смерти.
В новостях сегодня показали какого-то нашего министра. Прилетел он в одну из бывших советских республик. Кажется, в Киргизию. Встречал его у трапа самолёта местный начальник с животом размером с бронированный лимузин, стоящий неподалёку. И восточная девушка небесной красоты с цветами встречала министра. В атласном жёлтом халате, в расшитой тюбетейке, с толстыми косами и огромными глазами. Вы не поверите — министр мимоходом взял цветы у девушки и бросился обнимать местного начальника так, как будто их разлучили в роддоме и если б не этот официальный визит — им бы друг друга не встретить никогда. Вот поэтому-то я и не министр. Я бы стал обнимать девушку.
Незадолго до истории с Троей древние греки взяли хитростью и сожгли Двою. При помощи Конька-Горбунка. Но хозяин Конька-Гор буйка, Иван-царевич, заломил такую цену за аренду животного, что греки подумали-подумали, и стали запасаться фанерой…
Второй день празднуем двадцатипятилетие нашего института. Вчера была научная конференция. Сегодня капустник и фуршет. Народу у нас довольно много, поэтому фуршет всем выдали сухим пайком, и мы отправились по своим лабораториям праздновать. Сухой паёк, конечно, горло дерёт. В тумбочке-то у нас было. Есть и будет. Разводи и празднуй. Одна беда — дамы во вверенном мне подразделении интеллигентные. Подавай им соответствующие напитки. И мало не выпьют. Удивительно — с возрастом, я извиняюсь, грудь… ну, некоторым образом., усыхает, уменьшается. А возможности и потребности принять на эту грудь у них перпендикулярно увеличиваются. Такое вот закругление. На улице как на грех метель метёт, а дамы все с причёсками и на каблуках. Просят меня. Купи, говорят, нам шампанского. Посоветовавшись меж собой, добавляют — и пельменей пачку. Интеллигентность интеллигентностью, но без того, чтобы мешать французское с нижегородским, не обходится…
Снегу навалило по колено. Мороз ещё, конечно, не воевода, но уже и не простой стрелец. По такому морозцу и поехал я покупать себе зимнюю шапку на серпуховский рынок.
Продавец, жгучий брюнет-кавказец, в своём вступительном слове докладе тосте о достоинствах той шапки, на которую я имел неосторожность посмотреть, сказал, что ей не будет ни сносу, ни сглаза. В их семье такие шапки передаются от отца к сыну, а от сына к внуку. И всё равно — шапка не снашивается. Чтобы добро не выкидывать, потом отдают какой-нибудь дворовой жучке или мурке, а те уж в ней хотят сами бегают в лютые холода, а хотят щенят с котятами высиживают. Отдельно было сказано о достоинствах меха и замшевого верха. Выходило так, что если погладить рукой замшевый верх, а сразу за ним жену и после этого ещё и не убояться сравнить нежность замши и жены… После этих слов я решился на примерку. Шапка была хороша, конечно, но, как мне показалось, немного тесновата, о чём я и сказал продавцу. «Брат, — ответил тот, — посмотри на свою голову. Она такая же, как и моя. Мне эта шапка даже чуть-чуть велика, потому что у меня нет твоей бороды». Он снял с моей головы шапку и надел на свою. Потом он вновь надел её на меня, а мою старую шапку, в которой я был, нахлобучил на себя. «Ну, — сказал он, — ты видишь разницу? Каким ты пришёл сюда и каким можешь уйти?» Я колебался. В последующие пять минут он перемещал шапки с головы на голову со скоростью опытного напёрсточника. Я и не заметил, как в процесс примерки вовлекли стоящего рядом похмельного мужичка с бутылкой пива. Его бритая голова была размером с большое антоновское яблоко и приблизительно такого же цвета. На нем, кстати, моя старая шапка приободрилась. Когда от моей головы уже шёл пар, я сдался. Продавец настоял, чтобы я шёл домой в обновке. Для старой шапки мне был выдан пакетик и наказ отдать её первой попавшейся жучке.
Перед отъездом домой зашёл я в какой-то ларёк с самоваром и выпил стакан чаю. К чаю взял «бутерброд с рыбой грудинкой». Именно так и было написано на ценнике. На вид и вкус — обычная грудинка. Может, раньше она и была рыбой, а потом жизнь её так ломала и корёжила, что она и освинела. По-всякому в жизни бывает. Половину от этого бутерброда скормил воробьям, скакавшим тут же, под и на столиках. Я, кстати, заметил, что если летом кормить воробьёв, то они просто с шумом и гамом клюют крошки, которые ты им бросаешь. А вот понюхавшие первого морозца воробьи клюют и заглядывают при этом преданно тебе в глаза.
У нас что ни день, то выходят новые переводы романов Харуки Мураками. Мне начинает казаться, что Мураками их потом просто переводит на японский задним числом и живёт припеваючи. Если, конечно, сам Мураками существует, а не является выдумкой всяких вагриусов, эксмо и прочих амфор.
Можно было бы переделать финал легендарного «Ленина в Октябре». Мятеж захлебнулся. Женский батальон с хихиканьем и свистом загоняет революционных матросов и солдат обратно на «Аврору». Крейсер немедленно поднимает якоря и на всех парах уходит. Ленин из Смольного тайком пробирается на конспиративную квартиру, у него повязка на лице, под которой действительно болят зубы. На квартире его ждёт записка от Крупской. «Володя, я больше так не могу. Я смертельно устала от всех этих разливов, прокламаций и революций. Мы с Лёвой'" уезжаем в Мексику. Передай Инессе (зачёркнуто)… хоть раз в жизни (зачёркнуто)… не картавь». Ну, и финальные кадры — триумфальное возвращение Керенского в мужском платье[11].
Тихо в библиотеке. Так тихо, что слышно, как пролетают белые мухи за окном. В гардеробе старушка вяжет шарф длиной в двенадцать месяцев. Толстая и шерстяная анаконда уползает куда-то вглубь, под прилавок. В читальном зале старичок с авторучкой в нагрудном кармане пиджака дремлет над наукой и жизнью. Скучающая библиотекарша о чём-то беззвучно шевелит губами и рисует пальцем на толстых и пыльных листьях гортензии. Гортензия старая. Она ещё помнит, как на полке, над её горшком, стояло полное собрание сочинений вождя. Вот только не помнит — которого из. Ей тесно в горшке, и к непогоде корни просто выкручивает. Но она не жалуется. В конце концов, поливают регулярно и не тушат окурки в горшке.
Через неплотно прикрытую дверь каморки в глубине читального зала слышно, как кто-то говорит по телефону. «Надь, шампанское, нарезку и фрукты оплачивает профсоюз. Всё остальное приносим сами. Ну, как что? Салатики. Вас трое придёт — так три и принесёте. Ты со своим будешь? Только не надо перцовку. Клюквенную лучше… Да ничего не делаем. В хранилище часа два порядок наводили. Все уши в пыли. Чай пили с тульскими пряниками. Ленка принесла. Она с внуком приходила. С Минькой. Шустрый мальчонка. Пока мы трепались — залез под стол и нарисовал самолёт чёрным фломастером на Ленкином сапоге. Ага. Бежевые. Которые она на прошлой неделе купила. Ещё занимала на них до получки».
Начинает смеркаться. На стенде «Край родной» лица лучших людей города и района нахмуриваются. Только банка с вареньем, нарисованная на объявлении о заседании клуба садоводов-огородников «Встреча», краснеет как ни в чём не бывало. Завтра, в воскресенье, у них посиделки. Будут хвастаться новыми рецептами консервирования. По сотому, должно быть, разу.
За стеной двигают стулья. Общество любителей поэзии собирается на вечер, посвящённый некруглой дате со дня рождения Шевченко. А может, и Лермонтова. На стареньком пианино кто-то пробует брать аккорды. Пианино в ответ мычит невразумительное. Житья ему нет от этих «литературно-музыкальных композиций». Особенно по выходным. Хочется покоя, ласковых прикосновений фланели, стирающей пыль с крышки, и блендамеда с отбеливающим эффектом для пожелтевших клавиш.
Два школьника, обложенные и загнанные внеклассной литературой, готовятся к сочинению. Шепчутся между собой. «Шур, а я вчера четвёртый уровень прошёл. А ты?» — «А я нет. Меня маги задолбали. И мать с отцом. Всю мою конницу ухайдокали. В смысле, маги. Не, блин, Лёш, ты смотри, я у Заболоцкого нарыл — “людоед у джентльмена неприличное отгрыз”. Я худею. А писать будем про “не позволяй душе лениться” и вечер на Оке. Ну, и кто после этого наша Сергевна?» Они вздыхают и снова утыкаются в книжки.
В приоткрытую форточку осторожно просовывает погреться свою ветку берёза. В сером голубом красном оранжевом небе сходит с ума зимний закат. Окна соседнего дома наливаются тёплым мёдом. Тихо в читальном зале. Так тихо, что слышно, как пролетают белые мухи за окном.
За ночь снегу навалило по колено. Тротуары у нас, конечно, чистят, но где это чистое место, мало кто знает. Иду на работу по тропинке. Навстречу мне двое. Идут с трудом. Поддерживают друг друга из последних сил. Им нехорошо. По всему видать, что они как встали и упали не в силах отжаться, так и выползли на поиски каких-нибудь средств первой алкогольной помощи. Поправить расшатанное вчера здоровье. Даже штаны толком застегнуть не успели, не говоря о том, что практически всё на голое, синее тело.
И эти двое решили уступить мне дорогу. Один другому так и сказал: «Лёха, давай уступим мужикам дорогу. Они на работу спешат». Мы, то есть я, то есть сколько бы нас ни было, могли бы и сами посторониться, и даже собирались это сделать, но… было поздно. Лёха и его товарищ решительно уступили дорогу. В следующее мгновение из огромного сугроба, в который они посторонились, торчал только пакет с пустой посудой, которую два вежливых джентльмена надеялись обменять на полную. Ещё через минуту из сугроба протянулась ко мне рука и заскорузлыми пальцами прохрипела: «Земляк, помоги…» Кто строил в детстве карточные домики — тот может себе представить.
Минут через пятнадцать я поставил их рядом и, затаив дыхание, убрал руки. Уходя, ещё долго оглядывался. Так и стояли. Осторожно шевелились. Выдыхали с паром в чистый и холодный утренний воздух обрывки слов. Большая ворона обходила их десятой тропинкой.
Видел двух ротвейлеров. На одном поводке. До чего, собаки, здоровы. Мрачные. Идут, ни на кого не смотрят. Тот, у которого золотой ошейник, что-то лаял в мобилу. Обещал какому-то Толику неприятности. А другой молчал. Шёл, ронял слюни на тротуар и молчал. Да и о чём говорить? Давно пора Толика за горло брать, а не разговоры разговаривать.
Был у стоматолога. В процессе пыток зашёл разговор о молодости. Знаете, как разговаривают стоматологи с пациентом — как птицы с зеркалом. Смотрятся в него, чирикают, стучат клювом. А зеркало… мычит нечленораздельное, ломает в отчаянье руки и заклинает глаза, вылезшие на лоб, не разбегаться. «Ах, молодость, молодость, — мечтательно произнесла стоматолог. — Счастливое было время. Нам тогда казалось, что лучше пасты “Колгейт” ничего на свете и быть не может».
Какой идиот придумал пить шампанское из туфли Николая Сергеевича? Туда больше бутылки входит, у него же сорок пятый размер. Оказывается, у Толика есть отчество. Кто бы мог подумать. Особенно в таком состоянии. Хуже стульев на колесиках только замдиректора по общим вопросам. Не умеешь кататься — встань с колен. Не надо при мне списывать слова из песни о курином холодце с майонезом. А то я спою. Мало не покажется. Лучше выйти. И воду не забудьте спустить. Кто так заплёл ноги и язык аспиранту? Сам?! А ведь только вчера пришёл совсем зелёным… И сейчас с каким-то отливом… Салют — это лишнее. Особенно из кальмаров с яйцами. Почему на полу столько осколков? От шампанских пузырьков? Что ж вы, как страус, спрятали лицо в салате? А ведь мы ещё и к сладкому не приступали. Ну, кто может сам, своими губами, перейти к сладкому?
Местные подрывники-затейники начали мощную артподготовку часа за полтора до. Потом было небольшое затишье перед самой полуночью и несколько шампанских минут после неё. И всё. После этого живого места на небе не было. Даже над противоположным берегом Оки, где только зубры в заповеднике, всё было в гулкие малиновые и шипящие зелёные дребезги. Уши закладывало, как за воротник. А вот атака пехоты захлебнулась. Или нахлебалась. В половине третьего, выйдя на балкон покурить, почувствовал себя Джульеттой. Какой-то мужик во дворе, задрав голову, истошно кричал: «Девушки, я желаю добра и счастья, бля, ва-а-а…» Недокричал. Упал в детские санки, стоявшие рядом, и его увезла с поля боя сестричка в белой шубке.
Ночью приснилось моё первое написанное в рифму стихотворение. Проснулся в холодном поту Почему хорошее забывается быстро, а вот такое… плавает в памяти и не тонет? Я, кстати, отослал тогда это стихотворение в журнал «Огонёк». Вместо того чтобы порвать, выбросить и не отвечать — они прислали вежливый отказ и вложили мою бумажку со стихотворением. И я, идиот, его неосторожно перечитал. Двадцать лет прошло, а я им так и не простил.
В табачном ларьке видел вино под названием «Коварство и любовь». Что тут скажешь… Шиллер — не бери в голову гроб. И стоило оно полсотни рублей. Боюсь, что за такие деньги там никакой любви — только коварство.
Он стоит на окраине, этот старый деревянный дом. Шесть квартир. Шесть труб на крыше. Шесть дымов из труб. Вот большой, сметанный и солидный дым из трубы Ивана Сергеича, человека положительного и, кажется, даже старшего бухгалтера. Не дым, а колонна дорического ордера. А вот тонкий и слоистый от библиотекарши Елены Станиславовны. Рядом с дымом библиотекарши клочковатый и разлетающийся во все стороны дым из трубы Кольки, слесаря авторемонтной мастерской, а может, и Мишки-токаря из ЖЭКа. Кто их разберёт… Хотя… если присмотреться… дым летит не вовсе абы как, а всё больше наклоняется к почти незаметному дымку из крайней правой трубы. Как раз эта труба стоит над угловой комнаткой Верки или Надьки (да, точно Надьки — Верка в прошлом году вышла замуж и съехала к мужу в панельную хрущобу) с ситценабивной фабрики. Надька — мечтательная, точно майская сирень, девчонка с такими откуданивозьмись персидскими глазами, что соседи про её мать уж сколько лет болтают, а всё остановиться не могут… Надька сидит за столом, ест большой ложкой варенье из прозрачных ягодок крыжовника, читает затрёпанный роман про совершенно невозможную любовь, который ей дала Елена Станиславовна, и время от времени так вздыхает, что мигает свет в настольной лампе с треснутым плафоном… Печь понемногу остывает, дымок из трубы истаивает и сливается с предвечерним сиреневым малиновым воздухом…
У меня в коллективе хорошая лаборантка — тихая, скромная, аккуратная, худенькая и миниатюрная точно Дюймовочка. В нашем деле это очень важно. Встречаются колбы с узким горлом, не говоря уже о пробирках. Всё вымоет, вычистит до блеска. А уж как пыль вытирать любит… Однажды задумался в кресле над результатами эксперимента… Просыпаюсь — а на мне ни пылинки. Даже в труднодоступных местах. Крошечка-Хаврошечка нервно курит в ухе своей коровы. Одна беда — как придёт с утра пораньше на работу, так сразу к раковине, мыть посуду. Тысячу раз ей говорил: «Света, не бросайтесь вы грудью на амбразуру посуду. Грудью лучше Я этой хсрнёй химией уже четверть века занимаюсь. Ещё не было случая, чтобы хоть одна грязная колба убежала. Не говоря о пробирках. Пришли — так сразу и поставьте чайник. Я пришёл на целый час позже, и что же?! Гора чистой посуды и чайник, пустой и холодный как голова президента нашей академии наук. Вот я сейчас буду вынужден начать рабочий день со вчерашней заварки..» Молчит. Вздыхает. Полной грудью.
У дочери опять кавалер новый. Студент-физик-третьекурсник. Высокий. Метр девяносто два. Не шутка.
— Как же вы целуетесь, — спрашиваю.
— Просто, — отвечает. — На цыпочки становлюсь, и целуемся.
— Не смей, — говорю, — больше так делать! Эк что удумала — на цыпочки становиться. Ты ж себя, натурально, роняешь! Пусть он к тебе наклоняется. Кто из вас двоих кавалер?
Смеётся, дурища. Вот они, нынешние… Хоть и целуются уже, а понятия нет ни о чём. Без родительского совета пропадут. Как пить дать.
У нас в провинции всё такое же, как и в столицах. Только скромнее, без люрекса и стразов, у нас и культурная жизнь есть. Она и вообще у нас есть. Разная. Но из Москвы её не видно. Они там иногда поднимутся на башню и смотрят вдаль. За кольцевой — ничего не видать. То ли дым из-под снега, то ли снег с прошлой зимы не убирали… Какая-то муть на горизонте. Уж и стёкла в очках протирали по третьему разу, и даже чёрные икринки брёвна соринки из глаз повытаскивали — одна муть, хоть тресни. А если треснет, то, само собой, две. Ну, да не о них речь. Сегодня я был на выставке. Нет, Вексельберги нам свои драгоценные яйца не показывают. Это не для наших брюк нашего скромного краеведческого музея на втором этаже промтоварного магазина «Весна». Выставка чугунных печных заслонок — вот это для нас. Тоже, между прочим, частная коллекция. Вьюшки, поддувала, топочные дверцы — всего десятка два экспонатов. Литьё тульское, каслинское, калужское, липецкое и нижегородское. На огромной топочной дверце калужского литья позапрошлого века — красавец лось. Из тех ещё лосей, которые потом, в эпоху центрального отопления, эмигрировали на настенные коврики с бахромой. А там и вовсе вымерли. Вот вьюшка литья путиловского завода, по рисунку самого Клодта. И вовсе не кони, а «дворовый, везущий на дробушках барыню». По виду эти дробушки — самые обычные салазки. Барыня старая, укутанная в сто одёжек. Куда он её везет — теперь уж не узнать. Может, в гости к такой же старой барыне, на чай с липовым мёдом, смородинной наливкой и сдобными калачами. Кухарка натопит им печку, берёзовые дрова жарко загорятся, в трубе запоёт-загудит тёплый воздух, и станут они вспоминать о том, о чём вспоминают все старые барыни, в каком бы столетии они ни жили. Потом будут зевать, мелко крестить сморщенные рты, потом хозяйка уговорит гостью остаться переночевать, тем более что дворовый мужик, привёзший её сюда, уже так угостился белым вином на кухне, что не только дробушки с барыней, но и самого себя, подлеца… потом лягут спать, задуют свечи и через пять-семь лет тихонько отдадут богу души, потом домик этот, проданный невесть откуда появившимся и вступившим в права наследства троюродным племянником, станет какой-нибудь скобяной или керосинной лавкой, потом конторой, потом снова конторой, потом устроят в нём какую-нибудь пельменную или рюмочную под неоновой вывеской с перегоревшими буквами, потом он обветшает вконец и снесут его по приговору неприметной канцелярской крысы с потными красными лапками и шустрым хвостом, потом мальчишки будут рыться в его развалинах в поисках пиратских сокровищ, а вместо них найдут чугунную вьюшку литья путиловского завода, на которой дворовый везёт на дробушках барыню…
Дети во дворе играют в войну. Вооружены до дыр от молочных зубов. Мечи у них огромные. Да что мечи… Если б только мечи… Орала у них ещё больше.
Малолетний племянник Андрюша получил неуд по физике. Ну кто ж не получал неудов по физике и ремнём по биологии. Обычное дело. Однако племянничек решил умягчить заслуженное наказание. Пришедшей домой матери, после рабочего дня, с сумками наперевес и языком на плече, он бросился на шею с криком:
— Какая же ты у меня красивая, мамочка! Просто принцесса!
— Принцесса так принцесса, — устало отвечала мать, роняя на пол сумки. — Хоть королева.
— Нет, мам, ты не королева.
— Это ещё почему?
— А ты не замужем…
За неуд по физике Андрюша получил всё, что причитается детям обычных принцесс. Не королев.
Сажусь в маршрутку, идущую из Пущино в Москву. Следом за мной входит красиво одетая женщина лет пятидесяти. Неловко спотыкается о ступеньку, но не падает, а удачно приземляется на сиденье напротив. Около минуты сидит молча, потом достаёт из сумки «Письмена Бога» Борхеса, раскрывает, закрывает, вздыхает и громко, с чувством, говорит: «Вот же ж ёб твою мать! — и, обращаясь ко мне и протягивая сто рублей, — Мужчина, будьте так любезны, передайте, пожалуйста, водителю за проезд». И всё. И целый день отличное настроение. Борхес его знает, почему.
Купил я себе новый радиоприёмник. Взамен того, о котором мечтал. Люблю я слушать радио. Особенно радиостанцию «Эхо Москвы», или классическую музыку на берегу «Немецкой волны», или театр у микрофона «Голоса Америки». Я даже когда покупал его, так и попросил продавца, чтоб он мне подобрал тот, который всё это ловит, и недорого. Он и подобрал что-то отечественное, китайское. Принёс я его домой, распаковал, выдвинул антенну по самое нимагу, развесил уши по разным стенам, чтоб насладиться стереофонией… и что же? Он, гадёныш, ловит радио «Шансон», «Радио России» и милицейское радио. Из «Эха Москвы» он ловит только вторую букву в слове «ухо». Однажды мне удалось-таки послушать «Эхо Москвы» во втором часу ночи. Слушал, слушал и задремал от полноты нахлынувших демократических чувств. Просыпаюсь через несколько минут — на этой волне милицейское радио. Какой-то сержантик из Сибири чешет яйца томится на ночном дежурстве и просит вставить ему песню Михаила Захаровича Шуфутинского. Ещё и Захаровича! А попроси он прочесть ему стихотворение Пушкина? Вспомнил бы сержант хотя б имя? И вообще — был бы он сержант в таком разе? И как, спрашиваю я вас, всё это называется? То-то и оно. Плюнешь приёмнику в динамик его поганый, закуришь трубку и раскроешь том стихов Бродского. И станешь радоваться тому, что не пишешь стихов в рифму. Ежели б я их дерзал писать, то наверняка переписывал бы вечно «Остановку в пустыне», или «Рождественский романс», или «Anno Domini». Было бы неловко, стыдно перед родственниками и друзьями, но… кто ж устоит перед таким искушением?
Приёмник приобрёл привычки дрессированного скворца. Подражает работе стиральной машины. Если у неё по программе отжим, так и у этого подлеца звук работающей центрифуги из динамика вместо последних известий. Ну, а как начинается полоскание — так жди бульков в голосе какого-нибудь депутата или певца. Но это ещё не всё. Стоит только ведущему «Эха Москвы» сказать… Нет, не сказать — подумать только о том, чтобы сказать, даже шепнуть посреди прогноза погоды: «Свободу Михаилу Хо…» — треск, шум, хрипы такие, что и сам, того и гляди, закашляешься. А вот радио «Шансон», чтоб у него лицензия на вещание отсохла, всегда идёт без помех. Более того, даже если немедленно выключить приёмник, то ещё в течение часа из него несётся: «А я плыву на лодочке под пиво или водочку», не говоря о «чулочек расписной, а я весь такой блатной, на пантомимах весь». Если такие песни занести случайно в голову, руками немытыми или с укусом клеща, — пиши пропало. Из мозга они удаляются только хирургическим путём.
За обедом слушал передачу про известного профессора-офтальмолога Панкова. Он написал очень популярную книжку о вреде очков под названием «Очки-убийцы». И что самое интересное, если не сказать загадочное, — после выхода этой книжки из печати взял да и отдал богу душу. Не то чтобы я думал об очках так плохо, как Панков… но собрались они ночью в пыльном пустом шкафу в подсобке одной из неприметных «оптик». Первой пришла китайская контрабандная братва с узкими пластмассовыми стёклами. За ней приковыляли, стуча кривыми дужками, наши роговые оправы для пенсионеров и отличников народного образования. Потом появились горячие солнцезащитные итальянцы. Из какой-то щели выкатился древний монокль на шёлковом, пропахшем нафталином шнурке. Ждали оправу от Армани с пуленепробиваемыми чёрными стёклами…
А очки от косоглазия так и не пришли. Сбились с пути. И поэтому получили плюс пять условно в правый глаз.
Семья буквоедов. Толстый, обрюзгший и вечно закусывающий папаша. Из неопрятной бороды то и дело вываливаются то переклад инка от «н», то птичка от «й». Его жена — длинная, тощая и унылая особа. Лет пять назад подавилась хвостиком твёрдого знака. Перенесла операцию. С тех пор питается только гласными и мягкими согласными. Сын-школьник. Связался с какой-то шпаной, воротит нос от кириллицы. Соседи видели, как он в компании таких же лоботрясов трескал готические руны. Мать жены — привередливая старуха. Всё время вспоминает, как были вкусны фиты и яти. Папаша утверждает, что бабка ещё помнит вкус египетских иероглифов. Кот. Просто кот. Рыжий, толстый и ленивый. Больше всего на свете любит сырую куриную печёнку.
Семья лизоблюдов. Потомственная. Предок отца семейства, Иероним Карл фридрих фон Тухесгаузен, ещё при Анне Иоанновне был вывезен Бироном из Курляндии, где подвизался в чине обычного жополиза при дворе местного курфюрста. В России дослужился до того, что вылизывал не раз и не два большое блюдо императорского столового сервиза веджвудского фарфора. При Павле Петровиче сыну его было пожаловано потомственное дворянство. В дальнейшем, однако, род по неизвестным теперь причинам захирел, и переворот семнадцатого года Тухесгаузены, которые к тому времени обрусели до Лизюковых, встретили с воодушевлением. Надеждам, впрочем, не суждено было сбыться. Дальше столовой наркомата тяжёлого машиностроения им не удалось пробиться не только языком, но и никаким другим органом. Помешало происхождение. Не станем описывать дальнейшие их злоключения. Чудом уцелевший последний представитель рода, Василий Генрихович Лизюков, проживает в Санкт-Петербурге, в большой коммунальной квартире на Литейном проспекте, вместе с сыном Карлушей и тёщей Эльвирой Леопольдовной. Он вдовец. Перебиваются они приглашениями в богатые дома на различные торжества. Не пренебрегают и поминками. Раньше с ними ходила и тёща, но после того, как однажды, войдя в раж, Эльвира Леопольдовна слизала тефлоновое покрытие с какой-то сковородки, её стало мучить несварение желудка и даже колики. Теперь она из дому почти не выходит. Карлуша родословной своей не интересуется, традиций не знает и не умеет. При случае может вылизать и одноразовую пластиковую тарелку. Василий Генрихович в последнее время стал сильно выпивать, и как выпьет — так ругает последними словами посудомоечные машины. Часто его видят в одном из залов Зимнего дворца перед витриной с императорским фарфором. Старик смотрит безотрывно на большое блюдо, что-то бормочет и плачет, не обращая внимания на снующих экскурсантов.
Вчера вечером вышел на балкон покурить. С балкона открывается вид на Елисейские поля соседний, довольно близко стоящий дом. Тех, кто с той стороны выходит на балконы почесать покурить, я волей-неволей уже изучил, как облупленных. Летом, в жару, соседи и выходят облупленными, то есть в неглиже. Вот и вчера на балкон выскочил мужик в трусах с истошным криком: «Сука!» Народ у нас отзывчивый. Из квартир справа, слева, над и под мгновенно метнулись на балконы соседи и завертели головами, пытаясь запеленговать источник крика. Мужика тем временем жена и тёща уже втащили за полосатые трусы в комнату, чтобы там, в тёплой и сердечной обстановке, за кофе и сигарами, узнать — кто эта сука, где она живёт, не зовут ли её, чисто случайно, Игорем… Короче говоря, обычный семейный разговор по сусалам душам, закончившийся звоном посуды, рукосуйством и обещанием сторон показать друг другу кузькину мать и всех её родственников до десятого колена. Через какое-то время заводка у участников соревнований кончился, и всё утихло. На следующее утро, как мог бы догадаться даже Ватсон без помощи Холмса, я снова вышел на балкон покурить. К немалому удивлению, я обнаружил, что на противном балконе мирно курят Игорь и его тёща. Ну, курят и курят. Эка невидаль. Проспались и помирились. Но тёща в промежутках между затяжками ещё и устраивала разбор полётов. Нет, это не были обычные в таких случаях плотницкие работы над зятем, вроде снимания стружки, распилки и ошкуривания. Это был настоящий разбор полётов. Такой, какой устраивают лётчики после воздушного боя. Теща показывала чудеса высшего пилотажа вчерашнего мордобоя. Её кулак по плавной дуге приближался то к скуле зятя, то к своей, она ныряла под собственный хук справа и немедленно распрямлялась как пружина… И зять, и тёща при этом заливались смехом. Через какое-то время засмеялся даже худенький белобрысый мальчик лет пяти, который тихонько стоял в углу балкона и поливал из маленькой синей лейки цветок в горшке.
Лет восемь или девять назад случилось мне по научной надобности посетить город Штуттгарт. Там проходил европейский симпозиум по… впрочем, это технические подробности, к настоящему рассказу отношения не имеющие. Однажды вечером, утомившись от учёных заседаний, мы с товарищем прогуливались по чистым до стерильности отделам аптеки улицам этого красивого города. Болтая о том и о сём, добрели мы до крошечного садика и решили передохнуть там на скамеечке. На другом конце этой самой скамеечки сидел и курил мужчина лет тридцати-сорока с таким количеством веснушек, которого хватило бы на всех поголовно жителей какого-нибудь небольшого райцентра, включая собак и кошек. Какое-то время мы продолжали беседовать, а мужчина курил, наблюдая за маленькой рыжей девочкой, без сомнения его дочкой, которая качалась на качелях неподалёку Как это обычно бывает с нами там, мы беседовали о том, почему у них так, а у нас всё через не так как у них, да и у всех. Минут через десять наш сосед повернулся к нам и спросил: «Мужики, вы из Москвы?» Слово за слово, и мы разговорились. Пауль или Паша, как его называли раньше, приехал на свою историческую родину из Казахстана года три назад. Привыкал трудно. Хотел даже вернуться, но жена удержала. Сейчас всё нормально. Более или менее. Но… скучает. Скучает по живому русскому языку. Немецкий он, конечно, выучил, «нужда заставила», но дома разговаривает только по-русски, «чтобы дочка потом могла и своих детей научить». «Не хочу, чтобы Ленка забыла русский. Жене вот всё равно, а я не хочу», — сказал Паша. Врать не буду — я растрогался. Да и товарищ мой тоже. От полноты чувств мы предложили Паше пойти с нами выпить пива. Паша поблагодарил, но отказался. Ему пора было вести ребёнка домой. Он оглянулся, ища глазами дочь, и, увидев, что та умудрилась вскарабкаться на макушку какой-то чугунной садово-парковой скульптуры, изменился в лице и громко крикнул: «Ленка! Ёб твою мать! А ну, слазь нахер оттудова! Домой пора».
А в пивную мы в тот вечер не пошли, у товарища в гостиничном номере была бутылка водки. И мы решили, что пива ещё успеем выпить завтра.
Пару недель назад я вдруг радикально постригся. Что-то вступило в голову. Июль у нас жаркий был очень. Не побрил голову, нет, но «где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто всё — простор везде…». В сочетании с бородой… Сестра, увидев меня, сказала: «Госпо… Аллах акбар, идиот!» Теперь волосы отрастают обратно. Но неравномерно. На каких-то ррядках участках быстрее. Это, наверное, сорняки. А может, на этих местах подкорка питательнее. Думаю, что волосы быстрее растут над глупыми мыслями. Говорят же, что умная голова волос не держит. Теперь я точно знаю, что местами моя голова совсем бестолковая. И таких мест квалифицированное большинство, как выражаются у нас в Думе.
Подмосковная дорога. Из тех, что не артерии, не вены, а так — капилляры, ведущие в тупик какого-нибудь мизинца на левой задней ноге. По обеим сторонам смурной еловый лес. К одной из ёлок прибит железный лист. На нём написано: «Уголь. Дрова. Дизайн». Ну, и телефон, конечно, по которому надо звонить нуждающимся в угле, дровах и дизайне.
Кладбище в Ново-Иерусалимском монастыре. Железные могильные плиты, по-медвежьи бурые и массивные. Голицыны, Бестужевы-Рюмины, Оболенские, Нащокины… Князь… генерал-майор… полковник… лейб-гвардии… кавалер ордена Святой Анны… действительный статский советник… Поневоле и задумаешься о своём — не гербовом, но простом. Как придёт пора писать… Какая там лейб-гвардия… Хотя… если уж говорить о лейбах, то можно вспомнить прадедушку с папиной стороны… Хороший был прадедушка. По крайней мере, мне грех жаловаться. Если б он вовремя не подсуетился насчёт моего дедушки… Но я не о нём. Я о том, что писать… Что писать-то?! «Старший научный сотрудник, химик и кавалер школьной золотой медали..» Нет, ну и другими местами кавалер. Не без этого. Есть свидетельницы. Или взять эпитафию Нащокина. «Муж, более известный добродетелями, нежели чинами». С добродетелями у меня обстоит так, что и старшего научного сотрудника стесняться глупо. Так что… А то вдруг как представлю себе памятник вроде крыловского. С барельефами по периметру. С героями подследственными из моих немногословных и даже молчаливых виршей… То бомж, то гаишник, то тёща, а то и вовсе нескромное… Не, это не изобразят. Дети ж гуляют с мамашами вокруг памятников. Они хватаются за всё, что попало. Какой же это пример? Никакого назидания. Чёрт знает что получится. Не будет, значит, памятника. А может, выход из метро будет. Как сделали на «Маяковской». Второй или даже четвёртый. В смысле, совершенно запасной. На случай, не приведи Господи, каких-нибудь стихийных бедствий. И вдоль стен… Тут всё рушится, вода подступает, все бегут, дым, чад, крики… Но спасутся все, конечно. Потом будут вспоминать все эти ужасы. И кто-то спросит: «А помните, когда бежали по лестнице, там ещё какая-то херня была на стенках написана. Вот я запомнил такое…» А ему ответят: «Да ты что, Серёга, быть такого не может. Метро это было. Не дурдом. Это тебе от угара привиделось. Или, там, головой о перила… Давай-ка лучше ещё по одной».
Поезд Москва — Одесса. Душное купе и чай в ностальгических мельхиоровых подстаканниках. Во время чаепития, по старинному российскому обычаю путешествующих по железной дороге, ложечку из стакана не вынимают и правый глаз рукой не прикрывают.
Подъезжая к Киеву с меня слетела шляпа разглядывал многочисленные политические агитки, намалёванные на заборах и домах, стоящих вдоль железной дороги. Почти все лозунги на украинском и только там, где сторонники Ющенко, кипя и пенясь от негодования, обращаются к сторонникам Януковича, на русском языке написано «ебучие казлы донецкие». И ещё «чемодан, вокзал, Донецк». Вспомнилась радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны», которая во время родов закричала «мама» на русском языке. Видать, и тут ребята находились в родильной горячке.
После Киева поезд идёт медленно. Так медленно, что снег за окнами под ярким весенним солнцем тает быстрее. По вагонам шустро бегают туда и обратно разные коробейники. Толстая баба с сумками на спине и груди заунывно кричит голосом муэдзина: «Пирожки с повидлом до чаю… кефирчик… карты…» Кефир покупают плохо — у многих ещё не кончилась взятая с собой водка.
Солнце припекает всё сильнее. Поезд замедляет ход перед когда-то белым и красивым зданием вокзала, на каменном фасаде которого вырезано «КазатинЪ». Ещё видны надписи «БуфетЪ» и «Залы ожидания первого и второго классов». Чёрт знает из каких глубин всплывает и начинает глодать совершенно необъяснимая тоска по империи. На перроне тотчас же воображаются щеголеватые офицеры с нафабренными усами и дамы в шляпках с вуалетками. Сверкающий медный колокол, в который звонит дежурный по станции, пронзительный свисток паровоза и… поезд трогается. За нами ещё какое-то время бежит бедно одетый мальчонка, просящий купить хлеб и минеральную воду, мужик в камуфляжной куртке, выкрикивающий «Рубли на гривны!», скалятся вдогонку буквы надписи на бетонном заборе: «Юра — поц», и тоска мало-помалу отступает.
Потом Жмеринка, а может и Винница, с непременно предлагаемыми варениками с вишнею, горячей картошкой в пол-литровых баночках, жареные караси и огромная не желающая исчезать надпись «Слава труду!» на каком-то обветшавшем привокзальном строении.
Наконец — Одесса. Язык вывесок, постоянно сбивающийся с украинского на русский. Торговки на Привозе, называющие гривны рублями. Кошерный ресторанчик «Розмарин» на углу Малой Арнаутской и Лейтенанта Шмидта, в меню которого среди фаршированной рыбы, форшмаков и цимесов бог знает откуда взявшиеся «чебурекас мясной» и «чебурекас рыбный». Про рыбный написано, что он не хуже мясного. И правда. Хотя им обоим далеко до юной официантки с такими… с такими… и такими… что, кажется, ел бы не с тарелок, ею поданных, а прямо из рук.
Пляж Ланжерон. Пожилая пара медленно прохаживается вдоль полосы прибоя. Медленно, по глотку, они пьют коктейль из солёного морского ветра, криков чаек, запаха водорослей и гудков далёких пароходов. Щурясь от весеннего солнца, она говорит ему:
— Как бы я хотела приехать сюда ещё раз… Хоть на пару дней…
— Ты же знаешь…
— Но я так хочу этого! Хочу хотя бы надеяться! Возьми пару монеток и брось их в море.
— Но деньги у тебя…
— Господи, какой же ты бестолковый! На, возьми мою сумку. Там в правом кармашке лежит мелочь.
Он, безотрывно глядя ей в глаза, долго и неуклюже роется в сумке. Наконец достаёт горсть ярких жёлтых кружочков и, размахнувшись что есть силы, швыряет их в море. Она вдруг вскрикивает:
— Что ты бросил?!
— Твои таблетки, — разом выдохнув, отвечает он.
— И не надейся!
— Да-да-да! — подхватывают чайки.
— Да-а-а… — басит пароход на рейде.
Вчера был по делам службы в небольшой компании, которая изготовляет по моему заказу разные детали к приборам. Собственно, какие там дела — по договору срок сдачи железа двадцать восьмого февраля, а на календаре уже середина марта. Я приходил ругаться. По старинной нашей российской традиции в подобных случаях исполнитель ебёт мозги рассказывает заказчику о невероятных сложностях, с которыми он столкнулся при изготовлении тех или иных деталей. Начальство на меня, поскольку я звонил каждый день и требовал заказанного и оплаченного, уже и смотреть без содрогания не могло, отвело меня в цех на сборочный участок и сдало с рук на руки мастеру.
Мастер Семёныч, маленький лысый старик с огромным, во всю голову, крючковатым носом, начал свой плач с такого зачина:
— Знаешь, как мы ебёмся с твоими корпусными деталями? Знаешь?!
— Понятия не имею. Я за корпусными деталями даже не ухаживал ни разу, а чтобы с ними ещё и…
— Коль, а Коль, — он поворачивается к слесарю, — вот ты скажи! Ебёмся?
— Ещё как, Семёныч, ещё как! Вся жопа в мыле вторую неделю!
— А у тебя крышки какие? — продолжал мастер. — У тебя крышки из тройки. Мы на нашем прессе их согнуть не могли, на стотонник таскали. А там как утяжка пошла… Это я молчу про твои радиуса. Радиуса у тебя просто охуеть.
— Так ваш же технолог, когда принимала заказ, все чертежи чуть ли не с лупой смотрела. Сказала, что всё выполнимо, и вопросов не задавала.
— Технолог у нас с лупой, ага. С большой. Эта звезда фрезерного станка от сверлильного отличить не может. А ты её технологом… Ей бы… А других у нас теперь нет. Ты ж сам понимаешь!
— Да я…
— У меня токари все пенсионеры. И тех трое осталось. Уйдут — некому будет болт выточить. Простой болт, мать его… Куда ж мы с тобой без болтов-то, а?
— Семёныч, да хрен бы с ними, с болтами. В моих корпусах они все покупные. А вот почему у вас зазоры между крышками по пять десяток? По допускам не больше двух должно быть.
— Они и будут не больше двух. Винты потуже затянем, покрасим. Тебе в малярке по две десятки на кромку точно набрызгают. И не сомневайся.
— Сомневаюсь. Больше десятки на кромку не выйдет. Хоть у брызгайтесь.
— Ты, я смотрю, не первый год замужем… Больно дотошный. Ты к каждому слову-то не вяжись. Это я так, сгоряча сказанул. Заказчик же разный приходит. Не все ж, бля, такие… Ну, ладно, по десятке. Да спрячь ты свой маузер[12], спрячь. Колька подгонит. Будет всё как доктор прописал. Пойдём покурим, и я тебе нашу токарку покажу. У нас чешский станок есть — ровесник моему токарю. И работает как часы. Егорыч на него молится.
И мы пошли курить и смотреть станок и молящегося на него Егорыча. Под ногами хрустела сизая металлическая стружка, пахло нагретым машинным маслом, взвизгивали при запуске токарные и басовито гудели фрезерные станки. Говорили о том, что теперь никто не хочет учиться токарному делу, что у расточника зарплата едва-едва десять тысяч, что хорошего слесаря днём с огнём, что метчики стали делать такие, что просто плюнуть и растереть, а не метчики, и не дай бог такими нарезать резьбу в нержавейке или титане…
Удивительное дело, но приятнее общества (если говорить о профессиональных сообществах) мастеров, станочников и слесарей я никогда не встречал. Ну, не то чтобы не встречал, а вот… случилось мне как-то раз явиться в редакцию одного московского литературного журнала за гонораром. И увидел я там сборище поэтов с горящими глазами. И пригласили меня к ним присоединиться, поговорить о судьбах современной поэзии, о нелёгкой доле поэта… Как же меня затошнило от одного вида я быстро слинял…
И ещё. Никогда мне не доводилось читать настоящий производственный роман. Про советские я не говорю. Они про другое писались. Там все эти слова про шпиндель или суппорт были просто декорацией. Собственно, там всё было декорацией. А теперь, когда… теперь и этих романов нет. Конечно, токарь и слесарь не поэты, но… они поэты, настоящие поэты, если мастера своего дела. Мы бездарно проебали проебали целое поколение этих мастеров. Они или уже ушли, или вот-вот уйдут, не оставив никакой смены. Учить некому и некого. Конечно, оно всё наладится. Потом. Когда «мы уже все потом», как говаривал, кажется, Юрий Олеша.
А про роман я, конечно, преувеличил. По крайней мере один-то есть. Даже не роман, а рассказ, но он стоит и двух романов. Хоть и написан давным-давно, но боюсь, что вечно быть ему у нас современным. «Левша». Он смешной, конечно. Очень смешной. Но перечитывать его без слёз не получается.
Купил упаковку носовых платков. На упаковке написано на совершенно итальянском языке, что сделаны они в Италии, в Милане. Ну, это понятно — не указывать же старый адрес на Малой Арнаутской. Внутри этой упаковки проложена картонка, чтобы платки хорошо смотрелись. А вот на этой картонке… жизнеописание протоиерея Николая Гурьянова. И фотографии его же. Не на итальянском, как можно было бы подумать. Вот какие послания приходят к нам из самой католической на свете страны. Неисповедимы пути Господни. Неисповедимы.
Будь я министром финансов, я бы все зоны бикини объявил офф-шортными. А меня всё никак не назначают. Между тем лето уже кончается. А осенью я уж и сам не захочу.
Вот говорят, что гений всегда одинок. Гений, он ведь где — на вершине самой высокой горы, куда мы, обычные люди, не забредаем. Он туда всю жизнь карабкался. Вид, конечно, с этой вершины — закачаешься. Вот гений стоит и качается. Потому как на вершине ветер сильный, спрятаться некуда. От голода тоже качается — пока добирался, продукты все кончились. Да и одежонка вся поистрепалась дорогой. Но зато — вид. В мыслях и чувствах такое воспарение, что нам и в кошмарном сне не приснится. Но я не про гениев. Я про нас. Которые живут себе у поджопийножий в тёплом белье и с колбасой краковской. И вот, к примеру пойдёт такой обычный человек прогуляться. И совершенно нечаянно, без всякого умысла, а просто по недоразумению, может даже и пьяному, забредёт на вершину. Спьяну куда хочешь можно забраться. Что, спрашивается, он там забыл? Он же не гений никакой. И не леопард на вершине Килиманджаро. От ледяного ветра, от бездонного неба над больной головой начинает он с ужасом трезветь. Что ему этот вид? С такой высоты ни дачу свою, где-нибудь возле Звенигорода, ни новенькие «жигули» десятку, ни даже супругу, женщину монументальную, не разглядеть. А слезть-то отсюда как? Как же эту пропасть… И начинает он, как незабвенный отец Фёдор, кричать, чтоб его сняли. И даже колбасу отдать обещает. Да только не слышит его никто. А если б и слышал — кого теперь соблазнишь колбасой…
Так выпьем же за то, чтобы мы со своей колбасой… нет, не так. Чтобы, выпив, мы свою колбасу… или супругу… Короче говоря, если выпил — сиди тихо, не влезай, а то убьёт. А если уж выпил и залез, то не слезай, пока колбаса супруга… А до тех пор и думать не смей. Вон с неё вид-то какой, с супруги горы этой… Наслаждайся, пока тебя по-хорошему… Ишь, гений какой выискался. Женатый человек гением быть не может, потому что он не одинок. Ни одной минуты. Даже когда она спит. И нет такой горы, пусть даже и самой высокой, на которую от неё… Так выпьем напьёмся же…
Сдавал сегодня чертежи в производство. С этой конторой я уже давно сотрудничаю, поэтому сначала поговорили о разном, попили чаю, а потом уж и к делу приступили. Беседую я, значит, с начальником производства, солидным мужчиной в летах, этак за шестьдесят.
— А вот, Михаил Борисович, у вас здесь окошечко, а в нём прямой уголок. Давайте лучше мы его скруглим.
— Оно, конечно, можно, но зачем?
— Так ведь припиливать придётся вручную. А припиливает у нас слесарь. Живой, между прочим, человек. Когда он здоров и в хорошем настроении — он вам припилит так, что вы век благодарить будете, но когда он болен… особенно в понедельник утром или после получки… Должен вам сказать, что болеет он часто. Вы и представить себе не можете, сколько у него понедельников. Так что давайте лучше на станке, фрезой, радиусом полтора.
— А фрезеровщик… он здоров?
— Этот здоров. Если его слесарь не заразит, то здоров. Кстати, хотел у вас спросить — вы ведь химик? Нет ли у вас счётчика Гейгера ручного? Я бы купил.
— Нет, дозиметров не держим. Да и зачем он вам, в Москве-то? Не в Чернобыле, слава богу, живём.
— Не скажите. У меня раньше был. Я когда от жены уходил — забыл его, дурак. А он такие вещи интересные показывал..
— Что ж такого можно в квартире намерить?
— А вот что. По всей квартире фон — четырнадцать микрорентген. А возле моей бывшей, с какого боку к ней ни подкрадись, — семнадцать. И это не один год так продолжалось. Имею статистику. По годам.
Тут начальник производства посмотрел на меня поверх очков так, что я понял — ещё один неосторожный вопрос — и мне покажут таблицы, графики и даже формулы. А меня интересовала только стоимость моего заказа и сроки его исполнения. Я быстро перевёл разговор на эти темы, а потом и откланялся.
На ночь глядя позвонила дочь. Вся в растрёпанных чувствах. Поругалась с бойфрендом. Практически навсегда бросила телефонную трубку. Она б ему в голову бросила, но до другого конца провода, на котором он находился, по счастью, трудно было дотянуться. Начинаю осторожно спрашивать, что же случилось и можно ли «навсегда» заменить, к примеру, «навсегда до завтра». В крайнем случае, до послезавтра. Ребёнок, сквозь слезы, булькающие в трубке:
— Папа, он меня бесит… (Всхлип.) Бесит! (Два всхлипа.)
— Господи, да что ж такое у вас там стряслось-то?!
— Вовка… (трагический вздох) он… сказал, что гражданский кодекс написал не Наполеон… Я ему, идиоту, говорю, что… (всхлип) а он… Папа! Нет, ты скажи, скажи! Это же известно даже тем, у кого рак мозга! Ведь правда, пап! И вообще, он сказал, что Наполеон ничего не петрил в государственном устройстве и в конституционном праве… и после этого… да я его… я ему… умолять будет! Не дождётся! И ещё сказал, что Кант… что этот зануда… понимал в праве больше, чем Наполеон… Да плевать я на Канта хотела. Много он понимал, философ хренов. Сидел и сопли жевал в своем Кёнигсберге. Вместе с Вовкой. Два дурака. Я им покажу!
— И из-за Наполеона… Из-за Канта ты поругалась с Вовкой?!
— А ты, между прочим, тоже хорош! Кто посоветовал Вовке почитать Канта? Кто дал ему книжку?! Мне бы посоветовал, а я бы решила… Папа, он будет следователем. Следователем! Вот пусть и читает свой уголовный кодекс!
— Юля, так ведь ты тоже будешь следователем. Между нами говоря, Наполеон со своим гражданским кодексом тебе даже не однофамилец, не говоря о том, что не родственник. А вот Вовка может… Помирись, а?
— Ты мне его не защищай! Я с ним сама разберусь. Я тебе зачем звоню — чтоб ты меня воспитывал? Мне двадцать один год! Я уже на пятом курсе…
Давно это было. Ещё при советской власти. Занесло меня вместе с археологической экспедицией в Самаркандскую область. Про археологические подробности рассказывать не буду. Не специалист. Рассказ мой о другом.
В один из свободных от раскопок дней собрался я, по совету друзей, в близлежащий райцентр Иштыхан. Там был книжный магазин, в который почти не ступала нога умеющего читать по-русски человека. В то время как книголюб европейской части Советского Союза только что не отца родного был готов извести на макулатуру, чтобы получить талончик на приобретение какого-нибудь, прости господи, Дрюона, в среднеазиатской глубинке благодаря особенному устройству нашей плановой экономики пылились в магазинах самые дефицитные издания. Точно так же и в каком-нибудь местном сельпо можно было найти итальянские сапоги на невообразимой платформе или кожаные пальто с песцовыми и лисьими воротниками, на которые с изумлением взирали узбеки и узбечки в галошах на босу ногу и ватных халатах.
В тех краях я был в первый раз, поэтому одного меня не отпустили, а дали в провожатые молодого археолога Лизу, которая отработала здесь уже несколько полевых сезонов и за это время успела собрать неплохую библиотеку.
Втиснуться в автобус, идущий до Иштыхана, было непросто. Не всякая сельдь могла бы набиться в такую бочку. Мужчины, само собой, сидели. Женщины стояли, сидели на полу, нависали над мужчинами. Да, вот ещё что. Узбекские женщины, особенно в сельских районах, имеют обыкновение мыть волосы скисшим молоком. Говорят, это укрепляет корни и способствует росту волос. Не буду спорить. Насколько я мог заметить, волосы у узбечек такие, что их хоть ацетоном мой — всё равно будут густыми, чёрными и блестящими. Кстати, запах ацетона быстро выветривается, чего нельзя сказать о запахе непромытого кислого молока. В условиях замкнутого автобусного пространства и далеко не комнатной по нашим северным понятиям температуры этот запах мог свалить с ног даже слона, умудрись он просунуть свой любопытный хобот в этот автобус. Какая-то мамаша поила молоком ребёнка из бутылки с соской. Ребенок капризничал и пить не хотел. Приглядевшись, я увидел, что бутылка была из-под «Столичной». Может быть, смышлёное дитя чувствовало подмену?
Мы с Лизой протолкались к водителю, и я спросил его, сколько стоит проезд до Иштыхана. Водитель, не глядя на меня, пробурчал:
— Сколько не жалко. Копеек двадцать-сорок хватит.
Расплатились. Выдавать билеты в обмен на деньги здесь, по-видимому, было не принято. Впрочем, мы не настаивали. Не настаивали и остальные. После того как все вошедшие на нашей остановке оплатили свой проезд, водитель достал из своего кошелька горсть меди и высыпал её на вытертый жостовский поднос, точно хозяин зерно курицам. Поверх монет он украсил этот натюрморт небольшим количеством надорванных билетиков, которые достал из кондукторской сумки. Вся композиция называлась, как я потом догадался, «привет контролёрам на линии». Двери не закрылись, и мы поехали.
Через несколько минут мы обогнали девочку лет десяти, которая шла по обочине и гнала перед собой несколько овец. Девочка была одета в школьную форму и бывший когда-то белым фартук. Первое сентября закончилось больше месяца назад. Перехватив мой удивлённый взгляд, водитель сказал:
— А что ты думаешь? Конечно, праздник у неё. Думаешь, она так часто в школу ходит?
Потом помолчал и, как бы извиняясь за счастливое детство девочки-пастушки, сказал:
— Здесь вообще хорошо. Только летом жарко очень. А сейчас ничего.
В тот солнечный октябрьский день «ничего» равнялось тридцати трём градусам в тени.
Отправились мы, однако, в сторону, совершенно противоположную Иштыхану. Водитель пояснил:
— К брату заедем. Ты не беспокойся — тут недалеко. Поговорю, и поедем в твой Иштыхан.
Надо сказать, что кроме нас с Лизой, вообще никто не беспокоился о маршруте движения. Мужчины курили, женщины болтали, какой-то малец меланхолически жевал насвай[13] и непрерывно сплёвывал на пол изумрудного цвета слюну. За окном тянулись изнемогающие от осенней жары виноградники. Посетив родственников водителя, мы взяли курс на Иштыхан, в который через какой-нибудь час и приехали.
В Иштыхане мы отправились на Иштыханскую улицу. Именно так она и называлась. На ней находился вожделенный книжный магазин. Последний, к нашему огорчению, оказался закрыт. По расписанию он должен был работать, но… закрыт. К директору, который был по совместительству и продавцом, неделю назад приехали гости, и им никак не могли надоесть хозяева. Так нам объяснил проходивший мимо словоохотливый мужчина. Он же пообещал вызвать продавца на полчасика.
Вместо продавца пришла его жена, средних и полных лет дама в атласном платье такой расцветки, которая у пожарных называется «пожар высшей категории сложности». Приветливо поздоровавшись и узнав откуда мы, она улыбнулась и сказала:
— У нас вчера были ваши друзья.
— ?