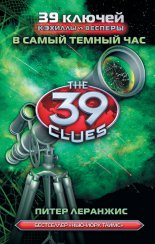Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания Гумилев Николай
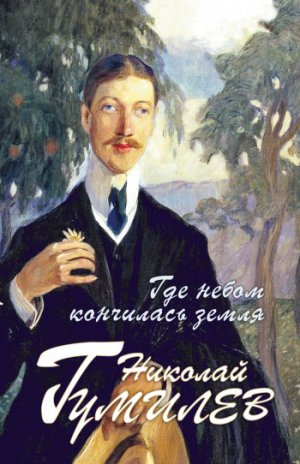
Но куда занятнее другое. Второй номер журнала, планировавшийся к выходу в августе и, как принято считать, не сохранившийся (выкупил ли его Гумилев из типографии, или журнал пошел под нож, либо распродан на оберточную бумагу за неуплату?), так бы и следовало считать навсегда утраченным, ибо основная часть тиража исчезла, словно растворилась, однако – не странность, и все же, – на этот второй, почти мифический номер в журнале «Аполлон» откликнулся рецензией М. Кузмин: «Г-же Любови Столице было угодно надеть доспехи древней «поляницы». Отчего же скучающей Людмиле не надеть и этого наряда? «Во всех ты, душенька, нарядах хороша».
На каждой странице «лукоморье», ширяет «растильчивый» «шелом» и т.д., всего не перечесть. Себя величает «исполинской девой», «богатыркой», «каменной бабой», но всегда мы видим барышню, вышедшую в поле и говорящую, какая она была «вся розовая», какие у нее были руки, глаза, волосы, – т.е. прием не только не совсем скромный, но далеко и не художественный.
Так и данный опыт маскарада может только рассматриваться как милый, несколько претенциозный женский каприз.
Гр. А. Толстой ни слова не говорит о том, какой он был солнечный, но подлинный восторг древнего или будущего солнца заражает при чтении его «Солнечных песен». Насколько нам известно, это первая вещь гр. Толстого в таком роде, за которой последовал ряд других, может быть, более совершенных, но в этом запеве так много подлинной пьяности, искренности, глубокого и наивного чувствования мифа, что он пленит любое сердце, воображение и ухо, не закрытые к солнечным русским чарам. Если мы вспомним А. Ремизова и С. Городецкого, то сейчас же отбросим эти имена по существенной разнице между ними и гр. Толстым.
Грань А. Ремизову, более выразившемуся поэту, – это несомненно книжное происхождение его вдохновений, а Городецкий действует совершенно различным приемом быстрого ритма, не дающего нам возможности разобрать, что мы слышим, и скрывающего смысл или часто отсутствие его. Здесь же каждое слово, образ полны самого настоящего значения, и не приходит в голову искать их происхожденья, что дает этой поэме необычайную убедительность.
Н. Гумилев дал изящный сонет, начинающийся с довольно рискованного утверждения: «Я попугай с Антильских островов…» Мил сонет и г-жи Дмитриевой. А. Блок и А. Белый дали кое-какие стихи, особенно первый. Есть стихи гг. Эльснера и Лившица. Но, безусловно, главным украшением книжки «Острова» нужно считать вещи С. Соловьева, высокого вкуса и безукоризненного мастерства. Особенно хорош «Отрок со свирелью».
Признаться, мне бы не хотелось встретить свою фамилию в критическом опусе такого рода. Впрочем, хорошо и то, что со слов рецензента можно узнать и состав журнала, и даже припомнить одну из гумилевских строк, да и звучит этот отклик едва ли не дифирамбом рядом с отзывом того же рецензента на книгу стихов Н. Животова с душераздирающим названием «Клочья нервов» (обе рецензии объединены в общем обзоре).
Деятельность Гумилева-редактора стала предметом и для злой пародии. Некогда учившийся с Гумилевым в одном классе Царскосельской гимназии Д. Коковцев вместе с соавтором (с кем – доподлинно неизвестно, поскольку вещь была подписана только инициалами) создали пьесу «Остов, или Академия на Глазовской улице», высмеяв таким образом и название журнала, и его редакцию, находившуюся именно на Глазовской улице, в квартире А.Н. Толстого, и даже саму «Академию», осененную именем Вяч. Иванова. В пьесе действовали поэт Гумми-Кот (несколько нарочито, но забавно), поэтесса Пуффи, Макс Калошин. Сергей Ерундецкий, Михаил Жасмин и другие. Узнать Гумилева, Тэффи, Волошина, Городецкого и Кузмина особого труда не представляло.
Поэт и по совместительству редактор журнала Гумми-Кот писал экзотические стихи, также легко узнаваемые.
- Сегодня особенно как-то умаслен твой кок
- И когти особенно длинны, вонзаясь в меня…
- В тени баобаба, призывною лаской звеня,
- Изысканный ждет носорог…
- Вдали он подобен бесформенной груде тряпья,
- И чресла ему украшают такие цветы,
- Которых в порыве экстаза не выдумал я,
- Увидев которые пала бы в обморок ты…
- Я знаю веселые сказки про страсть обезьян,
- Про двух англичанок, зажаренных хмурым вождем.
- Но в платье твоем я сегодня увидел изъян,
- Ты вымокла вся под холодным осенним дождем.
- И как я тебе расскажу про дымящихся мисс,
- Про то, как безумные негры плясали кэк-уок…
- Ты плачешь… Послушай! Где цепко лианы сплелись,
- Изысканный ждет носорог.
Сама пародия и вовсе не смешна, да и не обидна, поскольку бьет мимо цели. Как реагировал на пародию Гумилев, попалась ли ему на глаза газета «Царскосельское дело», где была напечатана пьеса, кто знает.
Если уж говорить об интеллектуальных играх, лучше обратить внимание на совсем иное. Достойно интереса, укрывшееся от взгляда исследователей, оборотничество: анаграммой названия журнала «Остров» является слово «востро», и это нельзя не учитывать, поскольку журнал делали стихотворцы, у которых слух настроен особым образом, такого рода созвучия они должны улавливать мгновенно. Но, представляется, заметил такого рода буквенную игру только Л. Бакст, автор эскиза обложки. То, как скомпоновано заглавие, – по-видимому, художник хотел передать такие понятия как «компактность», «слитность», «цельность», возникающие сразу же после упоминания слова «остров», – облегчает и движение глаза, благодаря компактности, слитности букв на листе, ведь и для анаграммы эти качества первостепенны. Само же слово «остров» в строке подвластно лишь глазу тренированному.
Что же, по-видимому, больше свободных денег – он дал на выкуп первого номера 200 рублей – у Н. Кругликова, брата известной художницы, не нашлось. А за отсутствием меценатов погиб не только второй номер журнала, но и сама идея его издания.
Молодых литераторов не всегда ожидают удачи. И тут бы следовало вернуться к воспоминаниям А.Н. Толстого и рассказать о судьбе другого гумилевского детища, поэтического журнала, преобразившегося в таковой из театральной афишки, вдруг судьба его сложилась иначе. Увы, это невозможно. Какими-то развернутыми сведениями о журнале, упомянутом мемуаристом, литературоведы покуда не обладают.
Но хотя опыт редакторствования не удался, Гумилев вскоре и не без успеха участвует в новом издательском начинании. Журнал «Аполлон», основанный художественным критиком С. Маковским, объединил вокруг себя людей в высшей степени одаренных. И сам выход первого номера журнала ознаменовал новый период в русском искусстве.
Началось же все с выставки, устроенной в начале 1909 года С. Маковским. Около сорока художников, среди которых были Н. Рерих, Л. Бакст и начинавшие тогда свой путь в живописи К. Петров-Водкин, В. Кандинский, М. Чюрлёнис, дали для экспозиции свои произведения.
Там-то, на вернисаже, и познакомился с Гумилевым С. Маковский, позднее вспоминавший: «Кто-то из писателей отрекомендовал его как автора «Романтических цветов». Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил, вместо «вчера» выходило у него – «вцера».
В следующий раз он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший второй томик моих «Страниц художественной критики»). Стихотворения показались мне довольно слабыми даже для ранней книжки. Однако за исключением одного – «Баллады»: оно поразило меня трагическим тоном, вовсе не вязавшимся с тем впечатлением, какое оставил автор сборника, этот белобрысый самоуверенно-подтянутый юноша (ему было 22 года)».
Первый номер журнала вышел 25 октября. К этому событию была приурочена и выставка художника Г. Лукомского.
Отмечали оба этих события широко. И. Гюнтер, немец, надолго застрявший на российских просторах и, со всей немецкой обстоятельностью, участвовавший в здешней художественной жизни, вспоминает: «Между прочим, открытие «Аполлона» было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об «Аполлоне» и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следовало, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать «Аполлон» от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего, я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержащую все, что надо было сказать. Я без устали повторял ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним – затем занавес опускается.
Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.
Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей «Риге», где утром Гумилев и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция была коллективно пьяна».
О том, какую роль играл в этой так называемой «молодая редакции» Гумилев, можно понять со слов С. Маковского: «Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков «Аполлона», с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился той серьезностью, с какой относился к стихам, вообще – к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был ценителем на редкость честным и независимым.
Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом, была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом. При этом – неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а «изрекал» их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных «дерзаниях» (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок)».
Обложка журнала «Остров»
Все перечисленное рождало у кое-кого ироническую усмешку, а в ком-то и отторжение. Вяч. Иванов утверждал, что Гумилев попросту глуп, необразован, мало начитан (не о таком ли отношении предупреждал В.Я. Брюсов, стараясь убедить Гумилева, что с Вяч. Ивановым не следует поддерживать близких отношений). Впоследствии Вяч. Иванов от большинства своих утверждений отказался, даже написал в каком-то предисловии, что Гумилев «наша погибшая великая надежда».
А тогда Гумилев был еще очень молод, и молодость эта сказывалась в том числе, и в поведении его, вполне юношеском. «…он не стриг волос по-солдатски под гребенку, а тщательно приглаживал густые светло-каштановые пряди. Бровей и тогда почти не было, но чуть прищуренные и косившие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо, обвораживали женщин, успех у начинающих поэтесс, его учениц, он имел несомненно. Принимал их раза два в неделю в «Аполлоне», в секретарской, рядом с моим редакционным кабинетом, когда отсутствовал М.Л. Лозинский (секретарь редакции); подчас я оказывался невольной преградой для его дон-жуанской предприимчивости…» – утверждал С. Маковский, и не без основания.
Рекламный плакат журнала «Аполлон»
Гумилев не был обделен приятелями, но все больше привлекала его личность И.Ф. Анненского. Общением с ним Гумилев дорожил, сохранилось, например, письмо с приглашением – Гумилев пишет, что у него дома соберутся литераторы, и все они хотят познакомиться с И.Ф. Анненским, так не согласится ли поэт посетить это собрание.
К весне 1909 года относится знакомство Гумилева с О. Мандельштамом, которое со временем перешло в крепкую дружбу. И недаром в письме, адресованном А. Ахматовой через несколько лет после смерти Гумилева, Мандельштам признается: «Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми – с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется…»
К весне же 1909 года относится и новая встреча Гумилева с Е. Дмитриевой. Поэтесса начинает бывать на «башне» у Вяч. Иванова. Сближению содействовала и общие занятия. Гумилев, который был не силен не только в старофранцузском языке, но и в обычном французском, попросил помочь в переводе старых французских песен. Е. Дмитриева тогда училась в университете, на романо-германском отделении.
Знакомство произошло на лекции в Академии художеств, Гумилева представили. «Он поехал меня провожать, – вспоминала Е. Дмитриева, – и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча», и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», – писал Н. С. в альбоме, подаренном мне.
Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. С.
Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство – желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе поехали в Коктебель».
О. Мандельштам. Фотография, 1910-е гг.
Е. Дмитриева. Фотография, 1910-е гг.
А в Коктебеле все изменилось, потому что там был М. Волошин, который, как вспоминала Е. Дмитриева, «казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем». И говорила еще, что М. Волошин, это «самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая».
Предстояло сделать выбор. Сам М. Волошин, предложив выбирать, предупредил – если Е. Дмитриева предпочтет Гумилева, то он, Волошин, будет ее презирать. И выбор был сделан.
Е. Дмитриева попросила Гумилева уехать, тот счел это капризом, но уехал. Е. Дмитриева и М. Волошин остались. Она потом говорила, что это были лучшие дни ее жизни. Еще она говорила, что «Капитаны», которые писал в Коктебеле Гумилев, были посвящены ей, что они обсуждали каждую строку.
С. Маковский назвал «Капитанов» стихами талантливыми, но «несколько трескучими», тем не менее, вспоминая Гумилева-поэта, в первую очередь вспоминают об этих стихах.
Капитаны
1
- На полярных морях и на южных,
- По изгибам зеленых зыбей,
- Меж базальтовых скал и жемчужных
- Шелестят паруса кораблей.
- Быстрокрылых ведут капитаны —
- Открыватели новых земель,
- Для кого не страшны ураганы,
- Кто изведал мальстремы и мель,
- Чья не пылью затерянных хартий, —
- Солью моря пропитана грудь,
- Кто иглой на разорванной карте
- Отмечает свой дерзостный путь
- И, взойдя на трепещущий мостик,
- Вспоминает покинутый порт,
- Отряхая ударами трости
- Клочья пены с высоких ботфорт,
- Или, бунт на борту обнаружив,
- Из-за пояса рвет пистолет,
- Так что сыплется золото с кружев,
- С розоватых брабантских манжет.
- Пусть безумствует море и хлещет,
- Гребни волн поднялись в небеса, —
- Ни один пред грозой не трепещет,
- Ни один не свернет паруса.
- Разве трусам даны эти руки,
- Этот острый, уверенный взгляд,
- Что умеет на вражьи фелуки
- Неожиданно бросить фрегат,
- Меткой пулей, острогой железной
- Настигать исполинских китов
- И приметить в ночи многозвездной
- Охранительный свет маяков?
2
- Вы все, паладины Зеленого Храма,
- Над пасмурным морем следившие румб,
- Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама,
- Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!
- Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
- Синдбад-Мореход и могучий Улисс,
- О ваших победах гремят в дифирамбе
- Седые валы, набегая на мыс!
- А вы, королевские псы, флибустьеры,
- Хранившие золото в темном порту,
- Скитальцы арабы, искатели веры
- И первые люди на первом плоту!
- И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
- Кому опостылели страны отцов,
- Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,
- Внимая заветам седых мудрецов!
- Как странно, как сладко входить в ваши грезы,
- Заветные ваши шептать имена
- И вдруг догадаться, какие наркозы
- Когда-то рождала для вас глубина!
- И кажется, в мире, как прежде, есть страны,
- Куда не ступала людская нога,
- Где в солнечных рощах живут великаны
- И светят в прозрачной воде жемчуга.
- С деревьев стекают душистые смолы,
- Узорные листья лепечут: «Скорей,
- Здесь реют червонного золота пчелы,
- Здесь розы краснее, чем пурпур царей!»
- И карлики с птицами спорят за гнезда,
- И нежен у девушек профиль лица…
- Как будто не все пересчитаны звезды,
- Как будто наш мир не открыт до конца!
3
- Только глянет сквозь утесы
- Королевский старый форт,
- Как веселые матросы
- Поспешат в знакомый порт.
- Там, хватив в таверне сидру,
- Речь ведет болтливый дед,
- Что сразить морскую гидру
- Может черный арбалет.
- Темнокожие мулатки
- И гадают и поют,
- И несется запах сладкий
- От готовящихся блюд.
- А в заплеванных тавернах
- От заката до утра
- Мечут ряд колод неверных
- Завитые шулера.
- Хорошо по докам порта
- И слоняться, и лежать,
- И с солдатами из форта
- Ночью драки затевать.
- Иль у знатных иностранок
- Дерзко выклянчить два су,
- Продавать им обезьянок
- С медным обручем в носу.
- А потом бледнеть от злости,
- Амулет зажать в полу,
- Все проигрывая в кости
- На затоптанном полу.
- Но смолкает зов дурмана,
- Пьяных слов бессвязный лет,
- Только рупор капитана
- Их к отплытью призовет.
4
- Но в мире есть иные области,
- Луной мучительной томимы,
- Для высшей силы, высшей доблести
- Они навек недостижимы.
- Там волны с блесками и всплесками
- Непрекращаемого танца,
- И там летит скачками резкими
- Корабль Летучего Голландца.
- Ни риф, ни мель ему не встретятся,
- Но, знак печали и несчастий,
- Огни святого Эльма светятся,
- Усеяв борт его и снасти.
- Сам капитан, скользя над бездною,
- За шляпу держится рукою,
- Окровавленной, но железною
- В штурвал вцепляется – другою.
- Как смерть, бледны его товарищи,
- У всех одна и та же дума, —
- Так смотрят трупы на пожарище
- Невыразимо и угрюмо.
- И если в час прозрачный, утренний
- Пловцы в морях его встречали,
- Их вечно мучил голос внутренний
- Слепым предвестием печали.
- Ватаге буйной и воинственной
- Так много сложено историй,
- Но всех страшней и всех таинственней
- Для смелых ценителей моря, —
- О том, что где-то есть окраина —
- Туда, за тропик Козерога! —
- Где капитана с ликом Каина
- Легла ужасная дорога.
Гумилев поехал не домой, а в Одессу, где, под Люстдорфом, отдыхала А. Горенко. Гумилев прожил там несколько дней, пытался уговорить девушку поехать вместе с ним в Африку. Потом он отправился в Царское Село.
Новые свои стихи он прочитал в доме И.Ф. Анненского, где был уже «своим человеком». Хозяину стихи, согласно воспоминаниям С. Маковского, который присутствовал при чтении, понравились. Гостеприимный дом этот, описанный С. Маковским, и не только им, был памятен многим литераторам: «Со времени отставки от директорства Иннокентий Анненский продолжал жить в Царском с семьей в им нанятом двухэтажном, выкрашенном в фисташковый цвет доме с небольшим садом. Первая комната прямо из сеней, просторная проходная гостиная (невысокий потолок, книжные этажерки, угловой диван, высоченные стенные часы с маятником и сипло гремящим каждые пятнадцать минут боем) выдавала свое «казенное» происхождение. В ней посетители задерживались редко, разве какое-нибудь литературное собрание. Направо была узкая темноватая столовая и очень светлый рабочий кабинет Анненского: полка во всю длину комнаты для томиков излюбленных авторов, фотографические учебные группы около бюста Эврипида. Напротив, перед письменным столом, в широкие окна глядели из палисадника тощие березки, кусты сирени и черемухи. Выше, по винтовой лесенке, обширная библиотека Анненского продолжалась в шкафных комнатах, среди которых была одна, «заветная», куда поэт мог уйти от гомона молодых гостей. По крайней мере, так я думал, замечая иногда «исчезновение» Иннокентия Федоровича и его возвращение, такое же внезапное, с лицом задумчиво-отсутствующим».
Никто и представить не мог, что И.Ф. Анненскому оставалось жить так мало, и что смерть его будет напрямую связана с мистификацией, которая потрясла весь художественный Петербург.
Невольный участник этого сложного, почти театрального действа, втянутый в его силовое поле, как, впрочем, поздней и другие, С. Маковский рассказывал: «В одно августовское утро пришло письмо, подписанное буквой «Ч», от неизвестной поэтессы, предлагавшей «Аполлону» стихи – приложено их было несколько на выбор. Стихи меня заинтересовали не столько рифмой, мало отличавшей их от того романтико-символического рифмотворчества, которое было в моде тогда, сколько автобиографическими полупризнаниями:
- И я умру в степях чужбины,
- Не разомкну проклятый круг,
- К чему так нежны кисти рук,
- Так тонко имя Черубины?
Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной. Впечатление заострялось и почерком, на редкость изящным, и запахом пряных духов, и засушенными травами «богородицыных слезок», которыми были переложены траурные листки. Адреса для ответа не было, но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным: никогда, кажется, не слышал я более обвораживающего голоса. Не менее привлекательна была и вся немного картавая, затушеванная речь: так разговаривают женщины очень кокетливые, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости.
Я обещал прочесть стихи и дать ответ после того, как посоветуюсь с членами редакции – к ним принадлежали в первую очередь И. Анненский, В. Иванов, М. Волошин, Н. Гумилев, М. Кузмин.
Промелькнуло несколько дней – опять письмо: та же траурная почтовая бумага и новые стихи, переложенные на этот раз другой травкой, не то диким овсом, не то метелкой. Вторая пачка стихов показалась мне еще любопытнее, и на них я обратил внимание моих друзей по журналу. Хвалили все хором, сразу решено было: печатать».
Все были очарованы таинственной поэтессой, через какое-то время все без изъятия были в нее влюблены. Но общение продолжалось только заочное. Черубина де Габриак, как она себя назвала, звонила ежедневно в редакцию и разговаривала по телефону с С. Маковским.
Почему эти искушенные в искусстве люди не заподозрили розыгрыша? Должно быть, слишком сильно они хотели поверить. Неужели в имени Черубина никто не расслышал отсылки к классическому пушкинскому эпиграфу: «Это возраст Керубино…», неужели никто не почувствовал, что стихи написаны вовсе не женской рукой. Точнее, стихи были и не написаны как бы, а сконструированы, точно выстроены.
В более поздние времена мистификации такого рода станут едва ли не нормой. Создаст поэтессу Анжелику Сафьянову стихотворец Л. Никулин, придумают свою поэтессу, напишут за нее стихи, с которыми она поступит в Литературный институт и даже окончит его, Б. Слуцкий и М. Кульчицкий. Других имен называть не буду, потому что это не столько имена, сколько фамилии, за ними не мифы, а реальные люди, выкупившие себе кусочек известности, за деньги ли, за какие иные блага.
Тогда все это было еще в новинку. И помыслить было невозможно, что прельстительная поэтесса Черубина де Габриак создана талантом М. Волошина при участии Е. Дмитриевой, к тому времени вернувшейся в Петербург из Коктебеля.
Гумилеву, может быть, и не было времени гадать – кто же эта загадочная поэтесса. Отношения его с Е. Дмитриевой становились все болезненней, он чувствовал обиду и горечь. Вот что вспоминала сама Е. Дмитриева: «Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за М. А. Почему я так мучила Н. С.? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого.
О, зачем они пришли и ушли в одно время! Наконец Н. С. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз – выходите за меня замуж». Я сказала: «Нет!» Он побледнел. «Ну, тогда Вы узнаете меня». Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на «Башне» говорил бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня».
Не совсем ясна роль в этой истории И. Гюнтера. Считается, что он умудрился предельно запутать ситуацию, пустить сплетню, которую Гумилев не посчитал нужным опровергать. Ему проще было с презрением подтвердить сказанное, вернее, не оправдываться, отводя от себя подозрения. Это вполне вероятно, и ситуация тогда отчасти похожа на ту, в какую попал Гумилев перед смертью. Он не счел возможным и нужным оправдываться, он с презрением подтвердил то, о чем его спрашивали.
В первый раз такое поведение привело его к дуэли, во второй раз – подвело под расстрел.
История вызова на дуэль, с различными подробностями, иногда вполне фантастическими, изложена разными авторами, убедительнее всего – из-за своих чисто художественных достоинств, простоты, изящества изложения – представляется версия С. Маковского: «Ближайшие сотрудники «Аполлона» часто навещали в те дни А.Я. Головина в его декоративной мастерской на самой вышке Мариинского театра. Головин собирался писать большой групповой портрет аполлоновцев: человек десять – двенадцать писателей и художников. Между ними, конечно, должны были фигурировать и Гумилев с Волошиным. Головин еще только присматривался к нам и мысленно рассаживал группой за столом.
Хозяин куда-то вышел. В ожидании его возвращения мы разбрелись попарно в его круглой поместительной «чердачной» мастерской, где ковром лежали на полу очередные декорации, помнится – к «Орфею» Глюка. Я прогуливался с Волошиным, Гумилев шел впереди с кем-то из писателей. Волошин казался взволнованным, не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не произнеся ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили – не допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом на тяжкое оскорбление.
Вызов на поединок произошел тут же. Секретарь редакции Евгений Александрович Зноско-Боровский (известный шахматист) согласился быть секундантом Гумилева.
– Вы недовольны мною? – спросил Волошин, заметив, что меня покоробила грубая расправа его с человеком, который до того считался ему приятелем.
– Вы слишком великолепны физически, Максимилиан Александрович, чтобы наносить удары с такой силой. В этих случаях достаточно ведь символического жеста…
Силач смутился, пробормотал сконфуженно:
– Да, я не соразмерил…»
О самих обстоятельствах дуэли мемуаристы рассказывают не без противоречий, по крайней мере, в деталях согласия у них нет. Но общая картина ясна. Пощечина Гумилеву была дана 19 ноября. Следующий день ушел на раздумье, а 21 ноября Е. Зноско-Боровский и М. Кузмин, секунданты со стороны Гумилева, ездили к М. Волошину, чтобы официально уведомить его о дуэли. Секундантами с его стороны стали А.Н. Толстой и А. Шервашидзе. Вообще из тех, кто прямо или косвенно имел отношение к этой дуэли, можно было бы сформировать в нынешних условиях целую художественную академию.
А.Н. Толстой, источник не слишком надежный, ибо в мемуарах его присутствуют иногда идеи истинно завиральные – видимо, граф уже тогда решил распрощаться с поприщем поэтическим и уйти в беллетристику, что ни говори, стихи не кормят, а пора было подумать о насущном хлебе с маслом – так вот, А.Н. Толстой рассказывает о дуэли следующее (пусть читатель не посетует на кое-какие несообразности, но не все же цитировать С. Маковского): «Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.
Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, – взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки».
На очередное предложение примириться Гумилев ответил, что он приехал не мириться, а драться. Согласно условиям, дуэлянты должны были стрелять одновременно. Гумилев выстрелил, но не попал. У М. Волошина была осечка. Гумилев потребовал, чтобы противник снова стрелял, но и во второй раз была осечка. Когда проверили пистолет, из которого стрелял М. Волошин, предположение об осечке полностью подтвердилось. Так распорядились обстоятельства. Гумилев второй раз в безоружного противника стрелять не стал. Дуэль была закончена. Но не закончилась сама история. Сведения о дуэли проникли в газеты, подробности газетчики указали не вполне верно, а некоторые мелкие частности, которые были понятны людям посвященным, указывали, что и сама ссора, и распространение сведений о последствиях лежат на совести противной стороны – Е. Дмитриевой и М. Волошина.
Дуэль резко переломила судьбу М. Волошина, ему пришлось оставить Петербург, больше его не принимали ни у Вяч. Иванова, ни у И.Ф. Анненского.
Примирение бывших противников, если это можно назвать примирением, произошло только в 1921 году. М. Волошин с женой жили тогда в Феодосии, и вот однажды им передали, что в порт пришел корабль, на борту которого находится какой-то петербургский поэт, и поэт этот спрашивал про М. Волошина. Супруги поспешили в порт. М. Волошин сразу узнал Гумилева и, решив, что давняя история давным-давно заслонена происходившими затем событиями, протянул Гумилеву руку, тот не отказался ее пожать. Корабль, сходни с которого были уже убраны, ушел. Это было последнее свидание М. Волошина и Гумилева.
По-своему расплатилась за всю эту историю и Е. Дмитриева. С Гумилевым ее отношения были разорваны, но были разорваны и с М. Волошиным: «Я не могла оставаться с М. А. В начале 1910 г. мы расстались, и я не видела его до 1917 г. (или до 1916-го?).
Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку.
А мне?! До самой смерти Н. С. я не могла читать его стихов, а если брала книгу – плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.
Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им, – он увел от меня и стихи и любовь…
И вот с тех пор я жила неживой, – шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое мое прикосновение было ядом.
Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли все: и я не смогла оставаться ни с кем.
Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: Стихи и Любовь.
И это была плата за боль, причиненную Н. С.: у меня навсегда были отняты и любовь и стихи.
Остались лишь призраки их».
Все, причастные к этой истории, так или иначе пострадали. Но И.Ф. Анненский, он-то за что расплачивался? А расплата была страшной.
По воспоминаниям А. Ахматовой, стихи И.Ф. Анненского отверг В.Я. Брюсов, не пожелал напечатать их в журнале «Весы», и С. Маковский решил в пику символистам опубликовать стихи И.Ф. Анненского в журнале «Аполлон». Поэт несказанно обрадовался, но С. Маковский неожиданно вместо него напечатал в этом номере журнала стихи Черубины де Габриак, которой тогда увлекался, как, впрочем, и все сотрудники редакции. Стихи И.Ф. Анненского не были отвергнуты, они были только отложены. А. Ахматова заключила свой рассказ: «…Анненский был ошеломлен и несчастен. Я видела потом его письмо к Маковскому; там есть такая строка: «Лучше об этом не думать». И одно его страшное стихотворение о тоске помечено тем же месяцем… И через несколько дней он упал и умер на Царскосельском вокзале…».
И.Ф. Анненский скончался 13 декабря 1909 года от сердечного приступа.
В журнале «Аполлон» был опубликован некролог, где говорилось о том, что творчество этого человека еще не оценено. Гумилев посвятил памяти И.Ф. Анненского стихотворение «Сады Семирамиды». Стихотворение было напечатано вслед за некрологом, без посвящения, которое появилось позднее (чуть изменено также было и название).
- Для первых властителей завиден мой жребий,
- И боги не так горды.
- Столпами из мрамора в пылающем небе
- Укрепились мои сады.
- Там рощи с цистернами для розовой влаги,
- Голубые, нежные мхи,
- Рабы и танцовщицы, и мудрые маги,
- Короли четырех стихий.
- Всё дурманит и радует, всё ясно и близко,
- Всё таит восторг тишины,
- Но каждою полночью так страшно и низко
- Наклоняется лик луны.
- И в сумрачном ужасе от лунного взгляда,
- От цепких лунных сетей,
- Мне хочется броситься из этого сада
- С высоты семисот локтей.
И все же, несмотря на дуэль и предшествующую ей историю, год заканчивался для Гумилева как нельзя лучше. В компании М. Кузмина, П. Потемкина и А.Н. Толстого приехал он в Киев, где должен был состояться литературный вечер «Остров искусств». Анна Горенко присутствовала в зале. После вечера Гумилев пригласил ее в гостиницу «Европейскую» выпить кофе. Она согласилась. Во время ее визита он вновь сделал ей предложение. Она согласилась и сейчас, будто не было долгих лет мучительных отношений и нескольких отказов.
В Киеве Гумилев провел три дня. Жили они с М. Кузминым у художницы А. Экстер. Киевские знакомства – а познакомился в эти дни Гумилев с О. Форш и Б. Лившицем – оказались не случайными, отношения с этими интересными и талантливыми людьми продолжались до самой смерти поэта, а в романе «Сумасшедший корабль» О. Форш среди прочих обитателей ДИСКа (то есть Дома искусств, о котором речь еще впереди) упоминала и Гумилева.
В последний день ноября товарищи проводили Гумилева в Одессу, оттуда 3 декабря он пароходом отправился в Африку. Впереди были Варна, Константинополь, Александрия, Каир, Порт-Саид, Джедда, Джибути, Харрар. Гумилев видел эти города, охотился, вел переписку. «Многоуважаемый и дорогой Вячеслав Иванович, – писал он Вяч. Иванову, – до последней минуты я надеялся получить Вашу телеграмму или хоть письмо, но, увы, нет ни того, ни другого. Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совсем утешен и чувствую себя прекрасно. Приветствую отсюда Академию Стиха. Сейчас пойду купаться, благо акулы здесь редки».
В начале января он отправился обратно в Россию. Вернувшись, на два дня заехал в Киев, чтобы повидать невесту. Привез два подаренных ему бокала из рога носорога, как вспоминала А. Ахматова. Привез он и новые впечатления, которые отразились потом в стихах.
Мне кажется, что впечатления от Африки были еще достаточно поверхностны, Гумилев видел ее, но не вполне почувствовал, недаром настоящие стихи об Африке будут им написаны позднее.
С впечатлениями, полученными в этот раз, куда созвучней стихи из сборника «Шатер», выпущенного в 1921 году. Гумилев хотел написать своеобразную «географию в стихах», а потому придавал значение внешнему, формальному, и вполне уместно поместить стихи из этого сборника не согласно хронологии, а здесь.
Обложка сборника «Шатер» (ревельское издание)
Из сборника «Шатер»
Вступленье
- Оглушенная ревом и топотом,
- Облеченная в пламень и дымы,
- О тебе, моя Африка, шепотом
- В небесах говорят серафимы.
- И, твое открывая Евангелье,
- Повесть жизни ужасной и чудной,
- О неопытном думают ангеле,
- Что приставлен к тебе, безрассудной.
- Про деянья свои и фантазии,
- Про звериную душу послушай,
- Ты, на дереве древнем Евразии
- Исполинской висящая грушей.
- Обреченный тебе, я поведаю
- О вождях в леопардовых шкурах,
- Что во мраке лесов за победою
- Водят воинов стройных и хмурых.
- О деревнях с кумирами древними,
- Что смеются усмешкой недоброй,
- И о львах, что стоят над деревнями
- И хвостом ударяют о ребра.
- Дай за это дорогу мне торную
- Там, где нету пути человеку,
- Дай назвать моим именем черную,
- До сих пор не открытую реку;
- И последнюю милость, с которою
- Отойду я в селенья святые:
- Дай скончаться под той сикоморою.
- Где с Христом отдыхала Мария.
Красное море
- Здравствуй, Красное Море, акулья уха,
- Негритянская ванна, песчаный котел,
- На твоих берегах вместо влажного мха
- Известняк, как чудовищный кактус, расцвел.
- На твоих островах в раскаленном песке,
- Позабытых приливом, растущим в ночи,
- Умирают страшилища моря в тоске:
- Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.
- С африканского берега сотни пирог
- Отплывают и жемчуга ищут вокруг,
- И стараются их отогнать на восток
- С аравийского берега сотни фелуг.
- Как учитель среди шалунов, иногда
- Океанский проходит средь них пароход.
- Под винтом снеговая клокочет вода,
- А на палубе – красные розы и лед.
- Ты бессильно над ним, пусть ревет ураган,
- Напухает волна за волной, как гора,
- Лишь и будет, что скажет, вздохнув, капитан:
- «Слава Богу, свежо, надоела жара!»
- Блещет воздух стеклянный, налитый огнем,
- И лучи его сыпятся, словно цветы,
- Море, Красное Море, ты царственно днем,
- Но ночами еще ослепительней ты.
- Только в небо скользнут водяные пары,
- Тени черных русалок мелькнут на волнах,
- Нам чужие созвездья, кресты, топоры
- Над тобой загорятся в небесных садах.
- Из лесистых ущелий приходят слоны,
- Чутко слушая волн набегающих гул,
- Обожать отраженье ущербной луны
- Подступают к воде и боятся акул.
- И когда выступает луна на зенит.
- Вихрь проносится, запахи моря тая,
- От Суэца до Бабель-Мандеба звенит,
- Как Эолова арфа, поверхность твоя.
- И ты помнишь, как, только одно из морей,
- Ты когда-то исполнило Божий закон,
- Ты раздвинуло цепкие руки зыбей,
- Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.
Египет
- Как картинка из книжки старинной,
- Услаждавшей мои вечера,
- Изумрудные эти равнины
- И раскидистых пальм веера.
- И каналы, каналы, каналы,
- Что несутся вдоль глиняных стен,
- Орошая Дамьетские скалы
- Розоватыми брызгами пен.
- И такие смешные верблюды
- С телом рыб и с головками змей,
- Словно дивные, древние чуда
- Из глубин пышноцветных морей.
- Вот каким ты увидишь Египет
- В час божественный трижды, когда
- Солнцем день человеческий выпит
- И, колдуя, струится вода.
- Это лик благосклонной Изиды
- Или пламя встающей луны?
- Неужели хотят пирамиды
- Посягнуть на покой вышины?
- Сфинкс улегся на страже святыни
- И с улыбкой глядит с высоты.
- Ожидая гостей из пустыни,
- О которых не ведаешь ты.
- Но довольно! Ужели ты хочешь
- Вечно жить средь минувших услад.
- И не рад ты сегодняшней ночи
- И сегодняшним звездам не рад?
- Не обломок старинного крипта,
- Под твоей зазвеневший ногой,
- Есть другая душа у Египта
- И торжественный праздник другой.
- Словно пестрая Фата-Моргана,
- Виден город, над городом свет;
- Над мечетью султана Гассана
- Протыкает луну минарет.
- На широких и тихих террасах
- Чешут женщины золото кос,
- Угощая подруг темноглазых
- Имбирем и вареньем из роз.
- Шейхи молятся, строги и хмуры,
- И лежит перед каждым Коран,
- Где персидские миниатюры,
- Словно бабочки сказочных стран.
- А поэты скандируют строфы,
- Развалившись на мягкой софе
- Пред кальяном и огненным кофе
- Вечерами в прохладных кафе.
- Здесь недаром страна сотворила
- Поговорку, прошедшую мир:
- – Кто испробовал воду из Нила,
- Будет вечно стремиться в Каир.
- Пусть хозяева здесь англичане,
- Пьют вино и играют в футбол,
- И калифа в высоком Диване
- Уж не властен святой произвол.
- Пусть, но истинный царь над страною
- Не араб и не белый, а тот,
- Кто с сохою или с бороною
- Черных буйволов в поле ведет.
- Пусть ютится он в доме из ила,
- Умирает, как звери, в лесах,
- Он – любимец священного Нила,
- И его современник – феллах.
- Для него ежегодно разливы
- Этих рыжих всклокоченных вод
- Затопляют богатые нивы,
- Где тройную он жатву берет.
- И его охраняют пороги
- Полосой острогрудых камней
- От внезапной, полночной тревоги.
- От коротких нубийских мечей.
- А ведь знает и коршун бессонный:
- Вся страна – это только река,
- Окруженная рамкой зеленой
- И второй: золотой, из песка.
- Если аист какой-нибудь близко
- Поселится на поле твоем,
- Напиши по-английски записку
- И ему привяжи под крылом.
- И весной, на листе эвкалипта,
- Если аист вернется назад,
- Ты получишь привет из Египта
- От веселых феллашских ребят.
Сахара
- Все пустыни от века друг другу родны,
- Но Аравия, Сирия, Гоби —
- Это лишь затиханье Сахарской волны,
- В сатанинской воспрянувшей злобе.
- Плещет Красное Море, Персидский Залив,
- И глубоки снега на Памире,
- Но ее океана песчаный разлив
- До зеленой доходит Сибири.
- Ни в прохладе лесов, ни в просторе морей,
- Ты в одной лишь пустыне на свете
- Не захочешь людей и не встретишь людей,
- А полюбишь лишь солнце да ветер.
- Солнце клонит лицо с голубой высоты,
- И лицо это девственно юно,
- И как струи пролитого солнца чисты
- Золотые песчаные дюны.
- Блещут скалы, темнеют под ними внизу
- Древних рек каменистые ложа.
- На покрытое волнами море в грозу,
- Ты промолвишь, Сахара похожа.
- Но вглядись, эта вечная слава песка
- Только горнего отсвет пожара.
- С небесами, где легкие спят облака,
- Бродят радуги, схожа Сахара.
- Буйный ветер в пустыне второй властелин,
- Вот он мчится порывами, точно
- Средь высоких холмов и широких долин
- Дорогой иноходец восточный.
- И чудовищных пальм вековые стволы.
- Стены праха поднялись и пухнут,
- Выгибаясь, качаясь, проходят средь мглы,
- Тайно веришь, вовеки не рухнут.
- Но мгновенье… отстанет и дрогнет одна
- И осядет песчаная груда,
- Это значит, в пути натолкнулась она
- На ревущего в страхе верблюда.
- И стоит караван, а его проводник
- Всюду посохом шарит в тревоге.
- Где-то около плещет знакомый родник,
- Но к нему он не знает дороги.
- А в оазисе слышится ржанье коня
- И разносится веянье нарда,
- Хоть редки острова в океане огня,
- Словно пятна на шкуре гепарда.
- Здесь так часто шумит оглушительный бой,
- Блещут копья и веют бурнусы:
- Туарегов, что западной правят страной,
- На востоке не любят тиббусы.
- И пока они бьются за пальмовый лес,
- За коня иль улыбку рабыни,
- Их родную Тибести, Мурзук, Гадамес
- Заметают пески из пустыни.
- Потому что пустынные ветры горды
- И не знают преград своеволью,
- Рушат стены, ломают деревья, пруды
- Засыпают белеющей солью.
- И, быть может, немного осталось веков,
- Как на мир наш зеленый и старый
- Жадно ринутся хищные стаи песков
- Из пылающей, юной Сахары.
- Средиземное Море засыпят они,
- И Париж, и Москву, и Афины,
- И мы будем в небесные верить огни,
- На верблюдах своих, бедуины.
- И когда наконец корабли марсиан
- У земного окажутся шара,
- То увидят сплошной золотой океан
- И дадут ему имя: Сахара.
Суэцкий канал
- Стаи дней и ночей
- Надо мной колдовали,
- Но не знаю светлей,
- Чем в Суэцком канале,
- Где идут корабли
- Не по морю, по лужам,
- Посредине земли
- Караваном верблюжьим.
- Сколько птиц, сколько птиц
- Здесь на каменных скатах,
- Голубых небылиц,
- Голенастых, зобатых!
- Виден ящериц рой
- Золотисто-зеленых,
- Словно влаги морской
- Стынут брызги на склонах.
- Мы кидаем плоды
- На ходу арапчатам,
- Что сидят у воды,
- Подражая пиратам.
- Арапчата орут
- Так задорно и звонко,
- И шипит марабут
- Нам проклятья вдогонку.
- А когда на пески
- Ночь, как коршун, посядет,
- Задрожат огоньки
- Впереди нас и сзади;
- Те красней, чем коралл,
- Эти зелены, сини…
- Водяной карнавал
- В африканской пустыне.
- С отдаленных холмов,
- Легким ветром гонимы,
- Бедуинских костров
- К нам доносятся дымы.
- С обвалившихся стен
- У изгибов канала
- Слышен хохот гиен,
- Завыванья шакала.
- И в ответ пароход,
- Звезды ночи печаля,
- Спящей Африке шлет
- Переливы рояля.
Судан
- Ах, наверно, сегодняшним утром
- Слишком громко звучат барабаны,
- Крокодильей обтянуты кожей,
- Слишком громко взывают колдуньи
- На утесах Нубийского Нила,
- Потому что сжимается сердце,
- Лоб горяч и глаза потемнели,
- И в мечтах оживленная пристань.
- Голоса загорелых матросов,
- В белой пене зеленое море,
- А за ним сикоморы Дарфура,
- Галереи – леса Кордофана
- И спокойные воды Борну.
- Города, озаренные солнцем,
- Словно клады в зеленых трущобах,
- А над ними, как черные руки,
- Минареты возносятся к небу;
- И на тронах из кости слоновой,
- Восседают, как дикие бреды,
- Короли и владыки Судана.
- Рядом с каждым прикованный цепью
- Лев прищурился, голову поднял,
- И с усов лижет кровь человечью.
- Рядом с каждым возносит секиру
- Черный, словно душа властелина,
- В ярко-красной одежде палач.
- Перед ними торговцы рабами
- Свой товар горделиво проводят,
- Стонут женщины в тяжких колодках,
- И зрачки их сверкают на солнце.
- Проезжают вожди из пустыни
- В драгоценных зеленых тюрбанах,
- Перья длинные страуса вьются
- Над затылком коней золотистых.
- И спокойно проходят французы,
- Гладко выбриты, в белой одежде,
- В их карманах бумаги с печатью,
- И пред ними владыки Судана
- Поднимаются с тронов своих.
Абиссиния
I
- Между берегом буйного Красного Моря
- И Суданским таинственным лесом видна,
- Разметавшись среди четырех плоскогорий,
- С отдыхающей львицею схожа страна.
- Север – это болото без дна и без края,
- Змеи черные подступы к ним стерегут.
- Их сестер, лихорадок, зловещая стая
- Желтолицая здесь обрела свой приют.
- А над ними нахмурились дикие горы,
- Вековая обитель разбоя, Тигрэ,
- Где оскалены бездны, взъерошены боры
- И вершины стоят в снеговом серебре.
- В плодоносной Амхаре и сеют и косят,
- Зебры любят мешаться в домашний табун
- И под вечер прохладные ветры разносят
- Звуки песен гортанных и рокоты струн.
- Абиссинец поет, и рыдает багана,
- Воскрешая минувшее, полное чар:
- Было время, когда перед озером Тана
- Королевской столицей взносился Гондар.
- Под платанами спорил о Боге ученый,
- Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом.
- Живописцы писали царя Соломона
- Меж царицею Савской и ласковым львом.
- Но, поверив шоанской искательной лести,
- Из старинной отчизны поэтов и роз
- Мудрый слон Абиссинии, Негус Негести,
- В каменистую Шоа свой трон перенес.
- В Шоа воины сильны, свирепы и грубы,
- Курят трубки и пьют опьяняющий тедж,
- Любят слышать одни барабаны и трубы,
- Мазать маслом ружье да оттачивать меч.
- Харраритов, галла, сомали, данакилей,
- Людоедов и карликов в чаще лесов
- Своему Менелику они покорили,
- Устелили дворец его шкурами львов.
- И, смотря на утесы у горных подножий,
- На дубы и огромных небес торжество,
- Европеец дивится, как странно похожи
- Друг на друга народ и отчизна его.
II
- Колдовская страна! – Ты на дне котловины,
- Задыхается, солнце палит с высоты,
- Над тобою разносится крик ястребиный,
- Но в сияньи заметишь ли ястреба ты?
- Пальмы, кактусы, в рост человеческий травы,
- Слишком много здесь этой паленой травы,
- Осторожнее! в ней притаились удавы,
- Притаились пантеры и рыжие львы.
- По обрывам и кручам дорогой тяжелой
- Поднимись, и нежданно увидишь вокруг
- Сикоморы и розы, веселые села
- И широкий, народом пестреющий луг.
- Здесь колдун совершает привычное чудо.
- Там, покорна напеву, танцует змея.
- Кто сто таллеров взял за больного верблюда,
- Сев на камне в тени, разбирает судья.
- Поднимись еще выше: какая прохлада!
- Словно позднею осенью пусты поля,
- На рассвете ручьи замерзают, и стадо
- Собирается в кучи под кровлей жилья.
- Павианы рычат средь кустов молочая,
- Перепачкавшись в белом и липком соку,
- Мчатся всадники, длинные копья бросая,
- Из винтовок стреляя на полном скаку.
- И повсюду вверху и внизу караваны
- Дышат солнцем и пьют неоглядный простор,
- Уходя в до сих пор не открытые страны
- За слоновою костью и золотом гор.
- Как любил я бродить по таким же дорогам,
- Видеть вечером звезды, как крупный горох,
- Выбегать на холмы за козлом длиннорогим,
- По ночам зарываться в седеющий мох.
- Есть музей этнографии в городе этом
- Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
- В час, когда я устану быть только поэтом,
- Ничего не найду я желанней его.
- Я хожу туда трогать дикарские вещи,
- Что когда-то я сам издалёка привез,
- Слышать запах их странный, родной и зловещий.
- Запах ладана, шерсти звериной и роз.
- И я вижу, как южное солнце пылает,
- Леопард, изогнувшись, ползет на врага,
- И как в хижине дымной меня поджидает
- Для веселой охоты мой старый слуга.
Галла
- Восемь дней из Харрара я вел караван
- Сквозь Черчерские дикие горы
- И седых на деревьях стрелял обезьян,
- Засыпал средь корней сикоморы.
- На девятую ночь я увидел с горы —
- Эту ночь никогда не забуду! —
- Там, далёко, в чуть видной равнине костры,
- Точно красные звезды, повсюду.
- И помчались одни за другими они,
- Словно тучи в сияющей сини,
- Ночи трижды святые и яркие дни
- На широкой галласской равнине.
- Всё, к чему приближался навстречу я тут,
- Было больше, чем видел я раньше,
- Я смотрел, как огромных верблюдов пасут
- У широких прудов великанши;
- Как саженного роста галласы, скача
- В леопардовых шкурах и львиных,
- Убегающих страусов рубят сплеча
- На горячих конях-исполинах;
- И как поят парным молоком старики
- Умирающих змей престарелых,
- И, мыча, от меня убегали быки,
- Никогда не видавшие белых.
- Вечерами я слышал у входа пещер
- Звуки песен и бой барабанов,
- И тогда мне казалось, что я Гулливер,
- Позабытый в стране великанов.
- И таинственный город, тропический Рим,
- Шейх-Гуссейн я увидел высокий,
- Поклонился мечети и пальмам святым,
- Был допущен пред очи пророка.
- Жирный негр восседал на персидских коврах,
- В полутемной, неубранной зале,
- Точно идол в браслетах, серьгах и перстнях,
- Лишь глаза его дивно сверкали.
- Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
- По плечу меня с лаской ударя,
- Я бельгийский ему подарил пистолет
- И портрет моего государя.
- Всё расспрашивал он, много ль знают о нем
- В отдаленной и дикой России,
- Вплоть до моря он славен своим колдовством,
- И дела его точно благие:
- Если мула в лесу ты не можешь найти
- Или раб убежал, беспокойный,
- Всё отыщешь ты, давши обет принести
- Шейх-Гуссейну подарок пристойный.
Сомалийский полуостров
- Помню ночь и песчаную помню страну
- И на небе так низко луну,
- И я помню, что глаз я не мог отвести
- От ее золотого пути.
- Там светло и, наверное, птицы поют
- И цветы над прудами цветут,
- Там не слышно, как бродят свирепые львы,
- Наполняя рыканием рвы,
- Не хватают мимозы колючей рукой
- Проходящего в бездне ночной.
- В этот вечер, лишь тени кустов поползли,
- Подходили ко мне сомали.
- Вождь их с рыжею шапкой косматых волос
- Смертный мне приговор произнес,
- И насмешливый взор из-под спущенных век
- Видел, сколько со мной человек.
- Завтра бой, беспощадный томительный бой,
- С завывающей черной толпой,
- Под ногами верблюдов сплетение тел,
- Дождь отравленных копий и стрел…
- И до боли я думал, что там, на луне,
- Враг не мог бы подкрасться ко мне.
- Ровно в полночь я мой разбудил караван,
- За холмом грохотал океан.
- Люди гибли в пучине, и мы на земле
- Тоже гибели ждали во мгле.
- Мы пустились в дорогу. Дышала трава,
- Точно шкура вспотевшего льва,
- И белели средь черных священных камней
- Вороха черепов и костей.
- В целой Африке нету грозней сомали,
- Безотраднее нет их земли,
- Сколько белых пронзило во мраке копье
- У песчаных колодцев ее,
- Но приходят они и сражаются тут,
- Умирают и снова идут.
- И когда, перед утром, склонилась луна,
- Уж не та, а страшна и красна,
- Понял я, что она, словно рыцарский щит,
- Вечной славой героям горит,
- И верблюдов велел положить, и ружью
- Вверил вольную душу мою.
Либерия
- Берег Верхней Гвинеи богат
- Медом, золотом, костью слоновой,
- За оградою каменных гряд
- Всё пришельцу нежданно и ново.
- По болотам блуждают огни,
- Черепаха грузнее утеса,
- Клювоносы таятся в тени
- Своего исполинского носа.
- В восемнадцатом веке сюда
- Лишь за деревом черным, рабами
- Из Америки плыли суда
- Под распущенными парусами.
- И сюда же на каменный скат
- Пароходов толпа быстроходных
- В девятнадцатом веке назад
- Привезла не рабов, а свободных.
- Видно, поняли нрав их земли
- Вашингтонские старые девы,
- Что такие плоды принесли
- Благонравных брошюрок посевы.
- Адвокаты, доценты наук,
- Пролетарии, нищие, воры,
- Все, что нужно в республике, вдруг
- С гиком ринулись в тихие горы.
- Расселились. Тропический лес,
- Утонувший в таинственном мраке,
- В сонм своих бесконечных чудес
- Принял дамские шляпы и фраки.
- – «Господин президент, ваш слуга!» —
- – Вы с поклоном промолвите быстро,
- Но взгляните, черней сапога
- Господин президент и министры.
- – «Вы сегодня бледней, чем всегда»,
- Позабывшись, вы скажете даме,
- И что дама ответит тогда,
- Догадайтесь, пожалуйста, сами.
- То повиснув на тонкой лозе,
- То скрываясь средь листьев узорных,
- В темной чаще живут шимпанзе
- По соседству от города черных.
- По утрам, услыхав с высоты
- Протестантское пенье во храме,
- Как в большой барабан, в животы
- Ударяют они кулаками.
- А когда загорятся огни,
- Внемля фразам вечерних приветствий,
- Тоже парами бродят они,
- Вместо тросточек выломав ветви.
- Европеец один уверял,
- Президентом за что-то обижен,
- Что большой шимпанзе потерял
- Путь назад средь окраинных хижин.
- Он не струсил, и, пестрым платком
- Подвязав свой живот волосатый,
- В президентский отправился дом,
- Президент отлучился куда-то.
- Там размахивал палкой своей,
- Бил посуду, шатался, как пьяный,
- И, не узнана, целых пять дней
- Управляла страной обезьяна.
Мадагаскар
- Сердце билось, смертно тоскуя.
- Целый день я бродил в тоске,
- И мне снилось ночью: плыву я
- По какой-то большой реке.
- С каждым мигом всё шире, шире
- И светлей, и светлей река,
- Я в совсем неведомом мире,
- И ладья моя так легка.
- Красный идол на белом камне
- Мне поведал разгадку чар,
- Красный идол на белом камне
- Громко крикнул: «Мадагаскар!»
- В раззолоченных паланкинах,
- В дивно вырезанных ладьях,
- На широких воловьих спинах
- И на звонко ржущих конях,
- Там, где пели и трепетали
- Легких тысячи лебедей,
- Друг за другом вслед выступали
- Смуглолицых толпы людей.
- И о том, как руки принцессы
- Домогался старый жених,
- Сочиняли смешные пьесы
- И сейчас же играли их.
- А в роскошной форме гусарской
- Благосклонно на них взирал
- Королевы мадагаскарской
- Самый преданный генерал.
- Между них быки Томатавы,
- Схожи с грудою темных камней,
- Пожирали жирные травы
- Благовоньем полных полей.
- И вздыхал я, зачем плыву я,
- Не останусь я здесь зачем:
- Неужель и здесь не спою я
- Самых лучших моих поэм?
- Только голос мой был неслышен,
- И никто мне не мог помочь,
- А на крыльях летучей мыши
- Опускалась теплая ночь.
- Небеса и лес потемнели,
- Смолкли лебеди в забытье…
- …Я лежал на моей постели
- И грустил о моей ладье.
Замбези
- Точно медь в самородном железе,
- Иглы пламени врезаны в ночь,
- Напухают валы на Замбези
- И уносятся с гиканьем прочь.
- Сквозь неистовство молнии белой
- Что-то видно над влажной скалой,
- Там могучее черное тело
- Налегло на топор боевой.
- Раздается гортанное пенье.
- Шар земной облетающих муз
- Непреложны повсюду веленья!..
- Он поет, этот воин-зулус:
- «Я дремал в заповедном краале
- И услышал рычание льва.
- Сердце сжалось от сладкой печали,
- Закружилась моя голова.
- Меч метнулся мне в руку, сверкая,
- Распахнулась таинственно дверь,
- И лежал предо мной издыхая
- Золотой и рыкающий зверь.
- И запели мне духи тумана:
- «Твой навек да прославится гнев!
- Ты достойный потомок Дингана,
- Разрушитель, убийца и лев!»
- С той поры я всегда наготове,
- По ночам мне не хочется спать,
- Много, много мне надобно крови,
- Чтобы жажду мою утолять.
- За большими как тучи горами,
- По болотам близ устья реки
- Я арабам, торговцам рабами,
- Выпускал ассагаем кишки.
- И спускался я к бурам в равнины
- Принести на просторы лесов
- Восемь ран, украшений мужчины,
- И одиннадцать вражьих голов.
- Тридцать лет я по лесу блуждаю,
- Не боюсь ни людей, ни огня,
- Ни богов… но что знаю, то знаю:
- Есть один, кто сильнее меня.
- Это слон в неизведанных чащах,
- Он, как я, одинок и велик
- И вонзает во всех проходящих
- Пожелтевший изломанный клык.
- Я мечтаю о нем беспрестанно,
- Я всегда его вижу во сне,
- Потому что мне духи тумана
- Рассказали об этом слоне.
- С ним борьба для меня бесполезна.
- Сердце знает, что буду убит,
- Распахнется небесная бездна
- И Динган, мой отец, закричит:
- «Да, ты не был трусливой собакой,
- Львом ты был между яростных львов,
- Так садись между мною и Чакой
- На скамье из людских черепов!»
Дамара. Готтентотская космогония
- Человеку грешно гордиться,
- Человека ничтожна сила,
- Над землею когда-то птица
- Человека сильней царила.
- По утрам выходила рано
- К берегам крутым океана
- И глотала целые скалы,
- Острова целиком глотала.
- А священными вечерами,
- Над багряными облаками
- Поднимая голову, пела,
- Пела Богу про Божье дело.
- А ногами чертила знаки,
- Те, что знают в подземном мраке,
- Всё, что будет, и всё, что было,
- На песке ногами чертила.
- И была она так прекрасна,
- Так чертила, пела согласно,
- Что решила с Богом сравниться
- Неразумная эта птица.
- Бог, который весь мир расчислил,
- Угадал ее злые мысли
- И обрек ее на несчастье,
- Разорвал ее на две части.
- И из верхней части, что пела,
- Пела Богу про Божье дело,
- Родились на свет готтентоты
- И поют, поют без заботы.
- А из нижней, чертившей знаки,
- Те, что знают в подземном мраке,
- Появились на свет бушмены,
- Украшают знаками стены.
- А те перья, что улетели
- Далеко в океан, доселе
- К нам плывут, как белые люди,
- И когда их довольно будет,
- Вновь срастутся былые части
- И опять изведают счастье,
- В белых перьях большая птица
- На своей земле воцарится.
Экваториальный лес
- Я поставил палатку на каменном склоне
- Абиссинских, сбегающих к западу гор
- И недели смотрел, как пылают закаты
- Над зеленою крышей далеких лесов.
- Прилетали оттуда какие-то птицы
- С изумрудными перьями в длинных хвостах,
- По ночам выбегали веселые зебры,
- Мне был слышен их храп и удар копыт.
- И однажды Закат был особенно красен,
- И особенный запах летел от лесов
- И к палатке моей подошел европеец,
- Исхудалый, небритый, и есть попросил.
- Вплоть до ночи он ел, неумело и жадно,
- Клал сардинки на мяса сухого ломоть,
- Как пилюли проглатывал кубики магги
- И в абсент добавлять отказался воды.
- Я спросил, почему он так мертвенно бледен,
- Почему его руки сухие дрожат,
- Как листы? – «Лихорадки великого леса», —
- Он ответил и с ужасом глянул назад.
- Я спросил про большую открытую рану,
- Что сквозь тряпки чернела на впалой груди,
- Что с ним было? – «Горилла великого леса»,
- Он сказал и не смел оглянуться назад.
- Был с ним карлик, мне по пояс, голый и черный.
- Мне казалось, что он не умел говорить,
- Точно пес, он сидел за своим господином.
- Положив на колени бульдожье лицо.
- Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку,
- Он оскалил ужасные зубы свои
- И потом целый час волновался и фыркал
- И раскрашенным дротиком бил по земле.
- Я постель предоставил усталому гостю,
- Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,
- Жадно слушая длинную, дикую повесть,
- Лихорадочный бред пришлеца из лесов.
- Он вздыхал: «Как темно! Этот лес бесконечен,
- Не увидеть нам солнца уже никогда!
- Пьер, дневник у тебя, на груди под рубашкой?
- Лучше жизнь потерять нам, чем этот дневник.
- Почему нас оставили черные люди?
- Горе! Компасы наши они унесли!
- Что нам делать? Не видно ни зверя, ни птицы.
- Только шорох и посвист вверху и внизу.
- Пьер, ты видишь костры? Там, наверное, люди!
- Неужели же мы наконец спасены?
- Это карлики… сколько их, сколько собралось…
- Пьер, стреляй! На костре человечья нога!
- В рукопашную! Помни, отравлены стрелы!
- Бей того, кто на пне, он кричит, он их вождь!
- Горе мне, на куски разлетелась винтовка…
- Ничего не могу… повалили меня.
- Нет, я жив, только связан! Злодеи, злодеи,
- Отпустите меня, я не в силах смотреть!
- Жарят Пьера, а мы с ним играли в Марселе,
- У веселого моря играли детьми.
- Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени?
- Я плюю на тебя, омерзительный зверь!
- Но ты лижешь мне руки, ты рвешь мои путы?
- Да, я понял, ты Богом считаешь меня.
- Ну бежим! Не бери человечьего мяса,
- Всемогущие боги его не едят.
- Лес! О лес бесконечный! Я голоден, Акка,
- Излови, если можешь, большую змею». —
- Он стонал, он хрипел, он хватался за сердце,
- А наутро, почудилось мне, задремал,
- Но когда я его разбудить попытался,
- Я увидел, что мухи ползли по глазам.
- Я его закопал у подножия пальмы,
- Крест поставил над грудой огромных камней.
- И простые слова написал на дощечке:
- «Христианин зарыт здесь, молитесь о нем».
- Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно.
- Но когда я закончил печальный обряд,
- Он вскочил и, не крикнув, помчался по склону,
- Как олень, убегая в родные леса.
- Через год я прочел во французских газетах,
- Я прочел и печально поник головой:
- Из большой экспедиции к Верхнему Конго
- До сих пор ни один не вернулся назад.
Дагомея
- Царь сказал своему полководцу: «Могучий,
- Ты велик, точно слон, повелитель лесов.
- Но ты все-таки ниже наваленной кучи
- Отсеченных тобой человечьих голов.
- Ожерелий, колец с дорогими камнями
- Я недавно отправил тебе караван.
- Но ты больше побед одержал над врагами,
- На груди твоей больше заслуженных ран.
- И как доблесть твоя, о единственный воин,
- Так и милость моя не имеет конца,
- Видишь, солнце над морем, иди, ты достоин
- Быть слугой моего золотого отца».
- Барабаны забили, защелкали бубны,
- Исступленные люди завыли вокруг,
- Амазонки запели протяжно, и трубный
- Прокатился по морю от берега звук.
- Полководец царю поклонился в молчаньи
- И с утеса в бурливое море скакнул,
- И тонул он в воде, а казалось, в сияньи
- Золотого закатного солнца тонул.
- Оглушали его барабаны и крики,
- Ослепляли соленые брызги волны,
- Он исчез, и светилось лицо у владыки,
- Словно черное солнце подземной страны.
Нигер
- Я на карте моей под ненужною сеткой
- Сочиненных для скуки долгот и широт
- Замечаю, как что-то чернеющей веткой,
- Виноградной оброненной веткой ползет.
- А вокруг города, точно горсть виноградин.
- Это – Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту,
- Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден,
- Точно бой барабанов, он будит мечту.
- Но не верю, не верю я, справлюсь по книге,
- Ведь должна же граница и тупости быть!
- Да, написано Нигер… О царственный Нигер,
- Вот как люди посмели тебя оскорбить!
- Ты торжественным морем течешь по Судану,
- Ты сражаешься с хищною стаей песков,
- И, когда приближаешься ты к океану,
- С середины твоей не видать берегов.
- Бегемотов твоих розоватые рыла
- Точно сваи незримого чудо-моста,
- И винты пароходов твои крокодилы
- Разбивают могучим ударом хвоста.
- Я тебе, о мой Нигер, готовлю другую,
- Небывалую карту, отраду для глаз,
- Я широкою лентой парчу золотую
- Положу на зеленый и нежный атлас.
- Снизу слева кровавые лягут рубины —
- Это край металлических странных богов.
- Кто зарыл их в угрюмых ущельях Бенины
- Меж слоновьих клыков и людских черепов?
- Дальше справа, где рощи густые Сокото,
- На атлас положу я большой изумруд, —
- Здесь богаты деревни, привольна охота,
- Здесь свободные люди, как птицы, поют.
- Дальше бледный опал, прихотливо мерцая
- Затаенным в нем красным и синим огнем,
- Мне так сладко напомнит равнины Сонгаи
- И султана сонгайского глиняный дом.
- И жемчужиной дивной, конечно, означен
- Будет город сияющих крыш, Тимбукту,
- Над которым и коршун кричит, озадачен,
- Видя в сердце пустыни мимозы в цвету,
- Видя девушек смуглых и гибких, как лозы,
- Чье дыханье пьяней бальзамических смол,
- И фонтаны в садах, и кровавые розы,
- Что венчают вождей поэтических школ.
- Сердце Африки пенья полно и пыланья,
- И я знаю, что, если мы видим порой
- Сны, которым найти не умеем названья,
- Это ветер приносит их, Африка, твой!
Поскольку строки из стихотворения «Галла»:
- Я бельгийский ему подарил пистолет
- И портрет моего государя, —
до сей поры вызывают споры, уместно будет поразмышлять – а был ли Гумилев монархистом, как привыкли о том говорить? Вернее, был ли он монархистом в том смысле, в котором это принято понимать? Мог ли он, человек, презиравший трусость, уважать человека, который во время коронационной процессии, то есть еще в самом начале своего царствования, проявил трусость – Николай II был необычайно бледен и боялся выезжать из окружения свиты, он боялся покушения. Таким его и запомнили простые обыватели, присутствовавшие на торжествах.
Что же до прочего, стоит прислушаться к словам Э. Голлербаха, свидетеля почти объективного: «Политические убеждения Н. С. не были мне известны, да я ими и не интересовался. Только после смерти его я узнал, что он склонялся к монархическому строю, но говорил шутя, что непременно хотел бы иметь императрицу, а не императора». Кажется, предельно ясно.
Но вернемся в начало 1910 года. Гумилев только приехал из Киева в Царское Село. 6 февраля скоропостижно умирает Степан Яковлевич Гумилев, отец. Похоронили его там же, в Царском Селе, на Кузминском кладбище. В конце февраля из Киева приезжает Анна Горенко. Со слов А. Ахматовой, этот эпизод записан П. Лукницким: «Случайно оказалась в одном вагоне с Мейерхольдом, Кузминым, Зноско и др. (ехали к Гумилеву), с которыми еще не была знакома. Гумилев встретил их на вокзале, предложил всем ехать прямо к нему, а сам направился на кладбище, на могилу И. Анненского. По возвращении домой познакомил АА со всеми присутствующими (не сказав, однако, что АА – его невеста. Он не был уверен, что свадьба не расстроится).
16 апреля выходит в свет сборник «Жемчуга», которому было предпослано посвящение В.Я. Брюсову.
Обложка сборника «Жемчуга»
Из сборника «Жемчуга»
Волшебная скрипка
Валерию Брюсову
- Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
- Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
- Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
- Что такое темный ужас начинателя игры!
- Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
- У того исчез навеки безмятежный свет очей,
- Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
- Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.
- Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
- Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
- И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
- И когда пылает запад, и когда горит восток.
- Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
- И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть —
- Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
- В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.
- Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось всё, что пело,
- В очи глянет запоздалый, но властительный испуг,
- И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
- И невеста зарыдает, и задумается друг.
- Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
- Но я вижу – ты смеешься, эти взоры – два луча.
- На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
- И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!
Одиночество
- Я спал, и смыла пена белая
- Меня с родного корабля,
- И в черных водах, помертвелая,
- Открылась мне моя земля.
- Она полна конями быстрыми
- И красным золотом пещер,
- Но ночью вспыхивают искрами
- Глаза блуждающих пантер.
- Там травы славятся узорами
- И реки словно зеркала,
- Но рощи полны мандрагорами —
- Цветами ужаса и зла.
- На синевато-белом мраморе
- Я высоко воздвиг маяк,
- Чтоб пробегающие на море
- Далеко видели мой стяг.
- Я предлагал им перья страуса,
- Плоды, коралловую нить,
- Но ни один стремленья паруса
- Не захотел остановить.
- Все чтили древнего оракула
- И приговор его суда
- О том, чтоб вечно сердце плакало
- У всех заброшенных сюда.
- И надо мною одиночество
- Возносит огненную плеть
- За то, что древнее пророчество
- Мне суждено преодолеть.
Камень
А.И. Гумилевой
- Взгляни, как злобно смотрит камень,
- В нем щели странно глубоки,
- Под мхом мерцает скрытый пламень;
- Не думай, то не светляки!
- Давно угрюмые друиды,
- Сибиллы хмурых королей,
- Отмстить какие-то обиды
- Его призвали из морей.
- Он вышел черный, вышел страшный,
- И вот лежит на берегу,
- А по ночам ломает башни
- И мстит случайному врагу.
- Летит пустынными полями,
- За куст приляжет, подождет,
- Сверкнет огнистыми щелями
- И снова бросится вперед.
- И редко кто бы мог увидеть
- Его ночной и тайный путь,
- Но берегись его обидеть,
- Случайно как-нибудь толкнуть.
- Он скроет жгучую обиду,
- Глухое бешенство угроз.
- Он промолчит и будет с виду
- Недвижен, как простой утес.
- Но где бы ты ни скрылся, спящий,
- Тебе его не обмануть,
- Тебя отыщет он, летящий,
- И дико ринется на грудь.
- И ты застонешь в изумленьи,
- Завидя блеск его огней,
- Заслыша шум его паденья
- И жалкий треск твоих костей.
- Горячей кровью пьяный, сытый,
- Лишь утром он оставит дом,
- И будет страшен труп забытый,
- Как пес, раздавленный быком.
- И, миновав поля и нивы,
- Вернется к берегу он вновь,
- Чтоб смыли верные приливы
- С него запекшуюся кровь.
Одержимый
- Луна плывет, как круглый щит
- Давно убитого героя,
- А сердце ноет и стучит,
- Уныло чуя роковое.
- Чрез дымный луг, и хмурый лес,
- И угрожающее море
- Бредет с копьем наперевес
- Мое чудовищное горе.
- Напрасно я спешу к коню,
- Хватаю с трепетом поводья
- И, обезумевший, гоню
- Его в ночные половодья.
- В болоте темном дикий бой
- Для всех останется неведом,
- И верх одержит надо мной
- Привыкший к сумрачным победам:
- Мне сразу в очи хлынет мгла…
- На полном, бешеном галопе
- Я буду выбит из седла
- И покачусь в ночные топи.
- Как будет страшен этот час!
- Я буду сжат доспехом тесным,
- И, как всегда, о coup de grace [1]
- Я возоплю пред неизвестным.
- Я угадаю шаг глухой
- В неверной мгле ночного дыма,
- Но, как всегда, передо мной
- Пройдет неведомое мимо…
- И утром встану я один,
- А девы, рады играм вешним,
- Шепнут: «Вот странный паладин
- С душой, измученной нездешним».
Поединок
- В твоем гербе невинность лилий,
- В моем – багряные цветы.
- И близок бой, рога завыли,
- Сверкнули золотом щиты.
- Идем, и каждый взгляд упорен,
- И ухо ловит каждый звук,
- И серебром жемчужных зерен
- Блистают перевязи рук.
- Я вызван был на поединок
- Под звоны бубнов и литавр
- Среди смеющихся тропинок,
- Как тигр в саду – угрюмый мавр.
- Ты – дева-воин песен давних,
- Тобой гордятся короли,
- Твое копье не знает равных
- В пределах моря и земли.
- Страшна борьба меж днем и ночью,
- Но Богом нам она дана,
- Чтоб люди видели воочью,
- Кому победа суждена.
- Клинки столкнулись, – отскочили,
- И войско в трепете глядит,
- Как мы схватились и застыли:
- Ты – гибкость стали, я – гранит.
- Меня слепит твой взгляд упорный,
- Твои сомкнутые уста,
- Я задыхаюсь в муке черной,
- И побеждает красота.
- Я пал… и, молнии победней,
- Сверкнул и в тело впился нож…
- Тебе восторг – мой стон последний,
- Моя прерывистая дрожь.
- И ты уходишь в славе ратной,
- Толпа поет тебе хвалы,
- Но ты воротишься обратно,
- Одна, в плаще весенней мглы.
- И под равниной дымно-белой
- Мерцая шлемом золотым,
- Найдешь мой труп окоченелый
- И снова склонишься над ним:
- «Люблю! О, помни это слово,
- Я сохраню его всегда,
- Тебя убила я живого,
- Но не забуду никогда».
- Лучи, сокройтеся назад вы…
- Но заалела пена рек,
- Уходишь ты, с тобою клятвы,
- Ненарушимые вовек.
- Еще не умер звук рыданий,
- Еще шуршит твой белый шелк,
- А уж ко мне ползет в тумане
- Нетерпеливо-жадный волк.
В пустыне
- Давно вода в мехах иссякла,
- Но, как собака, не умру:
- Я в память дивного Геракла
- Сперва отдам себя костру.
- И пусть, пылая, жалят сучья,
- Грозит чернеющий Эреб,
- Какое странное созвучье
- У двух враждующих судеб!
- Он был героем, я – бродягой,
- Он – полубог, я – полузверь,
- Но с одинаковой отвагой
- Стучим мы в замкнутую дверь.
- Пред смертью все, Терсит и Гектор,
- Равно ничтожны и славны,
- Я также выпью сладкий нектар
- В полях лазоревой страны.
Основатели
- Ромул и Рем взошли на гору,
- Холм перед ними был глух и нем;
- Ромул сказал: «Здесь будет город».
- «Город, как солнце», – ответил Рем.
- Ромул сказал: «Волей созвездий
- Мы обрели наш древний почет».
- Рем отвечал: «Что было прежде,
- Надо забыть, глянем вперед».
- «Здесь будет цирк, – промолвил Ромул, —
- Здесь будет дом наш, открытый всем».
- «Но надо поставить ближе к дому
- Могильные склепы», – ответил Рем.
Выбор
- Созидающий башню сорвется,
- Будет страшен стремительный лёт,
- И на дне мирового колодца
- Он безумье свое проклянет.
- Разрушающий будет раздавлен,
- Опрокинут обломками плит,
- И, Всевидящим Богом оставлен,
- Он о муке своей возопит.
- А ушедший в ночные пещеры
- Или к заводям тихой реки
- Повстречает свирепой пантеры
- Наводящие ужас зрачки.
- Не спасешься от доли кровавой,
- Что земным предназначила твердь.
- Но молчи: несравненное право —
- Самому выбирать свою смерть.
Лесной пожар
- Ветер гонит тучу дыма,
- Словно грузного коня,
- Вслед за ним неумолимо
- Встало зарево огня.
- Только в редкие просветы
- Темно-бурых тополей
- Видно розовые светы
- Обезумевших полей.
- Ярко вспыхивает маис
- С острым запахом смолы,
- И, шипя и разгораясь,
- В пламя падают стволы.
- Резкий грохот, тяжкий топот,
- Вой, мычанье, визг и рев,
- И зловеще-тихий ропот
- Закипающих ручьев.
- Вон несется слон-пустынник,
- Лев стремительно бежит,
- Обезьяна держит финик
- И пронзительно визжит.
- С вепрем стиснутый бок о бок,
- Легкий волк, душа ловитв,
- Зубы белы, взор не робок —
- Только время не для битв.
- А за ними в дымных пущах
- Льется новая волна
- Опаленных и ревущих…
- Как назвать их имена?
- Словно там, под сводом ада,
- Дьявол щелкает бичом,
- Чтобы грешников громада
- Вышла бешеным смерчом.
- Все страшней в ночи бессонной,
- Все быстрее дикий бег,
- И, огнями ослепленный,
- Черной кровью обагренный,
- Первым гибнет человек.
Царица
- Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
- Как сталь глаза твои остры,
- Тебе задумчивые бонзы
- В Тибете ставили костры.
- Когда Тимур в унылой злобе
- Народы бросил к их мете,
- Тебя несли в пустынях Гоби
- На боевом его щите.
- И ты вступила в крепость Агры,
- Светла, как древняя Лилит,
- Твои веселые онагры
- Звенели золотом копыт.
- Был вечер тих. Земля молчала,
- Едва вздыхали цветники,
- Да от зеленого канала,
- Взлетая, реяли жуки.
- И я следил в тени колонны
- Черты алмазного лица
- И ждал, коленопреклонённый,
- В одежде розовой жреца.
- Узорный лук в дугу был согнут,
- И, вольность древнюю любя,
- Я знал, что мускулы не дрогнут
- И остриё найдет тебя.
- Тогда бы вспыхнуло былое:
- Князей торжественный приход,
- И пляски в зарослях алоэ,
- И дни веселые охот.
- Но рот твой, вырезанный строго,
- Таил такую смену мук,
- Что я в тебе увидел Бога
- И робко выронил свой лук.
- Толпа рабов ко мне метнулась,
- Теснясь, волнуясь и крича,
- И ты лениво улыбнулась
- Стальной секире палача.
Товарищ
В. Ю. Эльснеру
- Что-то подходит близко, верно,
- Холод томящий в грудь проник,
- Каждою ночью в тьме безмерной
- Я вижу милый, странный лик.
- Старый товарищ, древний ловчий,
- Снова встаешь ты с ночного дна,
- Тигра смелее, барса ловче,
- Сильнее грузного слона.
- Помню, все помню; как забуду
- Рыжие кудри, крепость рук,
- Меч твой, вносивший гибель всюду,
- Из рога турьего твой лук?
- Помню и волка; с нами в мире
- Вместе бродил он, вместе спал,
- Вечером я играл на лире,
- А он тихонько подвывал.
- Что же случилось? Чьею властью
- Вытоптан был наш дикий сад?
- Раненый коршун, темной страстью
- Товарищ дивный был объят.
- Спутанно помню – кровь повсюду,
- Душу гнетущий мертвый страх,
- Ночь, и героев павших груду,
- И труп товарища в волнах.
- Что же теперь, сквозь ряд столетий,
- Выступил ты из смертных чащ,
- В смуглых ладонях лук и сети
- И на плечах багряный плащ?
- Сладостной верю я надежде,
- Лгать не умеют сердцу сны,
- Скоро пройду с тобой, как прежде,
- В полях неведомой страны.
В пути
- Кончено время игры,
- Дважды цветам не цвести.
- Тень от гигантской горы
- Пала на нашем пути.
- Область унынья и слез —
- Скалы с обеих сторон
- И оголенный утес,
- Где распростерся дракон.
- Острый хребет его крут,
- Вздох его – огненный смерч.
- Люди его назовут
- Сумрачным именем: Смерть.
- Что ж, обратиться нам вспять,
- Вспять повернуть корабли,
- Чтобы опять испытать
- Древнюю скудость земли?
- Нет, ни за что, ни за что!
- Значит, настала пора.
- Лучше слепое Ничто,
- Чем золотое Вчера!
- Вынем же меч-кладенец,
- Дар благосклонных наяд,
- Чтоб обрести, наконец,
- Неотцветающий сад.
Адам
- Адам, униженный Адам,
- Твой бледен лик и взор твой бешен,
- Скорбишь ли ты по тем плодам,
- Что ты срывал, еще безгрешен?
- Скорбишь ли ты о той поре,
- Когда, еще ребенок-дева,
- В душистый полдень на горе
- Перед тобой плясала Ева?
- Теперь ты знаешь тяжкий труд
- И дуновенье смерти грозной,
- Ты знаешь бешенство минут,
- Припоминая слово «поздно».
- И боль жестокую, и стыд
- Неутолимый и бесстрастный,
- Который медленно томит,
- Который мучит сладострастно.
- Ты был в раю, но ты был царь,
- И честь была тебе порукой,
- За счастье, вспыхнувшее встарь,
- Надменный втрое платит мукой.
- За то, что не был ты как труп,
- Горел, искал и был обманут,
- В высоком небе хоры труб
- Тебе греметь не перестанут.
- В суровой доле будь упрям,
- Будь хмурым, бледным и согбенным,
- Но не скорби по тем плодам,
- Неискупленным и презренным.
Воин Агамемнона
- Смутную душу мою тяготит
- Странный и страшный вопрос:
- Можно ли жить, если умер Атрид,
- Умер на ложе из роз?
- Все, что нам снилось всегда и везде,
- Наше желанье и страх,
- Все отражалось, как в чистой воде,
- В этих спокойных очах.
- В мышцах жила несказанная мощь,
- Сказка – в изгибе колен,
- Был он прекрасен, как облако, – вождь
- Золотоносных Микен.
- Что я? Обломок старинных обид,
- Дротик, упавший в траву.
- Умер водитель народов, Атрид, —
- Я же, ничтожный, живу.
- Манит прозрачность глубоких озер,
- Смотрит с укором заря,
- Тягостен, тягостен этот позор, —
- Жить, потерявши царя!
Варвары
- Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
- И варвары в город вошли молчаливой толпою,
- На площади людной царица поставила ложе,
- Суровых врагов ожидала царица нагою.
- Трубили герольды. По ветру стремились знамёна,
- Как листья осенние, прелые, бурые листья.
- Роскошные груды восточных шелков и виссона
- С краев украшали литые из золота кисти.
- Царица была – как пантера суровых безлюдий,
- С глазами – провалами темного, дикого счастья.
- Под сеткой жемчужной вздымались дрожащие груди,
- На смуглых руках и ногах трепетали запястья.
- И зов ее мчался, как звоны серебряной лютни:
- «Спешите, герои, несущие луки и пращи!
- Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней,
- Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще.
- Спешите, герои, окованы медью и сталью,
- Пусть в бедное тело вопьются свирепые гвозди,
- И бешенством ваши нальются сердца и печалью
- И будут красней виноградных пурпуровых гроздий.
- Давно я ждала вас, могучие, грубые люди,
- Мечтала, любуясь на зарево ваших становищ.
- Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди,
- Герольд протрубит – не щадите заветных сокровищ».
- Серебряный рог, изукрашенный костью слоновьей,
- На бронзовом блюде рабы протянули герольду,
- Но варвары севера хмурили гордые брови,
- Они вспоминали скитанья по снегу и по льду.
- Они вспоминали холодное небо и дюны,
- В зеленых трущобах веселые щебеты птичьи,
- И царственно-синие женские взоры… и струны,
- Которыми скальды гремели о женском величьи.
- Кипела, сверкала народом широкая площадь,
- И южное небо раскрыло свой огненный веер,
- Но хмурый начальник сдержал опенённую лошадь,
- С надменной усмешкой войска повернул он на север.
* * *
- В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы,
- Как воры ночью в тихий мрак предместий,
- Как коршуны, зловещи и угрюмы,
- Они, столпившись, требовали мести.
- Я был один. Мечты мои бежали,
- Мои глаза раскрылись от волненья,
- И я читал на призрачной скрижали
- Мои слова, дела и преступленья.
- За то, что я холодными глазами
- Смотрел на игры смелых и победных,
- За то, что я кровавыми устами
- Касался уст, трепещущих и бледных,
- За то, что эти руки, эти пальцы
- Не знали плуга, были слишком стройны,
- За то, что песни, вечные скитальцы,
- Обманывали, были беспокойны, —
- За все теперь настало время мести,
- Мой лживый, нежный храм слепцы разрушат,
- И думы, воры в тишине предместий,
- Как нищего во мгле, меня задушат.
Театр
- Все мы, святые и воры,
- Из алтаря и острога,
- Все мы – смешные актеры
- В театре Господа Бога.
- Бог восседает на троне,
- Смотрит, смеясь, на подмостки,
- Звезды на пышном хитоне —
- Позолоченные блестки.
- Так хорошо и привольно
- В ложе предвечного света.
- Дева Мария довольна,
- Смотрит, склоняясь, в либретто:
- «Гамлет? Он должен быть бледным.
- Каин? Тот должен быть грубым…»
- Зрители внемлют победным
- Солнечным, ангельским трубам.
- Бог, наклонясь, наблюдает.
- К пьесе он полон участья.
- Жаль, если Каин рыдает,
- Гамлет изведает счастье!
- Так не должно быть по плану!
- Чтобы блюсти упущенья,
- Боли, глухому титану,
- Вверил он ход представленья.
- Боль вознеслася горою,
- Хитрой раскинулась сетью,
- Всех, утомленных игрою,
- Хлещет кровавою плетью.
- Множатся пытки и казни…
- И возрастает тревога:
- Что, коль не кончится праздник
- В театре Господа Бога?!
Потомки Каина
- Он не солгал нам, дух печально-строгий,
- Принявший имя утренней звезды,
- Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,
- Вкусите плод и будете, как боги».
- Для юношей открылись все дороги,
- Для старцев – все запретные труды,
- Для девушек – янтарные плоды
- И белые, как снег, единороги.
- Но почему мы клонимся без сил,
- Нам кажется, что Кто-то нас забыл,
- Нам ясен ужас древнего соблазна,
- Когда случайно чья-нибудь рука
- Две жердочки, две травки, два древка
- Соединит на миг крестообразно?
Дон Жуан
- Моя мечта надменна и проста:
- Схватить весло, поставить ногу в стремя
- И обмануть медлительное время,
- Всегда лобзая новые уста;
- А в старости принять завет Христа,
- Потупить взор, посыпать пеплом темя
- И взять на грудь спасающее бремя
- Тяжелого железного креста!
- И лишь когда средь оргии победной
- Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,
- Испуганный в тиши своих путей,
- Я вспоминаю, что, ненужный атом,
- Я не имел от женщины детей
- И никогда не звал мужчину братом.
Попугай
Сонет
- Я – попугай с Антильских островов,
- Но я живу в квадратной келье мага,
- Вокруг реторты, глобусы, бумага,
- И кашель старика, и бой часов.
- Пусть в час заклятий, в вихре голосов
- И в блеске глаз мерцающих, как шпага,
- Ерошат крылья ужас и отвага
- И я сражаюсь с призраками сов…
- Пусть! Но едва под этот свод унылый
- Войдет гадать о картах иль о милой
- Распутник в раззолоченном плаще, —
- Мне грезится корабль в тиши залива,
- Я вспоминаю солнце… и вотще
- Стремлюсь забыть, что тайна некрасива.
Сон Адама
- От плясок и песен усталый Адам
- Заснул, неразумный, у Древа Познанья,
- Над ним ослепительных звезд трепетанья,
- Лиловые тени скользят по лугам,
- И дух его сонный летит над лугами,
- Внезапно настигнут зловещими снами.
- Он видит пылающий ангельский меч,
- Что жалит нещадно его и подругу
- И гонит из рая в суровую вьюгу,
- Где нечем прикрыть им ни бедер, ни плеч…
- Как звери, должны они строить жилище,
- Пращой и дубиной искать себе пищи.
- Обитель труда и болезней… но здесь
- Впервые постиг он с подругой единство,
- Подруге – блаженство и боль материнства,
- И заступ ему, чтобы вскапывать весь,
- Служеньем Иному прекрасны и грубы,
- Нахмурены брови и стиснуты губы.
- Вот новые люди… очерчен их рот,
- Их взоры не блещут, и смех их случаен,
- За вепрями сильный охотится Каин,
- И Авель сбирает маслины и мед,
- Но воле не служат они патриаршей,
- Пал младший, и в ужасе кроется старший.
- И многое видит смущенный Адам:
- Он тонет душою в распутстве и неге,
- Он ищет спасенья в надежном ковчеге
- И строится снова, суров и упрям,
- Медлительный пахарь, и воин, и всадник…
- Но Бог охраняет его виноградник.
- На бурный поток наложил он узду,
- Бессонною мыслью постиг равновесье,
- Как ястреб, врезается он в поднебесье,
- У косной земли отнимает руду,
- Покорны и тихи, хранят ему книги
- Напевы поэтов и тайны религий.
- И в ночь волхований на пышные мхи
- К нему для объятий нисходят сильфиды,
- К услугам его отомщать за обиды
- И звездные духи, и духи стихий,
- И к солнечным скалам из грозной пучины
- Влекут его челн голубые дельфины.
- Он любит забавы опасной игры —
- Искать в океанах безвестные страны,
- Ступать безрассудно на волчьи поляны
- И видеть равнину с высокой горы,
- Где с узких тропинок срываются козы
- И душные, красные клонятся розы.
- Он любит и скрежет стального резца,
- Дробящего глыбистый мрамор для статуй,
- И девственный холод зари розоватой,
- И нежный овал молодого лица, —
- Когда на холсте под ударами кисти
- Ложатся они и светлей и лучистей.
- Устанет и к небу возводит свой взор,
- Слепой и кощунственный взор человека,
- Там, Богом раскинут от века до века,
- Мерцает над ним многозвездный шатер,
- Святыми ночами, спокойный и строгий,
- Он клонит колена и грезит о Боге.
- Он новые мысли, как светлых гостей,
- Всегда ожидает из розовой дали,
- А с ними, как новые звезды, – печали
- Еще неизведанных дум и страстей,
- Провалы в мечтаньях и ужас в искусстве,
- Чтоб сердце болело от тяжких предчувствий.
- И кроткая Ева, игрушка богов,
- Когда-то ребенок, когда-то зарница,
- Теперь для него молодая тигрица,
- В зловещем мерцанье ее жемчугов,
- Предвестница бури, и крови, и страсти,
- И радостей злобных, и хмурых несчастий.
- Так золото манит и радует взгляд,
- Но в золоте темные силы таятся,
- Они управляют рукой святотатца
- И в братские кубки вливают свой яд,
- Не в силах насытить, смеются и мучат
- И стонам и крикам неистовым учат.
- Он борется с нею. Коварный, как змей,
- Ее он опутал сетями соблазна,
- Вот Ева блудница, лепечет бессвязно,
- Вот Ева святая с печалью очей,
- То лунная дева, то дева земная,
- Но вечно и всюду чужая, чужая.
- И он, наконец, беспредельно устал,
- Устал и смеяться и плакать без цели,
- Как лебеди, стаи веков пролетели,
- Играли и пели, он их не слыхал,
- Спокойный и строгий на мраморных скалах,
- Он молится Смерти, богине усталых:
- «Узнай, Благодатная, волю мою,
- На степи земные, на море земное,
- На скорбное сердце мое заревое
- Пролей смертоносную влагу свою,
- Довольно бороться с безумьем и страхом,
- Рожденный из праха, да буду я прахом!»
- И, медленно рея багровым хвостом,
- Помчалась к земле голубая комета,
- И страшно Адаму, и больно от света,
- И рвет ему мозг нескончаемый гром,
- Вот огненный смерч перед ним закрутился,
- Он дрогнул и крикнул… и вдруг пробудился.
- Направо сверкает и пенится Тигр,
- Налево – зеленые воды Ефрата,
- Долина серебряным блеском объята,
- Тенистые отмели манят для игр,
- И Ева кричит из весеннего сада —
- «Ты спал и проснулся… я рада, я рада».
Завещанье
- Очарован соблазнами жизни,
- Не хочу я растаять во мгле,
- Не хочу я вернуться к отчизне,
- К усыпляющей мертвой земле.
- Пусть высоко на розовой влаге
- Вечереющих горных озер
- Молодые и строгие маги
- Кипарисовый сложат костер.
- И покорно, склоняясь, положат
- На него мой закутанный труп,
- Чтоб смотрел я с последнего ложа
- С затаенной усмешкою губ.
- И когда заревое чуть тронет
- Темным золотом мраморный мол,
- Пусть задумчивый факел уронит
- Благовонье пылающих смол.
- И свирель тишину опечалит,
- И серебряный гонг заревет,
- В час, когда задрожит и отчалит
- Огневеющий траурный плот.
- Словно демон в лесу волхований,
- Снова вспыхнет мое бытие,
- От мучительных красных лобзаний
- Зашевелится тело мое.
- И пока к пустоте или раю
- Необорный не бросит меня,
- Я еще один раз отпылаю
- Упоительной жизнью огня.
Озера
- Я счастье разбил с торжеством святотатца:
- И нет ни тоски, ни укора,
- Но каждою ночью так ясно мне снятся
- Большие ночные озера.
- На траурно-черных волнах ненюфары,
- Как думы мои, молчаливы
- И будят забытые, грустные чары
- Серебряно-белые ивы.
- Луна освещает изгибы дороги
- И видит пустынное поле,
- Как я задыхаюсь в тяжелой тревоге
- И пальцы ломаю до боли.
- Я вспомню, и что-то должно появиться,
- Как в сумрачной драме развязка, —
- Печальная девушка, белая птица,
- Иль странная нежная сказка.
- И новое солнце заблещет в тумане,
- И будут стрекозами тени,
- И гордые лебеди древних сказаний
- На белые выйдут ступени.
- Но мне не припомнить. Я, слабый, бескрылый,
- Смотрю на ночные озера
- И слышу, как волны лепечут без силы
- Слова рокового укора.
- Проснусь, и, как прежде, уверенны губы,
- Далеко и чуждо ночное,
- И так по-земному прекрасны и грубы
- Минуты труда и покоя.
Старый конквистадор
- Углубясь в неведомые горы,
- Заблудился старый конквистадор.
- В дымном небе плавали кондоры,
- Нависали снежные громады.
- Восемь дней скитался он без пищи,
- Конь издох, но под большим уступом
- Он нашел уютное жилище,
- Чтоб не разлучаться с милым трупом.
- Там он жил в тени сухих смоковниц,
- Песни пел о солнечной Кастилье,
- Вспоминал сраженья и любовниц,
- Видел то пищали, то мантильи.
- Как всегда, был дерзок и спокоен
- И не знал ни ужаса, ни злости.
- Смерть пришла, и предложил ей воин
- Поиграть в изломанные кости.
Правый путь
- В муках и пытках рождается слово,
- Робкое, тихо проходит по жизни,
- Странник оно, из ковша золотого
- Пьющий остатки на варварской тризне.
- Выйдешь к природе! Природа враждебна,
- Все в ней пугает, всего в ней помногу,
- Вечно звучит в ней фанфара молебна
- Не твоему и ненужному Богу.
- Смерть? Но сперва эту сказку поэта
- Взвесь осторожно и мудро исчисли, —
- Жалко, не будет ни жизни, ни света,
- Но пожалеешь о царственной мысли.
- Что ж, это путь величавый и строгий:
- Плакать с осенним пронзительным ветром,
- С нищими нищим таиться в берлоге,
- Хмурые думы оковывать метром.
Орел
- Орел летел всё выше и вперед
- К Престолу Сил сквозь звездные преддверья,
- И был прекрасен царственный полет,
- И лоснились коричневые перья.
- Где жил он прежде? Может быть, в плену,
- В оковах королевского зверинца,
- Кричал, встречая девушку-весну,
- Влюбленную в задумчивого принца.
- Иль, может быть, в берлоге колдуна,
- Когда глядел он в узкое оконце,
- Его зачаровала вышина
- И властно превратила сердце в солнце.
- Не всё ль равно?! Играя и маня,
- Лазурное вскрывалось совершенство,
- И он летел три ночи и три дня
- И умер, задохнувшись от блаженства.
- Он умер, да! но он не мог упасть,
- Войдя в круги планетного движенья.
- Бездонная внизу зияла пасть,
- Но были слабы силы притяженья.
- Лучами был пронизан небосвод,
- Божественно-холодными лучами
- Не зная тленья, он летел вперед,
- Смотрел на звезды мертвыми очами.
- Не раз в бездонность рушились миры,
- Не раз труба архангела трубила,
- Но не была добычей для игры
- Его великолепная могила.
Ворота рая
- Не семью печатями алмазными
- В Божий рай замкнулся вечный вход,
- Он не манит блеском и соблазнами
- И его не ведает народ.
- Это дверь в стене давно заброшенной,
- Камни, мох, и больше ничего,
- Возле нищий, словно гость непрошеный,
- И ключи у пояса его.
- Мимо едут рыцари и латники,
- Трубный бой, бряцанье серебра,
- И никто не взглянет на привратника,
- Светлого апостола Петра.
- Все мечтают: «Там, у Гроба Божия,
- Двери рая вскроются для нас,
- На горе Фаворе, у подножия
- Прозвенит обетованный час».
- Так проходит медленное чудище,
- Завывая, трубит звонкий рог,
- И апостол Петр в дырявом рубище,
- Словно нищий, бледен и убог.
Колдунья
- Она колдует тихой ночью
- У потемневшего окна
- И страстно хочет, чтоб воочью
- Ей тайна сделалась видна.
- Как бред, мольба ее бессвязна,
- Но мысль, упорна и горда, —
- Она не ведает соблазна
- И не отступит никогда.
- Внизу… там дремлет город пестрый
- И кто-то слушает и ждет,
- Но меч, уверенный и острый, —
- Он тоже знает свой черед.
- На мертвой площади, где серо
- И сонно падает роса,
- Живет неслыханная вера
- В ее ночные чудеса.
- Но тщетен зов ее кручины,
- Земля все та же, что была,
- Вот солнце выйдет из пучины
- И позолотит купола.
- Ночные тени станут реже,
- Прольется гул, как ропот вод,
- И в сонный город ветер свежий
- Прохладу моря донесет.
- И меч сверкнет, и кто-то вскрикнет,
- Кого-то примет тишина,
- Когда усталая поникнет
- У заалевшего окна.
Вечер
- Еще один ненужный день,
- Великолепный и ненужный!
- Приди, ласкающая тень,
- И душу смутную одень
- Своею ризою жемчужной.
- И ты пришла… ты гонишь прочь
- Зловещих птиц – мои печали.
- О, повелительница ночь,
- Никто не в силах превозмочь
- Победный шаг твоих сандалий!
- От звезд слетает тишина,
- Блестит луна – твое запястье,
- И мне во сне опять дана
- Обетованная страна —
- Давно оплаканное счастье.
Это было не раз
- Это было не раз, это будет не раз
- В нашей битве глухой и упорной:
- Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
- Завтра, знаю, вернешься покорной.
- Но зато не дивись, мой враждующий друг,
- Враг мой, схваченный темной любовью,
- Если стоны любви будут стонами мук,
- Поцелуи – окрашены кровью.
Старина
- Вот парк с пустынными опушками,
- Где сонных трав печальна зыбь,
- Где поздно вечером с лягушками
- Перекликаться любит выпь.
- Вот дом, старинный и некрашеный,
- В нем словно плавает туман,
- В нем залы гулкие украшены
- Изображением пейзан.
- Тревожный сон… Но сон о небе ли?
- Нет! На высоком чердаке,
- Как ряд скелетов, груды мебели
- В пыли почиют и тоске.
- Мне суждено одну тоску нести,
- Где дед раскладывал пасьянс
- И где влюблялись тетки в юности
- И танцевали контреданс.
- И сердце мучится бездомное,
- Что им владеет лишь одна,
- Такая скучная и темная,
- Незолотая старина.
- …Теперь бы кручи необорные,
- Снега серебряных вершин
- Да тучи сизые и черные
- Над гулким грохотом лавин!
* * *
- Он поклялся в строгом храме
- Перед статуей Мадонны,
- Что он будет верен даме,
- Той, чьи взоры непреклонны.
- И забыл о тайном браке,
- Всюду ласки расточая,
- Ночью был зарезан в драке
- И пришел к преддверьям рая.
- «Ты ль в Моем не клялся храме, —
- Прозвучала речь Мадонны, —
- Что ты будешь верен даме,
- Той, чьи взоры непреклонны?
- Отойди, не эти жатвы
- Собирает Царь Небесный.
- Кто нарушил слово клятвы,
- Гибнет, Богу неизвестный».
- Но, печальный и упрямый,
- Он припал к ногам Мадонны:
- «Я нигде не встретил дамы,
- Той, чьи взоры непреклонны».
Беатриче
1
- Музы, рыдать перестаньте,
- Грусть вашу в песне излейте,
- Спойте мне песню о Данте
- Или сыграйте на флейте.
- Дальше, докучные фавны,
- Музыки нет в вашем кличе!
- Знаете ль вы, что недавно
- Бросила рай Беатриче,
- Странная белая роза
- В тихой вечерней прохладе…
- Что это? Снова угроза
- Или мольба о пощаде?
- Жил беспокойный художник.
- В мире лукавых обличий —
- Грешник, развратник, безбожник,
- Но он любил Беатриче.
- Тайные думы поэта
- В сердце его прихотливом
- Стали потоками света,
- Стали шумящим приливом.
- Музы, в сонете-брильянте
- Странную тайну отметьте,
- Спойте мне песню о Данте
- И Габриеле Россетти.
2
- В моих садах цветы, в твоих – печаль,
- Приди ко мне, красивою печалью
- Заворожи, как дымчатой вуалью,
- Моих садов мучительную даль.
- Ты – лепесток иранских белых роз,
- Войди сюда, в сады моих томлений,
- Чтоб не было порывистых движений,
- Чтоб музыка была пластичных поз.
- Чтоб пронеслось с уступа на уступ
- Задумчивое имя Беатриче
- И чтоб не хор менад, а хор девичий
- Пел красоту твоих печальных губ.
3
- Пощади, не довольно ли жалящей боли,
- Темной пытки отчаянья, пытки стыда!
- Я оставил соблазн роковых своеволий,
- Усмиренный, покорный, я твой навсегда.
- Слишком долго мы были затеряны в безднах,
- Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,
- Нас крутили и били в объятьях железных
- И бросали на скалы, где пряталась скорбь.
- Но теперь, словно белые кони от битвы,
- Улетают клочки грозовых облаков,
- Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы
- На хрустящий песок золотых островов.
4
- Я не буду тебя проклинать,
- Я печален печалью разлуки,
- Но хочу и теперь целовать
- Я твои уводящие руки.
- Все свершилось, о чем я мечтал
- Еще мальчиком странно-влюбленным,
- Я увидел блестящий кинжал
- В этих милых руках обнаженным.
- Ты подаришь мне смертную дрожь,
- А не бледную дрожь сладострастья,
- И меня навсегда уведешь
- К островам совершенного счастья.
Молитва
- Солнце свирепое, солнце грозящее,
- Бога, в пространствах идущего,
- Лицо сумасшедшее,
- Солнце, сожги настоящее
- Во имя грядущего,
- Но помилуй прошедшее!
Рыцарь с цепью
- Слышу гул и завыванье призывающих рогов,
- И я снова конквистадор, покоритель городов.
- Словно раб, я был закован, жил, униженный, в плену
- И забыл, неблагодарный, про могучую весну.
- А она пришла, ступая над рубинами цветов,
- И, ревнивая, разбила сталь мучительных оков.
- Я опять иду по скалам, пью студеные струи,
- Под дыханьем океана раны зажили мои.
- Но, вступая, обновленный, в неизвестную страну,
- Ничего я не забуду, ничего не прокляну.
- И чтоб помнить каждый подвиг, и возвышенность, и степь,
- Я к серебряному шлему прикую стальную цепь.
Заводи
И.В. Анненской
- Солнце скрылось на западе
- За полями обетованными,
- И стали тихие заводи
- Синими и благоуханными.
- Сонно дрогнул камыш,
- Пролетела летучая мышь.
- Рыба плеснулась в омут…
- …И направились к дому те,
- У кого есть дом
- С голубыми ставнями,
- С креслами давними
- И круглым чайным столом.
- Я один остался на воздухе
- Смотреть на сонную заводь,
- Где днем так отрадно плавать,
- А вечером плакать,
- Потому что я люблю тебя, Господи.
Андрогин
- Тебе никогда не устанем молиться,
- Немыслимо-дивное Бог-Существо,
- Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться,
- Мы верим, мы верим в Твое торжество.
- Подруга, я вижу, ты жертвуешь много,
- Ты в жертву приносишь себя самое,
- Ты тело даешь для Великого Бога,
- Изысканно-нежное тело свое.
- Спеши же, подруга! Как духи нагими,
- Должны мы исполнить старинный обет,
- Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя
- И, вздрогнув, услышать желанный ответ.
- Я вижу, ты медлишь, смущаешься…
- Что же?! Пусть двое погибнут, чтоб ожил один,
- Чтоб странный и светлый с безумного ложа,
- Как феникс из пламени, встал Андрогин.
- И воздух как роза, и мы как виденья,
- То близок к отчизне своей пилигрим…
- И верь! Не коснется до нас наслажденье
- Бичом оскорбительно-жгучим своим.
Кенгуру
Утро девушки
- Сон меня сегодня не разнежил,
- Я проснулась рано поутру
- И пошла, вдыхая воздух свежий,
- Посмотреть ручного кенгуру.
- Он срывал пучки смолистых игол,
- Глупый, для чего-то их жевал
- И смешно, смешно ко мне запрыгал
- И еще смешнее закричал.
- У него так неуклюжи ласки,
- Но и я люблю ласкать его,
- Чтоб его коричневые глазки
- Мигом осветило торжество.
- А потом, охвачена истомой,
- Я мечтать уселась на скамью.
- Что ж нейдет он, дальний, незнакомый,
- Тот один, которого люблю!
- Мысли так отчетливо ложатся,
- Словно тени листьев поутру.
- Я хочу к кому-нибудь ласкаться,
- Как ко мне ласкался кенгуру.
* * *
- Ты помнишь дворец великанов,
- В бассейне серебряных рыб,
- Аллеи высоких платанов
- И башни из каменных глыб?
- Как конь золотистый у башен,
- Играя, вставал на дыбы
- И белый чепрак был украшен
- Узорами тонкой резьбы?
- Ты помнишь, у облачных впадин
- С тобою нашли мы карниз,
- Где звезды, как горсть виноградин,
- Стремительно падали вниз?
- Теперь, о скажи, не бледнея,
- Теперь мы с тобою не те,
- Быть может, сильней и смелее,
- Но только чужие мечте.
- У нас, как точёные, руки,
- Красивы у нас имена,
- Но мертвой, томительной скуке
- Душа навсегда отдана.
- И мы до сих пор не забыли,
- Хоть нам и дано забывать,
- То время, когда мы любили,
- Когда мы умели летать.
Маэстро
Н.Л. Сверчкову
- В красном фраке с галунами,
- Надушенный, встал маэстро,
- Он рассыпал перед нами
- Звуки легкие оркестра.
- Звуки мчались и кричали,
- Как виденья, как гиганты,
- И метались в гулкой зале,
- И роняли бриллианты.
- К золотым сбегали рыбкам,
- Что плескались там, в бассейне,
- И по девичьим улыбкам
- Плыли тише и лилейней.
- Созидали башни храмам
- Голубеющего рая
- И ласкали плечи дамам,
- Улыбаясь и играя.
- А потом с веселой дрожью,
- Закрутившись вкруг оркестра,
- Тихо падали к подножью
- Надушенного маэстро.
Христос
- Он идет путем жемчужным
- По садам береговым.
- Люди заняты ненужным,
- Люди заняты земным.
- «Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!
- Вас зову я навсегда,
- Чтоб блюсти иную паству
- И иные невода.
- Лучше ль рыбы или овцы
- Человеческой души?
- Вы, небесные торговцы,
- Не считайте барыши.
- Ведь не домик в Галилее
- Вам награда за труды, —
- Светлый рай, что розовее
- Самой розовой звезды.
- Солнце близится к притину,
- Слышно веянье конца,
- Но отрадно будет Сыну
- В Доме Нежного Отца».
- Не томит, не мучит выбор,
- Что пленительней чудес?!
- И идут пастух и рыбарь
- За искателем небес.
Сказочное
- Ярче золота вспыхнули дни,
- И бежала медведица-ночь,
- Догони ее, князь, догони,
- Зааркань и к седлу приторочь.
- Через лес, через ров, через гать
- Устремилась она к колдуну,
- Чтоб с недобрым гадать, волховать
- И губить молодую весну.
- Догони ее, князь, догони,
- Не жалей дорогого коня,
- Посмотри, усмехаются пни,
- В темных дуплах мерцанье огня.
- Зааркань и к седлу приторочь,
- А потом в голубом терему
- Укажи на медведицу-ночь
- Богатырскому псу своему.
- Мертвой хваткой вцепляется пес,
- Он отважен, силен и хитер,
- Он звериную злобу донес
- К колдунам с незапамятных пор.
- <И> великая Радость, смеясь,
- На узорное ступит крыльцо,
- Тихо молвит: «Люблю тебя, князь,
- Для тебя я открыла лицо».
Охота
- Князь вынул бич и кинул клич,
- Грозу охотничьих добыч,
- И белый конь, душа погонь,
- Ворвался в стынущую сонь.
- Удар копыт в снегу шуршит,
- И зверь встает, и зверь бежит,
- Но не спастись ни в глубь, ни в высь,
- Как змеи, стрелы понеслись.
- Их легкий взмах наводит страх
- На неуклюжих россомах,
- Грызет их медь седой медведь
- Но все же должен умереть,
- И легче птиц, склоняясь ниц,
- Князь ищет четкий след лисиц.
- Но вечер ал, и князь устал,
- Прилег на мох и задремал,
- Не дремлет конь, его не тронь,
- Огонь в глазах его, огонь.
- И, волк равнин, подходит финн
- Туда, где дремлет властелин,
- А ночь светла, земля бела,
- Господь, спаси его от зла!
Покорность
- Только усталый достоин молиться богам,
- Только влюбленный – ступать по весенним лугам!
- На небе звезды, и тихая грусть на земле,
- Тихое «пусть» прозвучало и тает во мгле.
- Это покорность! Приди и склонись надо мной,
- Бледная дева под траурно-черной фатой!
- Край мой печален, затерян в болотной глуши,
- Нету прекраснее края для скорбной души.
- Вон порыжевшие почки и мокрый овраг,
- Я для него отрекаюсь от призрачных благ.
- Что я: влюблен или просто смертельно устал,
- Так хорошо, что мой взор наконец отблистал!
- Тихо смотрю, как степная колышется зыбь,
- Тихо внимаю, как плачет болотная выпь.
Маркиз де Карабас
С. Ауслендеру
- Весенний лес певуч и светел,
- Черны и радостны поля,
- Сегодня я впервые встретил
- За старой ригой журавля.
- Смотрю на тающую глыбу,
- На отблеск розовых зарниц,
- А умный кот мой ловит рыбу
- И в сеть заманивает птиц.
- Он знает след хорька и зайца,
- Лазейки сквозь камыш к реке,
- И так вкусны сорочьи яйца,
- Им испеченные в песке.
- Когда же роща тьму прикличет,
- Туман уронит капли рос
- И задремлю я, он мурлычет,
- Уткнув мне в руку влажный нос.
- «Мне сладко вам служить; за вас
- Я смело миру брошу вызов,
- Ведь вы маркиз де Карабас,
- Потомок самых древних рас,
- Средь всех отличенный маркизов.
- И дичь в лесу, и сосны гор,
- Богатых золотом и медью,
- И нив желтеющих простор,
- И рыба в глубине озер
- Принадлежат вам по наследью.
- Зачем же спите вы в норе,
- Всегда причудливый ребенок,
- Зачем не жить вам при дворе,
- Не есть и пить на серебре
- Средь попугаев и болонок?!»
- Мой добрый кот, мой кот ученый
- Печальный подавляет вздох
- И лапкой белой и точеной,
- Сердясь, вычесывает блох.
- Наутро снова я под ивой
- (В ее корнях такой уют)
- Рукой рассеянно-ленивой
- Бросаю камни в дымный пруд.
- Как тяжелы они, как метки,
- Как по воде они скользят!
- …И в каждой травке, в каждой ветке
- Я мой встречаю маркизат.
Северный раджа
Валентину Кривичу
1
- Она простерлась, неживая,
- Когда замышлен был набег,
- Ее сковали грусть без края,
- И синий лед, и белый снег.
- Но и задумчивые ели
- В цветах серебряной луны,
- Всегда тревожные, хотели
- Святой по-новому весны.
- И над страной лесов и гатей
- Сверкнула золотом заря,
- То шли бесчисленные рати
- Непобедимого царя.
- Он жил на сказочных озерах,
- Дитя брильянтовых раджей,
- И радость светлая во взорах,
- И губы лотуса свежей.
- Но, сына царского, на север
- Его таинственно влечет,
- Он хочет в поле видеть клевер,
- В сосновых рощах – желтый мед.
- Гудит земля, оружье блещет,
- Трубят военные слоны,
- И сын полуночи трепещет
- Пред сыном солнечной страны.
- Се – царь! Придите и поймите
- Его спасающую сеть,
- В кипучий вихрь его событий
- Спешите кануть и сгореть.
- Легко сгореть и встать иными,
- Ступить на новую межу,
- Чтоб встретить в пламени и дыме
- Владыку севера, Раджу.
2
- Он встал на крайнем берегу,
- И было хмуро побережье,
- Едва чернели на снегу
- Следы глубокие, медвежьи.
- Да в отдаленной полынье
- Плескались рыжие тюлени,
- Да небо в розовом огне
- Бросало ровный свет без тени.
- Он обернулся… там, во мгле,
- Дрожали зябнущие парсы
- И, обессилев, на земле
- Валялись царственные барсы,
- А дальше падали слоны,
- Дрожа, стонали, как гиганты,
- И лился мягкий свет луны
- На их уборы, их брильянты.
- Но людям, павшим перед ним,
- Царь кинул гордое решенье:
- «Мы в царстве снега создадим
- Иную Индию… Виденье.
- На этот звонкий синий лед
- Утесы мрамора не лягут,
- И лотус здесь не зацветет
- Под вековою сенью пагод.
- Но будет белая заря
- Пылать слепительнее вдвое,
- Чем у бирманского царя
- Костры из мирры и алоэ.
- Не бойтесь этой наготы
- И песен холода и вьюги, —
- Вы обретете здесь цветы,
- Каких не знали бы на юге».
3
- И древле мертвая страна
- С ее нетронутою новью,
- Как дева юная, пьяна
- Своей великою любовью.
- Из дивной Галии вотще
- К ней приходили кавалеры,
- Красуясь в бархатном плаще,
- Манили к тайнам чуждой веры.
- И Византии строгой речь,
- Ее задумчивые книги,
- Не заковали этих плеч
- В свои тяжелые вериги.
- Здесь каждый миг была весна
- И в каждом взоре жило солнце,
- Когда смотрела тишина
- Сквозь закоптелое оконце.
- И каждый мыслил: «Я в бреду,
- Я сплю, но радости все те же,
- Вот встану в розовом саду
- Над белым мрамором прибрежий.
- И та, которую люблю,
- Придет застенчиво и томно,
- Она близка… теперь я сплю
- И хорошо, у грезы темной».
- Живет закон священной лжи
- В картине, статуе, поэме —
- Мечта великого Раджи,
- Благословляемая всеми.
На выход сборника откликнулись рецензиями В.Я. Брюсов, Вяч. Иванов, С. Ауслендер и другие авторы. Это было уже признание. Об этом, но не только об этом, идет речь в письме к В.Я. Брюсову: «…пишу Вам, как Вы можете видеть по штемпелю, из Киева, куда я приехал, чтобы жениться. Женюсь я на А.А. Горенко, которой посвящены «Романтические цветы». Свадьба будет, наверное, в воскресенье, и мы тотчас же уезжаем в Париж. К июлю вернемся и будем жить в Царском по моему старому адресу.
«Жемчуга» вышли. Вячеслав Иванов в своей рецензии о них в «Аполлоне», называя меня Вашим оруженосцем, говорит, что этой книгой я заслужил от Вас ритуальный удар меча по плечу, посвящающий меня в рыцари. И дальше пишет, что моя новая деятельность ознаменуется разделением во мне воды и суши, причем эпическая сторона моего творчества станет чистым эпосом, а лиризм – чистой лирикой.
Не знаю, сочтете ли Вы меня достойным посвящения в рыцари, но мне было бы очень важно услышать от Вас несколько напутственных слов, так как «Жемчугами» заканчивается большой цикл моих переживаний и теперь я весь устремлен к иному, новому. Какое будет это новое, мне пока не ясно, но мне кажется, что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович. Мне верится, что можно еще многое сделать, не бросая лиро-эпического метода, но только перейдя от тем личных к темам общечеловеческим, пусть стихийным, но под условием всегда чувствовать под своими ногами твердую почву. Но я повторяю, что мне это пока не ясно и жду от Вас какого-нибудь указания, намека, которого я, может быть, сразу не пойму, но который встанет в моем сознании когда нужно. Так бывало не раз, и я знаю, что всем, чего я достиг, я обязан Вам».
Тональность и этого письма кажется странной, потому что писал его двадцатичетырехлетний человек, собирающийся завести семью, то есть начать взрослую и вполне независимую жизнь. При этом он все еще чувствует себя учеником, спрашивает совета.
Можно подумать, что подобное поведение анормально, но следует учесть: Гумилев смотрит на свои взаимоотношения с В.Я. Брюсовым уже не как на взаимоотношения учителя и ученика, вернее, взаимоотношения их постепенно изменяются, все больше они напоминают отношения мастера и подмастерья, осваивающего основы мастерства, даже делающего успехи на этом поприще, однако знания и опыт которого никак не могут соперничать со знаниями и опытом мастера. Впоследствии, когда возникнет «Цех поэтов», для которого Гумилев возьмет за образец средневековую гильдию ремесленников, а особенно – возрожденный «Цех поэтов», где Гумилев, теперь непререкаемый авторитет, станет наставлять молодых стихотворцев, воплотится именно эта система отношений. Но все это относится к более поздним временам.
Гумилев и Анна Горенко венчались 25 апреля в селе Никольская Слободка Остерского уезда Черниговской губернии, в Николаевской церкви. Шафером на свадьбе был И. Аксенов, тогда еще только начинающий литератор, а впоследствии – один из лучших эссеистов и переводчиков. Гумилев рассказывал: «Я не знал его, и, когда предложили, только спросил – приличная ли у него фамилия, не Голопупенко какой-нибудь?» Что же, на украинской земле впору было ожидать, что люди носят фамилии прямо по Гоголю.
Бракосочетание это для многих стало неожиданностью. Так, В. Срезневская, ближайшая подруга невесты, признавалась: «И вдруг, в одно прекрасное утро, я получила извещение об их свадьбе. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня и сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничто в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня.
Мы много и долго говорили на разные темы. Она читала стихи, гораздо более женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла образа Коли. Как и в последующей лирике, где скупо и мимолетно можно найти намеки о ее муже, в отличие от его лирики, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы, маячит образ жены. То русалка, то колдунья, то просто женщина, таящая «злое торжество…».
Как бы то ни было, Гумилев добился столь долго чаемого. Вскоре супруги уехали в Париж, в свадебное путешествие.
Гумилев показывал жене тот Париж, который был дорог ему самому. Они бывали в музеях, в зоологическом саду, в кафе и кабаре. Гумилев покупал много книг, которые искал и у букинистов, и в книжных магазинах. Книги покупал он, по рассказам А. Ахматовой, и тогда, когда они жили в Царском Селе. Впрочем, С. Маковский как-то заметил: «Гумилев любил книгу, и мысли его большею частью были книжные, но точными знаниями он не обладал ни в какой области…» От себя добавлю – точные знания для поэта вовсе не обязательны, ему куда потребней хороший вкус и здравый смысл, плюс, разумеется, работоспособность.
Молодая жена была удивлена, что Гумилев, казавшийся ей до замужества чопорным, сверх меры, что ли, торжественным, был совсем не таким (а ведь о чопорности его говорили и другие). А. Ахматова потом вспоминала, что тогда, в Париже, увидела однажды толпу, которая за кем-то гналась, и в ней Гумилева. Когда она спросила, зачем он бежал, Гумилев ответил – было ему по дороге, а бежать намного скорее.
На обратном пути их попутчиком в международном вагоне оказался С. Маковский: «Я встретил молодых тогда в Париже. Затем мы вместе возвращались в Петербург.
В железнодорожном вагоне, под укачивающий стук колес, легче всего разговориться «по душе». Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», – но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордится ею. Не раз и до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей единственной настоящей любви…»
Если так показалось человеку стороннему, возможно, так и было. Но держал себя Гумилев с женой чуть иначе, когда они бывали наедине. Например, на том же самом обратном пути А. Ахматовой пришлось по каким-то причинам пересесть в другое купе, где ехали три немца. Немец, лежавший на нижней полке напротив, разговорился с ней, начал делать комплименты. И восемь часов подряд, пока они ехали, немец не спал, а все смотрел. А. Ахматова рассказала об этом мужу, и тот вразумительно ответил: «На Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская».
Все лето Гумилев напряженно работает, встречается со знакомыми, посещает «башню» Вяч. Иванова, бывает на концертах в Павловске. 13 сентября он устраивает прощальный вечер перед своим очередным отъездом в Африку. Незадолго до того в письме к В.Я. Брюсову он сообщает: «Думаю через Абиссинию проехать на озеро Родольфо, оттуда на озеро Виктория и через Момбад в Европу. Всего пробуду там месяцев пять».
Опять Одесса, опять пароход. И снова – Константинополь, Каир, Бейрут, Порт-Саид, Джедда, Джибути.
В ту поездку дважды преодолел он пустыню Черчер, первый раз – добираясь до Аддис-Абебы, второй раз – возвращаясь оттуда. На обратном пути вместе со здешним поэтом ато-Иосифом Гумилев собирал песни абиссинцев и предметы их быта.
Монпарнас. Открытка, 1900-е гг.
Гумилев. Шарж Н. Альтмана, 1910-е гг.
Домой, в Царское Село, Гумилев вернулся лишь в конце марта следующего – 1911 – года, подхватив африканскую лихорадку. О путешествии Гумилев сделал вскоре после приезда доклад в редакции журнала «Аполлон» во время заседания «Академии». Тогда же Гумилев прочел поэму «Блудный сын», резко раскритикованную Вяч. Ивановым.