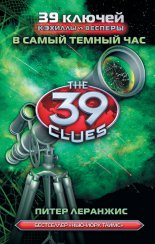Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания Гумилев Николай
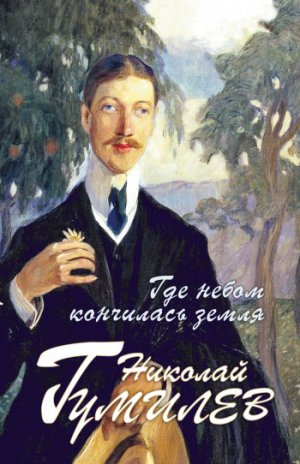
Блудный сын
1
- Нет дома подобного этому дому!
- В нем книги и ладан, цветы и молитвы!
- Но видишь, отец, я томлюсь по иному,
- Пусть в мире есть слезы, но в мире есть битвы.
- На то ли, отец, я родился и вырос,
- Красивый, могучий и полный здоровья,
- Чтоб счастье побед заменил мне твой клирос
- И гул изумленной толпы – славословья.
- Я больше не мальчик, не верю обманам,
- Надменность и кротость – два взмаха кадила,
- И Петр не унизится пред Иоанном,
- И лев перед агнцем, как в сне Даниила.
- Позволь, да твое преумножу богатство,
- Ты плачешь над грешным, а я негодую,
- Мечом укреплю я свободу и братство,
- Свирепых огнем научу поцелую.
- Весь мир для меня открывается внове,
- И я буду князем во имя Господне…
- О, счастье! О, пенье бунтующей крови!
- Отец, отпусти меня… завтра… сегодня!..
2
- Как розов за портиком край небосклона!
- Как веселы в пламенном Тибре галеры!
- Пускай приведут мне танцовщиц Сидона,
- И Тира, и Смирны… во имя Венеры,
- Цветов и вина, дорогих благовоний…
- Я праздную день мой в веселой столице!
- Но где же друзья мои, Цинна, Петроний?..
- А вот они, вот они, salve, amici [2].
- Идите скорей, ваше ложе готово,
- И розы прекрасны, как женские щеки;
- Вы помните верно отцовское слово,
- Я послан сюда был исправить пороки…
- Но в мире, которым владеет превратность,
- Постигнув философов римских науку,
- Я вижу один лишь порок – неопрятность,
- Одну добродетель – изящную скуку.
- Петроний, ты морщишься? Будь я повешен,
- Коль ты недоволен моим сиракузским!
- Ты, Цинна, смеешься? Не правда ль, потешен
- Тот раб косоглазый и с черепом узким?
3
- Я падаль сволок к тростникам отдаленным
- И пойло для мулов поставил в их стойла;
- Хозяин, я голоден, будь благосклонным,
- Позволь, мне так хочется этого пойла.
- За ригой есть куча лежалого сена,
- Быки не едят его, лошади тоже:
- Хозяин, твои я целую колена,
- Позволь из него приготовить мне ложе.
- Усталость – работнику помощь плохая,
- И слепнут глаза от соленого пота,
- О, день, только день провести, отдыхая…
- Хозяин, не бей! Укажи, где работа.
- Ах, в рощах отца моего апельсины,
- Как красное золото, полднем бездонным,
- Их рвут, их бросают в большие корзины
- Красивые девушки с пеньем влюбленным.
- И с думой о сыне там бодрствует ночи
- Старик величавый с седой бородою,
- Он грустен… пойду и скажу ему: «Отче,
- Я грешен пред Господом и пред тобою».
4
- И в горечи сердце находит усладу:
- Вот сад, но к нему подойти я не смею,
- Я помню… мне было три года… по саду
- Я взапуски бегал с лисицей моею.
- Я вырос! Мой опыт мне дорого стоит,
- Томили предчувствия, грызла потеря…
- Но целое море печали не смоет
- Из памяти этого первого зверя.
- За садом возносятся гордые своды,
- Вот дом – это дедов моих пепелище,
- Он, кажется, вырос за долгие годы,
- Пока я блуждал, то распутник, то нищий.
- Там празднество: звонко грохочет посуда,
- Дымятся тельцы и румянится тесто,
- Сестра моя вышла, с ней девушка-чудо,
- Вся в белом и с розами, словно невеста.
- За ними отец… Что скажу, что отвечу,
- Иль снова блуждать мне без мысли и цели?
- Узнал… догадался… идет мне навстречу…
- И праздник, и эта невеста… не мне ли?!
Дело не в художественных достоинствах либо недостатках поэмы. Раскол намечался потому, что Гумилев считал – символизм исчерпал себя.
А. Белый, естественно, утрируя и даже отчасти окарикатуривая ситуацию, писал про вечера на «башне», когда обозначалось уже расхождение Вяч. Иванова и Гумилева: «Мы распивали вино.
Вячеслав раз, подмигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: «Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию…» С шутки начав, предложил Гумилеву я создать «адамизм»; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово «акмэ», острие: «Вы, Адамы, должны быть заостренными». Гумилев, не теряя бесстрастия, сказал, положив нога на ногу:
– Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию – против себя: покажу уже вам «акмеизм»!
Так он стал акмеистом, и так начинался с игры разговор о конце символизма».
Что же до личных отношений Гумилева и Вяч. Иванова, хозяин «башни» старался нанести Гумилеву удар как можно больнее, всячески выделял А. Ахматову, стихи которой вряд ли ему так уж нравились. Делалось это для уничтожения Гумилева.
Между тем он сам – хотя бы поначалу – относился к поэзии А. Ахматовой, вернее, к самому факту, что она пишет стихи, с некоторым напряжением, говорил ей после свадьбы: «Муж и жена пишут стихи – в этом есть что-то комическое. У тебя столько талантов. Ты не могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом…» Известно это со слов самой А. Ахматовой.
Необычным было и его отношение к болезням. А. Ахматова однажды была свидетелем, как он получал для себя лекарство по рецепту, выписанному на чужую фамилию. Отвечая на ее вопрос, сказал: «Болеть – это такое безобразие, что даже фамилия не должна в нем участвовать…» Гумилев не хотел порочить свое литературное имя.
Тем не менее он чувствовал себя настолько плохо от непрекращающейся лихорадки, что вынужден был подать прошение в университет. Гумилева из университета отчислили.
А. Ахматова в середине мая 1911 года уехала в Париж, Гумилев отправился в Слепнево. А. Гумилева, жена старшего брата Дмитрия, вспоминала: «Под влиянием рассказов А[нны] И[вановны] о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целости там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя – Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимой время от времени приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни – Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление. Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предлогами. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: «Машенька совсем ослепила Николая Степановича». Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше, чем надо, рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная «…пыль пьянее, чем наркотик», что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни были очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомиц, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что «долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает».
У сестер были альбомы, Гумилев записывал свои стихи и Оле, и Маше. Стихи были разными, а потому и альбомы ни в чем не походили друг на друга. Имелись там безделушки, вроде акростиха или стихотворения «на случай», имелись и стихи иного качества.
Усадебный дом Гумилевых в Слепневе
А. Ахматова, М. Кузьмина-Караваева и другие
Стихи из альбома Маши составляют своеобразный цикл, который стоит прочитать (попавшие затем в сборники, стихи эти воспринимаются там иначе).
Из альбома М.А. Кузьминой-Караваевой
Акростих
- Можно увидеть на этой картинке
- Ангела, солнце и озеро Чад,
- Шумного негра в одной пелеринке
- И шарабанчик, где сестры сидят,
- Нежные, стройные, словно былинки.
- А надо всем поднимается сердце,
- Лютой любовью вдвойне пронзено,
- Боли и песен открытая дверца:
- О, для чего даже здесь не дано
- Мне позабыть о мечте иноверца.
В саду
- Целый вечер в саду рокотал соловей,
- И скамейка в далекой аллее ждала,
- И томила весна… Но она не пришла,
- Не хотела иль просто пугалась ветвей.
- Оттого ли, что было томиться невмочь,
- Оттого ли, что издали плакал рояль,
- Было жаль соловья, и аллею, и ночь,
- И кого-то еще было тягостно жаль.
- – Не себя! Я умею быть светлым, грустя;
- Не ее! Если хочет, пусть будет такой;
- …Но зачем этот день, как больное дитя,
- Умирал, не отмеченный Божьей Рукой?
Неизвестность
- Замирает дыханье, и ярче становятся взоры
- Перед сладко волнующим ликом твоим, Неизвестность,
- Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы
- И смущенного видеть еще неоткрытую местность.
- В каждой травке намек на возможность несбыточной
- встречи,
- Этот грот – обиталище феи всегда легкокрылой,
- Миг… и выйдет, атласные руки положит на плечи
- И совсем замирающим голосом вымолвит: «Милый!»
- У нее есть хранитель, волшебник ревнивый и страшный,
- Он отмстит, он, как сетью, опутает душу печалью.
- …И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду, всегдашний,
- Бродит школьный учитель, томя прописною моралью.
Встреча
- Молюсь звезде моих побед,
- Алмазу древнего востока,
- Широкой степи, где мой бред —
- Езда всегда навстречу рока.
- Как неожидан блеск ручья
- У зеленеющих платанов!
- Звенит душа, звенит струя —
- Мир снова царство великанов.
- И всё же темная тоска
- Нежданно в поле мне явилась,
- От встречи той прошли века,
- И ничего не изменилось.
- Кривой клюкой взметая пыль,
- Ах, верно направляясь к раю,
- Ребенок мне шепнул: «Не ты ль?»
- А я ему в ответ: «Не знаю.
- Верь!» – и его коснулся губ
- Атласных… Боже! Здесь, на небе ль?
- Едва ли был я слишком груб,
- Ведь он был прям, как нежный стебель.
- Он руку оттолкнул мою
- И отвечал: «Не узнаю!»
Лиловый цветок
- Вечерние тихи заклятья,
- Печаль голубой темноты,
- Я вижу не лица, а платья,
- А может быть, только цветы.
- Так радует серо-зеленый,
- Живой и стремительный весь,
- И, может быть, к счастью, влюбленный
- В кого-то чужого… не здесь.
- Но душно мне… Я зачарован;
- Ковер надо мной, словно сеть;
- Хочу быть спокойным – взволнован,
- Смотрю – а хочу не смотреть.
- Смолкает веселое слово,
- И ярче пылание щек:
- То мучит, то нежит лиловый,
- Томящий и странный цветок.
Сон
Утренняя болтовня
- Вы сегодня так красивы,
- Что вы видели во сне?
- – Берег, ивы
- При луне. —
- А еще? К ночному склону
- Не приходят, не любя.
- – Дездемону
- И себя. —
- Вы глядите так несмело:
- Кто там был за купой ив?
- – Был Отелло,
- Он красив. —
- Был ли он вас двух достоин?
- Был ли он как лунный свет?
- – Да, он воин
- И поэт. —
- О какой же пел он ныне
- Неоткрытой красоте?
- – О пустыне
- И мечте. —
- И вы слушали влюбленно,
- Нежной грусти не тая?
- – Дездемона,
- Но не я. —
В вашей спальне
- Вы сегодня не вышли из спальни,
- И до вечера был я один,
- Сердце билось печальней, и дальний
- Падал дождь на узоры куртин.
- Ни стрельбы из японского лука,
- Ни гаданья по книгам стихов,
- Ни блокнотов! Тяжелая скука
- Захватила и смяла без слов.
- Только вечером двери открылись;
- Там сошлись развлекавшие Вас:
- Вышивали, читали, сердились,
- Говорили и пели зараз.
- Я хотел тишины и печали,
- Я мечтал Вас согреть тишиной,
- Но в душе моей чаши азалий
- Вдруг закрылись, и сами собой
- Вы взглянули… и, стула бесстрастней,
- Встретил я Ваш приветливый взгляд,
- Помня мудрое правило басни,
- Что, чужой, не созрел виноград.
Девушке
- Мне не нравится томность
- Ваших скрещенных рук,
- И спокойная скромность,
- И стыдливый испуг.
- Героиня романов Тургенева,
- Вы надменны, нежны и чисты,
- В вас так много безбурно-осеннего
- От аллеи, где кружат листы.
- Никогда ничему не поверите,
- Прежде чем не сочтете, не смерите,
- Никогда никуда не пойдете,
- Коль на карте путей не найдете.
- И вам чужд тот безумный охотник,
- Что, взойдя на нагую скалу,
- В пьяном счастье, в тоске безотчетной
- Прямо в солнце пускает стрелу.
Сомнение
- Вот я один в вечерний тихий час,
- Я буду думать лишь о вас, о вас.
- Возьмусь за книгу, но прочту: «она»,
- И вновь душа пьяна и смятена.
- Я брошусь на скрипучую кровать,
- Подушка жжет… нет, мне не спать, а ждать.
- И крадучись я подойду к окну,
- На дымный луг взгляну и на луну,
- Вон там, у клумб, вы мне сказали «да»,
- О, это «да» со мною навсегда.
- И вдруг сознанье бросит мне в ответ,
- Что вас, покорной, не было и нет,
- Что ваше «да», ваш трепет, у сосны
- Ваш поцелуй – лишь бред весны и сны.
Память
- Как я скажу, что тебя буду помнить всегда,
- Ах, я и в память боюсь, как во многое, верить!
- Буйной толпой набегут и умчатся года,
- Столько печали я встречу, что радость ли мерить?
- Я позабуду. Но, вечно и вечно гадая,
- Буду склоняться над омутом прежнего я,
- Чтобы припомнить, о чем позабыл… и седая,
- Первая прядка волос, помни, будет твоя.
Борьба
- Борьба одна: и там, где по холмам
- Под рев звериный плещут водопады,
- И здесь, где взор девичий – но, как там,
- Обезоруженному нет пощады.
- Что из того, что волею тоски
- Ты поборол нагих степей удушье;
- Все ломит стрелы, тупит все клинки
- Как солнце золотое равнодушье.
- Оно – морской утес: кто сердцем тих
- Прильнет и выйдет, радостный, на сушу,
- Но тот, кто знает сладость бурь своих,
- Погиб… и Бог его забудет душу.
* * *
- Вечерний медленный паук
- В траве сплетает паутину, —
- Надежды знак. Но, милый друг,
- Я взора на него не кину.
- Всю обольстительность надежд,
- Не жизнь, а только сон о жизни,
- Я оставляю для невежд,
- Для сонных евнухов и слизней.
- Мое «сегодня» на мечту
- Не променяю я и знаю,
- Что муки ада предпочту
- Лишь обещаемому раю, —
- Чтоб в час, когда могильный мрак
- Вольется в сомкнутые вежды,
- Не засмеялся мне червяк,
- Паучьи высосав надежды.
Райский сад
- Я не светел, я болен любовью,
- Я сжимаю руками виски
- И внимаю, как шепчутся с кровью
- Шелестящие крылья Тоски.
- Но тебе оскорбительны муки;
- Ты одною улыбкой, без слов,
- Отвести приказала мне руки
- От моих воспаленных висков.
- Те же кресла и комната та же…
- Что же было? Ведь я уж не тот:
- В золотисто-лиловом мираже
- Дивный сад предо мною встает.
- Ах, такой раскрывался едва ли
- И на ранней заре бытия,
- И о нем никогда не мечтали
- Даже Индии солнца – князья.
- Бьет поток; на лужайках прибрежных
- Бродят нимфы забытых времен;
- В выем раковин длинных и нежных
- Звонко трубит мальчишка-тритон.
- Я простерт на песке без дыханья,
- И меня не боятся цветы,
- Но в душе – ослепительность знанья,
- Что ко мне наклоняешься ты…
- И с такою же точно улыбкой
- Как сейчас улыбнулась ты мне.
- …Странно! Сад этот знойный и зыбкий
- Только в детстве я видел во сне.
Ангел-хранитель
- Он мне шепчет: «Своевольный,
- Что ты так уныл?
- Иль о жизни прежней, вольной,
- Тайно загрустил?
- Полно! Разве всплески, речи
- Сумрачных морей
- Стоят самой краткой встречи
- С госпожой твоей?
- Так ли с сердца бремя снимет
- Голубой простор,
- Как она, когда поднимет
- На тебя свой взор?
- Ты волен предаться гневу,
- Коль она молчит,
- Но покинуть королеву
- Для вассала – стыд».
- Так и ночью молчаливой,
- Днем и поутру
- Он стоит, красноречивый,
- За свою сестру.
Ключ в лесу
- Есть темный лес в стране моей;
- В него входил я не однажды,
- Измучен яростью лучей,
- Искать спасения от жажды.
- Там ключ бежит из недр скалы
- С глубокой льдистою водою,
- Но Горный Дух из влажной мглы
- Глядит, как ворон пред бедою.
- Он говорит: «Ты позабыл
- Закон: отсюда не уходят!» —
- И каждый раз я уходил
- Блуждать в лугах, как звери бродят.
- И все же помнил путь назад
- Из вольной степи в лес дремучий…
- …О, если бы я был крылат,
- Как тот орел, что пьет из тучи!
Ева или Лилит
- Ты не знаешь сказанья о деве Лилит,
- С кем был счастлив в раю первозданном Адам,
- Но ты всё ж из немногих, чье сердце болит
- По душе окрыленной и вольным садам.
- Ты об Еве слыхала, конечно, не раз,
- О праматери Еве, хранящей очаг,
- Но с какой-то тревогой… и этот рассказ
- Для тебя был смешное безумье и мрак.
- У Лилит – недоступных созвездий венец,
- В ее странах алмазные солнца цветут,
- А у Евы – и дети, и стадо овец,
- В огороде картофель, и в доме уют.
- Ты еще не узнала себя самоё,
- Ева – ты, иль Лилит? О, когда он придет,
- Тот, кто робкое, жадное сердце твое
- Без дорог унесет в зачарованный грот.
- Он умеет блуждать под уступами гор
- И умеет спускаться на дно пропастей,
- Не цветок – его сердце, оно – метеор,
- И в душе его звездно от дум и страстей.
- Если надо, он царство тебе покорит,
- Если надо, пойдет с воровскою сумой,
- Но всегда и повсюду – от Евы Лилит, —
- Он тебя сохранит от тебя же самой.
Две розы
- Перед воротами Эдема
- Две розы пышно расцвели,
- Но роза – страстности эмблема,
- А страстность – детище земли.
- Одна так нежно розовеет,
- Как дева, милым смущена,
- Другая, пурпурная, рдеет,
- Огнем любви обожжена.
- А обе на Пороге Знанья…
- Ужель Всевышний так судил
- И тайну страстного сгоранья
- К небесным тайнам приобщил?!
* * *
- Пальмы, три слона и два жирафа,
- Страус, носорог и леопард:
- Дальняя, загадочная Каффа,
- Я опять, опять твой гость и бард!
- Пусть же та, что в голубой одежде,
- Строгая, уходит на закат!
- Пусть не оборотится назад!
- Светлый рай, ты будешь ждать, как прежде.
* * *
- Огромный мир открыт и манит,
- Бьет конь копытом, я готов,
- Я знаю, сердце не устанет
- Следить за бегом облаков.
- Но вслед бежит воспоминанье
- И странно выстраданный стих,
- И недопетое признанье
- Последних радостей моих.
- Рвись, конь, но помни, что печали
- От века гнать не уставали
- Свободных… гонят и досель.
- Тогда поможет нам едва ли
- И звонкая моя свирель.
* * *
- Хиромант, большой бездельник,
- Поздно вечером, в Сочельник
- Мне предсказывал: «Заметь:
- Будут долгие недели
- Виться белые метели,
- Льды прозрачные синеть.
- Но ты снегу улыбнешься,
- Ты на льду не поскользнешься,
- Принесут тебе письмо
- С надушенною подкладкой,
- И на нем сияет сладкий,
- Милый штемпель – Сан-Ремо!»
Последнее стихотворение тоже написано в связи с конкретным случаем. Маша была больна туберкулезом, проводы ее в Италию, где должно было идти лечение, состоялись 24 декабря 1911 года.
Маша умерла 29 декабря, и стихотворение «Родос», посвященное ее памяти, Гумилев вписал уже в альбом ее сестры – Ольги.
Родос
- На полях опаленных Родоса
- Камни стен и в цвету тополя
- Видит зоркое сердце матроса
- В тихий вечер с кормы корабля.
- Там был рыцарский орден: соборы,
- Цитадель, бастионы, мосты,
- И на людях простые уборы,
- Но на них золотые кресты.
- Не стремиться ни к славе, ни к счастью,
- Все равны перед взором Отца,
- И не дать покорить самовластью
- Посвященные небу сердца!
- Но в долинах старинных поместий,
- Посреди кипарисов и роз,
- Говорить о Небесной Невесте,
- Охраняющей нежный Родос!
- Наше бремя – тяжелое бремя:
- Труд зловещий дала нам судьба,
- Чтоб прославить на краткое время,
- Нет, не нас, только наши гроба.
- Нам брести в смертоносных равнинах,
- Чтоб узнать, где родилась река,
- На тяжелых и гулких машинах
- Грозовые пронзать облака;
- В каждом взгляде тоска без просвета,
- В каждом вздохе томительный крик, —
- Высыхать в глубине кабинета
- Перед пыльными грудами книг.
- Мы идем сквозь туманные годы,
- Смутно чувствуя веянье роз,
- У веков, у пространств, у природы
- Отвоевывать древний Родос.
- Но, быть может, подумают внуки,
- Как орлята, тоскуя в гнезде:
- «Где теперь эти крепкие руки,
- Эти души горящие – где?»
По словам А. Гумилевой, любовь к Маше была самой возвышенной и глубокой любовью Гумилева.
С. Маковский пишет (неизвестно, насколько он точен): «Только 15 июля 1911 года, в день именин Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева (женатого на Екатерине Дмитриевне Бушен), в его усадьбе Борисково (по соседству со Слепневым), Гумилев представил свою молодую жену родным и друзьям. У Кузьминых-Караваевых была дочь Екатерина и три сына – Дмитрий (принявший после революции католическое священство), Борис и Михаил. Жена Дмитрия – Елизавета Юрьевна, рожденная Пиленко, художница и поэтесса, автор «Скифских черепков» – высокая, румяная, в полном обаянии своей живой поэтической натуры – была несколькими годами раньше одним из первых увлечений Гумилева, а позже, – одной из первых его “цехисток”».
Время в такой веселой и милой компании проходило незаметно. То играли, распределив между собой роли – «Дон-Кихот», «Любопытный», «Сплетник», причем каждый должен был действовать сообразно своему амплуа, то придумывали что-то вроде настоящего театра, и Гумилев даже сочинил нечто похожее на пьеску, то поехали кататься на лошадях, заехали в соседний уезд и там почему-то выдали себя за бродячих циркачей. Гумилев вел программу, А. Ахматова была «женщиной-змеей». Зрители были необычайно довольны, принимали все за чистую монету и даже стали собирать какие-то медяки, чтобы заплатить циркачам, когда те вдруг засмущались и уехали.
Этим летом мать Гумилева купила новый дом, куда переехала семья. С домом этим навсегда связаны были воспоминания. А. Ахматова рассказывала: «У Коли желтая комната. Столик. За этим столиком очень много стихов написано. Кушетка, тоже желтая, обитая. Часто спал в библиотеке на тахте, а я на кушетке у себя. Стол мой, 4 кожаных кресла были у меня в комнате. Все из Слепнева привезла, красного дерева. Кресло – карельской березы.
Кабинет – большая комната, совсем заброшенная и нелюбимая. Это называлось «Абиссинская комната». Вся завешана абиссинскими картинами была. Шкуры везде были развешаны».
Позднее, весной 1916 года, комнаты Гумилева и А. Ахматовой были сданы родственнице, пришлось переезжать – А. Ахматовой в кабинет, столь ею нелюбимый, Гумилеву в маленькую комнату наверху.
Рассказывая о библиотеке, упомянула А. Ахматова и забавную подробность: «Когда я на Колю сердилась, я вынимала его книги с этой полки и ставила на другую, а на других были сотни книг – из тех, которые присылали в «Аполлон» для отзыва, и т.п. – всякой дребедени». А на «этой» полке стояли сборники В.Я. Брюсова, Ф. Сологуба, других модернистов, и вместе с ними книги А. Ахматовой и Гумилева.
Этой осенью задумывается «“Цех поэтов”, в создании которого активное участие принимал и С. Городецкий.
Наблюдатель менее заинтересованный, нежели А. Белый, и мемуарист куда более сдержанный, В. Пяст вспоминал о первом собрании «Цеха поэтов», куда он был приглашен повесткой, написанной рукой Гумилева: «Осень 1911 года – историческая дата для «акмеистов». На этом собрании была изложена вскоре напечатанная в «Аполлоне» декларация «Акмеизма, адамизма то ж», – этой диады, первой части которой преимущественным исполнителем был Гумилев, – второй же – Городецкий. Исторически это может быть, было действительно так, что вот двум молодым поэтам не захотелось быть в числе «эпигонов», – и в лице возглавляемого ими «Цеха» хотелось создать «фермент брожения», перекидывавшийся на «слишком академическую» Академию. Действительно, оба они, в особенности Гумилев, всем своим творчеством, «корнями», так сказать, «вросли» в «символизм». Тех, кого они тянули к себе, в частности, Ахматову и Мандельштама, только тогда начинавших, но начинавших прекрасно, – нисколько не волновали честолюбивые стремления всегда стоять на «вершинах» («акмэ») и всему сущему давать новые имена (как «Адам»)».
Тот же мемуарист рассказывает и про «Цех поэтов», причем рассказывает, как про нечто диковинное, даже чуждое, но достойное заметки: «Цех поэтов был довольно любопытным литературным объединением, в котором не ставился знак равенства между принадлежностью к нему и к акмеистической школе. В него был введен несколько чуждый литературным обществам и традициям порядок «управления». Не то, чтобы было «правление», ведающее хозяйственными и организационными вопросами; но и не то, чтобы были «учителя-академики» и безгласная масса вокруг. В Цехе были «синдики», – в задачу которых входило направление членов Цеха в области их творчества; к членам же предъявлялись требования известной «активности»; кроме того, к поэзии был с самого начала взят подход, как к ремеслу. […]
Их было три. Каждому из них была вменена почетная обязанность по очереди председательствовать на собраниях; но это председательствование они понимали как право и обязанность «вести» собрание. И при том чрезвычайно торжественно. Где везде было принято скороговоркою произносить: «Так никто не желает больше высказаться? В таком случае собрание объявляется закрытым…» – там у них председатель торжественнейшим голосом громогласно объявлял: «Объявляю собрание закрытым».
Члены «Цеха поэтов» собирались и у Гумилева, и у Городецкого, и у Кузьминых-Караваевых. Все тянулись друг к другу, все были друг другу нужны.
Оказалось, что чтение стихов, серьезное их обсуждение («говорить без придаточных», не приводя аргументов, а лишь выражая свое отношение к прочитанному – было запрещено) очень полезны.
Синдики – Гумилев, С. Городецкий и Д.В. Кузьмин-Караваев, к литературе имевший отношение лишь касательное, а также слушатели высказывали свое мнение, и дорабатывать стихи следовало сообразуясь с этими советами.
С. Городецкий. Фотография, 1912?? г
Тут, кроме прочего, надо учесть, что техника стиха находилась тогда на весьма низком уровне, многие профессионалы (разумеется, не лучшие из них – В.Я. Брюсов, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, М. Волошин и т.д.) не отличались в этом от дилетантов. И кто-то из мемуаристов, впрочем, не важно кто, отметил – стараниями Гумилева, который организовал «Цех поэтов», а затем много занимался с молодыми авторами, технический уровень повысился. Плохо писать в этом смысле уже стало невозможно, это считалось недопустимым.
Вскоре произошло еще одно важное для петербургской культурной жизни событие. Открылось кабаре «Бродячая собака». Его организовал актер Б. Пронин, он же стал душой этого предприятия.
Находилось кабаре на Михайловской площади, занимая там подвал, куда приходилось добираться не без труда и даже не без некоторой гадливости, о чем не преминул написать в мемуарной книге «Полутораглазый стрелец» Б. Лившиц, впрочем, не только о том: ««Бродячая собака» открывалась часам к двенадцати ночи, и в нее, как в инкубатор, спешно переносили недовысиженные восторги театрального зала, чтобы в подогретой винными парами атмосфере они разразились безудержными рукоплесканиями, сигнал к которым подавался возгласом: «Hommage! Hommage!»
Сюда же, как в термосе горячее блюдо, изготовленное в другом конце города, везли на извозчике, на такси, на трамвае свежеиспеченный триумф, который хотелось продлить, просмаковать еще и еще раз, пока он не приобрел прогорклого привкуса вчерашнего успеха.
Минуя облако вони, бившей прямо в нос из расположенной по соседству помойной ямы, ломали о низкую притолоку свои цилиндры все, кто не успел снять их за порогом.
Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы, по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина, вписать в «свиную» книгу свои последние стихи, по которым простодушные «фармацевты» строили догадки, щекотавшие только их любопытство.
В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь «кинжального» взора в спину».
И Гумилев, и А. Ахматова любили бывать в «Бродячей собаке», где посетители не только пили вино и мило общались. Почему-то об этом забывают.
На защиту кабаре, давно закрывшегося к тому времени, когда он писал свою книгу воспоминаний, встал неожиданно В. Пяст: «Сейчас много возводится поклепов на бедную «издохшую “Собаку”»… – А вот не угодно ли: в час ночи в самой «Собаке» только начинается филологически-лингвистическая (т.е. на самый что ни на есть скучнейший с точки зрения обывателей сюжет!) лекция юного Виктора Шкловского «Воскрешение вещей»!..
Во втором отделении, а иногда и с первого, после удара в огромный барабан молоточком Коко Кузнецова или кого другого, низкие своды «Собачьего подвала» покрывает раскатистый бас Владимира Маяковского… Иногда Маяковский, иногда Хлебников или еще Бенедикт Лившиц… Или застенчиво нежный, несмотря на свой внушительный рост, Николай Бурлюк…
Эмблема кабаре «Бродячая собака»
Собственно, настоящих собак в «Собаке» не водилось, по крайней мере, почти. Была какая-то слепенькая мохнатенькая Бижка, кажется, но бродила она по подвалу только днем – когда если туда кто и попадал иной раз, то всегда испытывал ощущение какой-то сирости, ненужности; было холодновато, и все фрески, занавесы, мебельная обивка, все шандалы, барабан и прочий скудный скарб помещения, – все это пахло бело-винным перегаром».
Но 1912 год ознаменовался не только открытием «Бродячей собаки». В этом году произошел окончательный разрыв с Вяч. Ивановым, было официально объявлено о возникновении «акмеизма», вышел в свет сборник Гумилева «Чужое небо».
Из сборника «Чужое небо»
На море
- Закат. Как змеи, волны гнутся,
- Уже без гневных гребешков,
- Но не бегут они коснуться
- Непобедимых берегов.
- И только издали добредший
- Бурун, поверивший во мглу,
- Внесется, буйный сумасшедший,
- На глянцевитую скалу
- И лопнет с гиканьем и ревом,
- Подбросив к небу пенный клок…
- Но весел в море бирюзовом
- С латинским парусом челнок;
- И загорелый кормчий ловок,
- Дыша волной растущей мглы
- И, от натянутых веревок,
- Бодрящим запахом смолы.
Отрывок
- Христос сказал: убогие блаженны,
- Завиден рок слепцов, калек и нищих,
- Я их возьму в надзвездные селенья,
- Я сделаю их рыцарями неба
- И назову славнейшими из славных…
- Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
- Чьей мыслью мы теперь живем и дышим,
- Чьи имена звучат нам, как призывы?
- Искупят чем они свое величье,
- Как им заплатит воля равновесья?
- Иль Беатриче стала проституткой,
- Глухонемым – великий Вольфганг Гёте
- И Байрон – площадным шутом… О ужас!
Тот другой
- Я жду, исполненный укоров:
- Но не веселую жену
- Для задушевных разговоров
- О том, что было в старину.
- И не любовницу: мне скучен
- Прерывный шепот, томный взгляд,
- И к упоеньям я приучен,
- И к мукам, горше во сто крат.
- Я жду товарища, от Бога
- В веках дарованного мне,
- За то, что я томился много
- По вышине и тишине.
- И как преступен он, суровый,
- Коль вечность променял на час,
- Принявши дерзко за оковы
- Мечты, связующие нас.
Вечное
- Я в коридоре дней сомкнутых,
- Где даже небо – тяжкий гнет,
- Смотрю в века, живу в минутах,
- Но жду Субботы из Суббот;
- Конца тревогам и удачам,
- Слепым блужданиям души…
- О день, когда я буду зрячим
- И странно знающим, спеши!
- Я душу обрету иную,
- Все, что дразнило, уловя.
- Благословлю я золотую
- Дорогу к солнцу от червя.
- И тот, кто шел со мною рядом
- В громах и кроткой тишине,
- Кто был жесток к моим усладам
- И ясно милостив к вине;
- Учил молчать, учил бороться,
- Всей древней мудрости земли, —
- Положит посох, обернется
- И скажет просто: «Мы пришли».
Константинополь
- Еще близ порта орали хором
- Матросы, требуя вина,
- А над Стамбулом и над Босфором
- Сверкнула полная луна.
- Сегодня ночью на дно залива
- Швырнут неверную жену,
- Жену, что слишком была красива
- И походила на луну.
- Она любила свои мечтанья,
- Беседку в чаще камыша,
- Старух гадальщиц, и их гаданья,
- И все, что не любил паша.
- Отец печален, но понимает
- И шепчет мужу: «Что ж, пора?»
- Но глаз упрямых не поднимает,
- Мечтает младшая сестра:
- – Так много, много в глухих заливах
- Лежит любовников других,
- Сплетенных, томных и молчаливых…
- Какое счастье быть средь них!
Современность
- Я закрыл «Илиаду» и сел у окна,
- На губах трепетало последнее слово,
- Что-то ярко светило – фонарь иль луна,
- И медлительно двигалась тень часового.
- Я так часто бросал испытующий взор
- И так много встречал отвечающих взоров,
- Одиссеев во мгле пароходных контор,
- Агамемнонов между трактирных маркеров.
- Так в далекой Сибири, где плачет пурга,
- Застывают в серебряных льдах мастодонты,
- Их глухая тоска там колышет снега,
- Красной кровью – ведь их – зажжены горизонты.
- Я печален от книги, томлюсь от луны,
- Может быть, мне совсем и не надо героя,
- Вот идут по аллее, так странно нежны,
- Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.
Сонет
- Я, верно, болен: на сердце туман,
- Мне скучно все, и люди и рассказы,
- Мне снятся королевские алмазы
- И весь в крови широкий ятаган.
- Мне чудится (и это не обман):
- Мой предок был татарин косоглазый,
- Свирепый гунн… я веяньем заразы,
- Через века дошедшей, обуян.
- Молчу, томлюсь, и отступают стены —
- Вот океан весь в клочьях белой пены,
- Закатным солнцем залитый гранит,
- И город с голубыми куполами,
- С цветущими, жасминными садами,
- Мы дрались там… Ах да! я был убит.
Однажды вечером
- В узких вазах томленье умирающих лилий.
- Запад был медно-красный. Вечер был голубой.
- О Леконте де Лиле мы с тобой говорили,
- О холодном поэте мы грустили с тобой.
- Мы не раз открывали шелковистые томы
- И читали спокойно и шептали: не тот!
- Но тогда нам сверкнули все слова, все истомы,
- Как кочевницы звезды, что восходят раз в год.
- Так певучи и странны, в наших душах воскресли
- Рифмы древнего солнца, мир нежданно-большой,
- И сквозь сумрак вечерний запрокинутый в кресле
- Резкий профиль креола с лебединой душой.
Она
- Я знаю женщину: молчанье,
- Усталость горькая от слов,
- Живет в таинственном мерцанье
- Ее расширенных зрачков.
- Ее душа открыта жадно
- Лишь медной музыке стиха,
- Пред жизнью дольней и отрадной
- Высокомерна и глуха.
- Неслышный и неторопливый,
- Так странно плавен шаг ее,
- Назвать нельзя ее красивой,
- Но в ней всё счастие мое.
- Когда я жажду своеволий
- И смел и горд – я к ней иду
- Учиться мудрой сладкой боли
- В ее истоме и бреду.
- Она светла в часы томлений
- И держит молнии в руке,
- И четки сны ее, как тени
- На райском огненном песке.
Жизнь
- С тусклым взором, с мертвым сердцем в море броситься
- со скалы,
- В час, когда, как знамя, в небе дымно-розовая заря,
- Иль в темнице стать свободным, как свободны одни орлы,
- Иль найти покой нежданный в дымной хижине дикаря!
- Да, я понял. Символ жизни – не поэт, что творит слова,
- И не воин с твердым сердцем, не работник, ведущий плуг, —
- С иронической усмешкой царь-ребенок на шкуре льва,
- Забывающий игрушки между белых усталых рук.
Из логова змиева
- Из логова змиева,
- Из города Киева,
- Я взял не жену, а колдунью.
- А думал забавницу,
- Гадал – своенравницу,
- Веселую птицу-певунью.
- Покликаешь – морщится,
- Обнимешь – топорщится,
- А выйдет луна – затомится,
- И смотрит, и стонет,
- Как будто хоронит
- Кого-то, – и хочет топиться.
- Твержу ей: крещеному,
- С тобой по-мудреному
- Возиться теперь мне не в пору;
- Снеси-ка истому ты
- В Днепровские омуты,
- На грешную Лысую гору.
- Молчит – только ежится,
- И всё ей неможется,
- Мне жалко ее, виноватую,
- Как птицу подбитую,
- Березу подрытую
- Над очастью, Богом заклятою.
Я верил, я думал…
Сергею Маковскому
- Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
- Создав, навсегда уступил меня року Создатель;
- Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец,
- И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.
- Летящей горою за мною несется Вчера,
- А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
- Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора,
- Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.
- И если я волей себе покоряю людей,
- И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
- И если я ведаю тайны – поэт, чародей,
- Властитель вселенной – тем будет страшнее паденье.
- И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
- Оно – колокольчик фарфоровый в желтом Китае
- На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
- В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
- А тихая девушка в платье из красных шелков,
- Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
- С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
- Внимательно слушая легкие, легкие звоны.
Ослепительное
- Я тело в кресло уроню,
- Я свет руками заслоню
- И буду плакать долго, долго,
- Припоминая вечера,
- Когда не мучило «вчера»
- И не томили цепи долга;
- И в море врезавшийся мыс,
- И одинокий кипарис,
- И благосклонного Гуссейна,
- И медленный его рассказ,
- В часы, когда не видит глаз
- Ни кипариса, ни бассейна.
- И снова властвует Багдад,
- И снова странствует Синдбад,
- Вступает с демонами в ссору,
- И от египетской земли
- Опять уходят корабли
- В великолепную Бассору.
- Купцам и прибыль, и почет.
- Но нет, не прибыль их влечет
- В нагих степях, над бездной водной;
- О тайна тайн, о птица Рок,
- Не твой ли дальний островок
- Им был звездою путеводной?
- Ты уводила моряков
- В пещеры джиннов и волков,
- Хранящих древнюю обиду,
- И на висячие мосты
- Сквозь темно-красные кусты
- На пир к Гаруну аль-Рашиду.
- И я когда-то был твоим,
- Я плыл, покорный пилигрим,
- За жизнью благостной и мирной,
- Чтоб повстречал меня Гуссейн
- В садах, где розы и бассейн,
- На берегу за старой Смирной.
- Когда-то… Боже, как чисты
- И как мучительны мечты!
- Ну что же, раньте сердце, раньте, —
- Я тело в кресло уроню,
- Я свет руками заслоню,
- И буду плакать о Леванте.
Паломник
- Ахмет-Оглы берет свою клюку
- И покидает город многолюдный.
- Вот он идет по рыхлому песку,
- Его движенья медленны и трудны.
- – Ахмет, Ахмет, тебе ли, старику,
- Пускаться в путь неведомый и чудный?
- Твое добро враги возьмут сполна,
- Тебе изменит глупая жена. —
- «Я этой ночью слышал зов Аллаха,
- Аллах сказал мне: – Встань, Ахмет-Оглы,
- Забудь про все, иди, не зная страха,
- Иди, провозглашая мне хвалы;
- Где рыжий вихрь вздымает горы праха,
- Где носятся хохлатые орлы,
- Где лошадь ржет над трупом бедуина,
- Туда иди: там Мекка, там Медина».
- – Ахмет-Оглы, ты лжешь! Один пророк
- Внимал Аллаху, бледный, вдохновенный,
- Послом от мира горя и тревог
- Он улетал к обители нетленной,
- Но он был юн, прекрасен и высок,
- И конь его был конь благословенный,
- А ты… мы не слыхали о после
- Плешивом, на задерганном осле. —
- Не слушает, упрям старик суровый,
- Идет, кряхтит, и злость в его смешке,
- На нем халат изодранный, а новый,
- Лиловый, шитый золотом, в мешке;
- Под мышкой посох кованый, дубовый,
- Удобный даже старческой руке,
- Чалма лежит, как требуют шииты,
- И десять лир в сандалии зашиты.
- Вчера шакалы выли под горой
- И чья-то тень текла неуловимо,
- Сегодня усмехались меж собой
- Три оборванца, проходивших мимо.
- Но ни шайтан, ни вор, ни зверь лесной
- Смиренного не тронут пилигрима,
- И в ночь его, должно быть от луны,
- Слетают удивительные сны.
- И каждый вечер кажется, что вскоре
- Окончится терновник и волчцы,
- Как в золотом Багдаде, как в Бассоре,
- Поднимутся узорные дворцы,
- И Красное пылающее море
- Пред ним свои расстелет багрецы,
- Волшебство синих и зеленых мелей…
- И так идет неделя за неделей.
- Он очень стар, Ахмет, а путь суров,
- Пронзительны полночные туманы,
- Он скоро упадет без сил и слов,
- Закутавшись, дрожа, в халат свой рваный,
- В одном из тех восточных городов,
- Где вечерами шепчутся платаны,
- Пока чернобородый муэдзин
- Поет стихи про гурию долин.
- Он упадет, но дух его бессонный
- Аллах недаром дивно окрылил,
- Его, как мальчик страстный и влюбленный,
- В свои объятья примет Азраил
- И поведет тропою, разрешенной
- Для демонов, пророков и светил.
- Все, что свершить возможно человеку,
- Он совершил – и он увидит Мекку.
Жестокой
- «Пленительная, злая, неужели
- Для Вас смешно святое слово: друг?
- Вам хочется на Вашем лунном теле
- Следить касанья только женских рук,
- Прикосновенья губ стыдливо-страстных
- И взгляды глаз нетребующих, да?
- Ужели до сих пор в мечтах неясных
- Вас детский смех не мучил никогда?
- Любовь мужчины – пламень Прометея
- И требует и, требуя, дарит.
- Пред ней душа, волнуясь и слабея,
- Как красный куст горит и говорит:
- Я Вас люблю, забудьте сны!» – В молчанье
- Она, чуть дрогнув, веки подняла,
- И я услышал звонких лир бряцанье
- И громовые клёкоты орла.
- Орел Сафо у белого утеса
- Торжественно парил, и красота
- Бестенных виноградников Лесбоса
- Замкнула богохульные уста.
Любовь
- Надменный, как юноша, лирик
- Вошел, не стучася, в мой дом
- И просто заметил, что в мире
- Я должен грустить лишь о нем.
- С капризной ужимкой захлопнул
- Открытую книгу мою,
- Туфлей лакированной топнул,
- Едва проронив: «Не люблю».
- Как смел он так пахнуть духами!
- Так дерзко перстнями играть!
- Как смел он засыпать цветами
- Мой письменный стол и кровать!
- Я из дому вышел со злостью,
- Но он увязался за мной.
- Стучит изумительной тростью
- По звонким камням мостовой.
- И стал я с тех пор сумасшедшим,
- Не смею вернуться в свой дом
- И всё говорю о пришедшем
- Бесстыдным его языком.
Баллада
- Влюбленные, чья грусть как облака,
- И нежные задумчивые леди,
- Какой дорогой вас ведет тоска,
- К какой еще неслыханной победе
- Над чарой вам назначенных наследий?
- Где вашей вечной грусти и слезам
- Целительный предложится бальзам?
- Где сердце запылает, не сгорая?
- В какой пустыне явится глазам,
- Блеснет сиянье розового рая?
- Вот я нашел, и песнь моя легка,
- Как память о давно прошедшем бреде,
- Могучая взяла меня рука,
- Уже слетел к дрожащей Андромеде
- Персей в кольчуге из горящей меди.
- Пускай вдали пылает лживый храм,
- Где я теням молился и словам,
- Привет тебе, о родина святая!
- Влюбленные, пытайте рок, и вам
- Блеснет сиянье розового рая.
- В моей стране спокойная река,
- В полях и рощах много сладкой снеди,
- Там аист ловит змей у тростника,
- И в полдень, пьяны запахом камеди,
- Кувыркаются рыжие медведи.
- И в юном мире юноша Адам,
- Я улыбаюсь птицам и плодам,
- И знаю я, что вечером, играя,
- Пройдет Христос-младенец по водам,
- Блеснет сиянье розового рая.
Посылка
- Тебе, подруга, эту песнь отдам,
- Я веровал всегда твоим стопам,
- Когда вела ты, нежа и карая,
- Ты знала все, ты знала, что и нам
- Блеснет сиянье розового рая.
Укротитель зверей
…Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки.
Анна Ахматова
- Снова заученно-смелой походкой
- Я приближаюсь к заветным дверям,
- Звери меня дожидаются там,
- Пестрые звери за крепкой решеткой.
- Будут рычать и пугаться бича,
- Будут сегодня еще вероломней
- Или покорней… не все ли равно мне,
- Если я молод и кровь горяча?
- Только… я вижу все чаще и чаще
- (Вижу и знаю, что это лишь бред)
- Странного зверя, которого нет,
- Он – золотой, шестикрылый, молчащий.
- Долго и зорко следит он за мной
- И за движеньями всеми моими,
- Он никогда не играет с другими
- И никогда не придет за едой.
- Если мне смерть суждена на арене,
- Смерть укротителя, знаю теперь,
- Этот, незримый для публики, зверь
- Первым мои перекусит колени.
- Фанни, завял вами данный цветок,
- Вы ж, как всегда, веселы на канате,
- Зверь мой, он дремлет у вашей кровати,
- Смотрит в глаза вам, как преданный дог.
Отравленный
- «Ты совсем, ты совсем снеговая,
- Как ты странно и страшно бледна!
- Почему ты дрожишь, подавая
- Мне стакан золотого вина?»
- Отвернулась печальной и гибкой…
- Что я знаю, то знаю давно,
- Но я выпью и выпью с улыбкой,
- Всё налитое ею вино.
- А потом, когда свечи потушат,
- И кошмары придут на постель,
- Те кошмары, что медленно душат,
- Я смертельный почувствую хмель…
- И приду к ней, скажу: «Дорогая,
- Видел я удивительный сон,
- Ах, мне снилась равнина без края,
- И совсем золотой небосклон.
- Знай, я больше не буду жестоким,
- Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним,
- Я уеду, далеким, далеким,
- Я не буду печальным и злым.
- Мне из рая, прохладного рая,
- Видны белые отсветы дня…
- И мне сладко – не плачь, дорогая, —
- Знать, что ты отравила меня».
У камина
- Наплывала тень… Догорал камин.
- Руки на груди, он стоял один.
- Неподвижный взор устремляя вдаль,
- Горько говоря про свою печаль:
- «Я пробрался в глубь неизвестных стран,
- Восемьдесят дней шел мой караван;
- Цепи грозных гор, лес, а иногда
- Странные вдали чьи-то города.
- Не раз из них в тишине ночной
- В лагерь долетал непонятный вой.
- Мы рубили лес, мы копали рвы,
- Вечерами к нам подходили львы.
- Но трусливых душ не было меж нас,
- Мы стреляли в них, целясь между глаз.
- Древний я отрыл храм из-под песка,
- Именем моим названа река,
- И в стране озер пять больших племен
- Слушались меня, чтили мой закон.
- Но теперь я слаб, как во власти сна,
- И больна душа, тягостно больна;
- Я узнал, узнал, что такое страх,
- Погребенный здесь в четырех стенах;
- Даже блеск ружья, даже плеск волны
- Эту цепь порвать ныне не вольны…»
- И, тая в глазах злое торжество,
- Женщина в углу слушала его.
Маргарита
- Валентин говорит о сестре в кабаке,
- Выхваляет ее ум и лицо,
- А у Маргариты на левой руке
- Появилось дорогое кольцо.
- А у Маргариты спрятан ларец
- Под окном в зеленом плюще,
- Ей приносит так много серёг и колец
- Злой насмешник в красном плаще.
- Хоть высоко окно в Маргаритин приют,
- У насмешника лестница есть;
- Пусть так звонко на улицах студенты поют,
- Прославляя Маргаритину честь,
- Слишком ярки рубины и томен апрель,
- Чтоб забыть обо всем, не знать ничего…
- Марта гладит любовно полный кошель,
- Только… серой несет от него.
- Валентин, Валентин, позабудь свой позор,
- Ах, чего не бывает в летнюю ночь!
- Уж на что Риголетто был горбат и хитер,
- И над тем насмеялась родная дочь.
- Грозно Фауста в бой ты зовешь, но вотще!
- Его нет… Его выдумал девичий стыд;
- Лишь насмешника в красном и дырявом плаще
- Ты найдешь… и ты будешь убит.
Оборванец
- Я пойду по гулким шпалам
- Думать и следить
- В небе желтом, в небе алом
- Рельс бегущих нить.
- В залы пасмурные станций
- Забреду, дрожа,
- Коль не сгонят оборванца
- С криком сторожа.
- А потом мечтой упрямой
- Вспомню в сотый раз
- Быстрый взгляд красивой дамы,
- Севшей в первый класс.
- Что ей, гордой и далекой,
- Вся моя любовь?
- Но такой голубоокой
- Мне не видеть вновь!
- Расскажу я тайну другу,
- Подтруню над ним
- В теплый час, когда по лугу
- Вечер стелет дым.
- И с улыбкой безобразной
- Он ответит: «Ишь!
- Начитался дряни разной,
- Вот и говоришь».
Туркестанские генералы
- Под смутный говор, стройный гам,
- Сквозь мерное сверканье балов,
- Так странно видеть по стенам
- Высоких старых генералов.
- Приветный голос, ясный взгляд,
- Бровей седеющих изгибы
- Нам ничего не говорят
- О том, о чем сказать могли бы.
- И кажется, что в вихре дней,
- Среди сановников и денди,
- Они забыли о своей
- Благоухающей легенде.
- Они забыли дни тоски,
- Ночные возгласы: «к оружью»,
- Унылые солончаки
- И поступь мерную верблюжью;
- Поля неведомой земли,
- И гибель роты несчастливой,
- И Уч-Кудук, и Киндерли,
- И русский флаг над белой Хивой.
- Забыли? – Нет! Ведь каждый час
- Каким-то случаем прилежным
- Туманит блеск спокойных глаз,
- Напоминает им о прежнем.
- «Что с вами?» – «Так, нога болит».
- – «Подагра?» – «Нет, сквозная рана».
- И сразу сердце защемит
- Тоска по солнцу Туркестана.
- И мне сказали, что никто
- Из этих старых ветеранов,
- Средь копий Греза и Ватто,
- Средь мягких кресел и диванов,
- Не скроет ветхую кровать,
- Ему служившую в походах,
- Чтоб вечно сердце волновать
- Воспоминаньем о невзгодах.
Абиссинские песни
1. Военная
- Носороги топчут наше дурро,
- Обезьяны обрывают смоквы,
- Хуже обезьян и носорогов
- Белые бродяги итальянцы.
- Первый флаг забился над Харраром,
- Это город раса Маконена,
- Вслед за ним проснулся древний Аксум
- И в Тигрэ заухали гиены.
- По лесам, горам и плоскогорьям
- Бегают свирепые убийцы,
- Вы, перерывающие горло,
- Свежей крови вы напьетесь нынче.
- От куста к кусту переползайте,
- Как ползут к своей добыче змеи,
- Прыгайте стремительно с утесов —
- Вас прыжкам учили леопарды.
- Кто добудет в битве больше ружей,
- Кто зарежет больше итальянцев,
- Люди назовут того ашкером
- Самой белой лошади негуса.
2. Пять быков
- Я служил пять лет у богача,
- Я стерег в полях его коней,
- И за то мне подарил богач
- Пять быков, приученных к ярму.
- Одного из них зарезал лев,
- Я нашел в траве его следы,
- Надо лучше охранять крааль,
- Надо на ночь зажигать костер.
- А второй взбесился и бежал,
- Звонкою ужаленный осой,
- Я блуждал по зарослям пять дней,
- Но нигде не мог его найти.
- Двум другим подсыпал мой сосед
- В пойло ядовитой белены,
- И они валялись на земле
- С высунутым синим языком.
- Заколол последнего я сам,
- Чтобы было чем попировать
- В час, когда пылал соседский дом
- И вопил в нем связанный сосед.
3. Невольничья
- По утрам просыпаются птицы,
- Выбегают в поле газели
- И выходит из шатра европеец,
- Размахивая длинным бичом.
- Он садится под тенью пальмы,
- Обвернув лицо зеленой вуалью,
- Ставит рядом с собой бутылку виски
- И хлещет ленящихся рабов.
- Мы должны чистить его вещи,
- Мы должны стеречь его мулов,
- А вечером есть солонину,
- Которая испортилась днем.
- Слава нашему хозяину европейцу,
- У него такие дальнобойные ружья,
- У него такая острая сабля
- И так больно хлещущий бич!
- Слава нашему хозяину европейцу,
- Он храбр, но он недогадлив,
- У него такое нежное тело,
- Его сладко будет пронзить ножом!
4. Занзибарские девушки
- Раз услышал бедный абиссинец,
- Что далёко, на севере, в Каире,
- Занзибарские девушки пляшут
- И любовь продают за деньги.
- А ему давно надоели
- Жирные женщины Габеша,
- Хитрые и злые сомалийки
- И грязные подёнщицы Каффы.
- И отправился бедный абиссинец
- На своем единственном муле
- Через горы, леса и степи
- Далеко-далеко на север.
- На него нападали воры,
- Он убил четверых и скрылся,
- А в густых лесах Сенаара
- Слон-отшельник растоптал его мула.
- Двадцать раз обновлялся месяц,
- Пока он дошел до Каира
- И вспомнил, что у него нет денег,
- И пошел назад той же дорогой.
Из Теофиля Готье
На берегу моря
- Уронила луна из ручек —
- Так рассеянна до сих пор —
- Веер самых розовых тучек
- На морской голубой ковер.
- Наклонилась… достать мечтает
- Серебристой тонкой рукой,
- Но напрасно! Он уплывает,
- Уносимый быстрой волной.
- Я б достать его взялся… Смело,
- Луна, я б прыгнул в поток,
- Если б ты спуститься хотела
- Иль подняться к тебе я мог.
Искусство
- Созданье тем прекрасней,
- Чем взятый материал
- Бесстрастней —
- Стих, мрамор иль металл.
- О светлая подруга,
- Стеснения гони,
- Но туго
- Котурны затяни.
- Прочь легкие приемы,
- Башмак по всем ногам,
- Знакомый
- И нищим, и богам.
- Скульптор, не мни покорной
- И вялой глины ком,
- Упорно
- Мечтая о другом.
- С паросским иль каррарским
- Борись обломком ты,
- Как с царским
- Жилищем красоты.
- Прекрасная темница!
- Сквозь бронзу Сиракуз
- Глядится
- Надменный облик муз.
- Рукою нежной брата
- Очерченный уклон
- Агата —
- И выйдет Аполлон.
- Художник! Акварели
- Тебе не будет жаль!
- В купели
- Расплавь свою эмаль.
- Твори сирен зеленых
- С усмешкой на губах,
- Склоненных
- Чудовищ на гербах.
- В трехъярусном сиянье
- Мадонну и Христа,
- Пыланье
- Латинского креста.
- Всё прах. Одно, ликуя,
- Искусство не умрет.
- Статуя
- Переживет народ.
- И на простой медали,
- Открытой средь камней,
- Видали
- Неведомых царей.
- И сами боги тленны,
- Но стих не кончит петь,
- Надменный,
- Властительней, чем медь.
- Чеканить, гнуть, бороться
- И зыбкий сон мечты
- Вольется
- В бессмертные черты.
Анакреонтическая песенка
- Ты хочешь, чтоб была я смелой?
- Так не пугай, поэт, тогда
- Моей любви, голубки белой
- На небе розовом стыда.
- Идет голубка по аллее,
- И в каждом чудится ей враг.
- Моя любовь еще нежнее,
- Бежит, коль к ней направить шаг.
- Немой, как статуя Гермеса,
- Остановись, и вздрогнет бук, —
- Смотри, к тебе из чащи леса
- Уже летит крылатый друг.
- И ты почувствуешь дыханье
- Какой-то ласковой волны
- И легких, легких крыл дрожанье
- В сверканье сладком белизны.
- И на плечо твое голубка
- Слетит, уже приручена,
- Чтобы из розового кубка
- Вкусил ты сладкого вина.
Рондолла
- Ребенок с видом герцогини,
- Голубка, сокола страшней, —
- Меня не любишь ты, но ныне
- Я буду у твоих дверей.
- И там стоять я буду, струны
- Щипля и в дерево стуча,
- Пока внезапно лоб твой юный
- Не озарит в окне свеча.
- Я запрещу другим гитарам
- Поблизости меня звенеть.
- Твой переулок – мне: недаром
- Я говорю другим: «Не сметь».
- И я отрежу оба уха
- Нахалу, если только он
- Куплет свой звонко или глухо
- Придет запеть под твой балкон.
- Мой нож шевелится как пьяный.
- Ну что ж? Кто любит красный цвет?
- Кто хочет краски на кафтаны,
- Гранатов алых для манжет?
- Ах, крови в жилах слишком скучно,
- Не вечно ж ей томиться там,
- А ночь темна, а ночь беззвучна:
- Спешите, трусы, по домам.
- Вперед, задиры! Вы без страха,
- И нет для вас запретных мест,
- На ваших лбах моя наваха
- Запечатлеет рваный крест.
- Пускай идут, один иль десять,
- Рыча, как бешеные псы, —
- Я в честь твою хочу повесить
- Себе на пояс их носы.
- И чрез канаву, что обычно
- Марает шелк чулок твоих,
- Я мост устрою – и отличный,
- Из тел красавцев молодых.
- Ах, если саван мне обещан
- Из двух простынь твоих – войну
- Я подниму средь адских трещин,
- Я нападу на Сатану.
- Глухая дверь, окно слепое,
- Ты можешь слышать голос мой:
- Так бык пронзенный, землю роя,
- Ревет, а вкруг собачий вой.
- О, хоть бы гвоздь был в этой дверце,
- Чтоб муки прекратить мои…
- К чему мне жить, скрывая в сердце
- Томленье злобы и любви?
Гиппопотам
- Гиппопотам с огромным брюхом
- Живет в яванских тростниках,
- Где в каждой яме стонут глухо
- Чудовища, как в страшных снах.
- Свистит боа, скользя над кручей,
- Тигр угрожающе рычит,
- И буйвол фыркает могучий,
- А он пасется или спит.
- Ни стрел, ни острых ассагаев —
- Он не боится ничего,
- И пули меткие сипаев
- Скользят по панцирю его.
- И я в родне гиппопотама:
- Одет в броню моих святынь,
- Иду торжественно и прямо
- Без страха посреди пустынь.
Открытие Америки
Песнь первая
- Свежим ветром снова сердце пьяно,
- Тайный голос шепчет: «Все покинь!»
- Перед дверью над кустом бурьяна
- Небосклон безоблачен и синь,
- В каждой луже запах океана,
- В каждом камне веянье пустынь.
- Мы с тобою, Муза, быстроноги,
- Любим ивы вдоль степной дороги,
- Мерный скрип колес и вдалеке
- Белый парус на большой реке.
- Этот мир, такой святой и строгий,
- Что нет места в нем пустой тоске.
- Ах, в одном божественном движенье
- Косным нам дано преображенье,
- В нем и мы – не только отраженье,
- В нем живым становится, кто жил…
- О, пути земные, сетью жил,
- Розой вен вас Бог расположил!
- И струится, и поет по венам
- Радостно бушующая кровь;
- Нет конца обетам и изменам,
- Нет конца веселым переменам,
- И отсталых подгоняют вновь
- Плетью боли Голод и Любовь.
- Дикий зверь бежит из пущей в пущи,
- Краб ползет на берег при луне,
- И блуждает ястреб в вышине, —
- Голодом и Страстью всемогущей
- Все больны, – летящий и бегущий,
- Плавающий в черной глубине.
- Веселы, нежданны и кровавы
- Радости, печали и забавы
- Дикой и пленительной земли;
- Но всего прекрасней жажда славы,
- Для нее родятся короли,
- В океанах ходят корабли.
- Что же, Муза, нам с тобою мало,
- Хоть нежны мы, быть всегда вдвоем!
- Скорбь о высшем в голосе твоем:
- Хочешь, мы с тобою уплывем
- В страны нарда, золота, коралла
- В первой каравелле Адмирала?
- Видишь? город… веянье знамен…
- Светит солнце, яркое, как в детстве,
- С колоколен раздается звон,
- Провозвестник радости, не бедствий,
- И над портом, словно тяжкий стон,
- Слышен гул восторга и приветствий.
- Где ж Колумб? Прохожий, укажи! —
- «В келье разбирает чертежи
- С нашим старым приором Хуаном;
- В этих прежних картах столько лжи,
- А шутить не должно с океаном
- Даже самым смелым капитанам».
- Сыплется в узорное окно
- Золото и пурпур повечерий,
- Словно в зачарованной пещере,
- Сон и явь сливаются в одно,
- Время тихо, как веретено
- Феи-сказки дедовских поверий.
- В дорогой кольчуге Христофор,
- Старый приор в праздничном убранстве,
- А за ними поднимает взор
- Та, чей дух – крылатый метеор,
- Та, чей мир в святом непостоянстве,
- Чье названье – Муза Дальних Странствий.
- Странны и горды обрывки фраз:
- «Путь на юг? Там был уже Диас!»…
- – Да, но кто слыхал его рассказ?.. —
- «…У страны Великого Могола
- Острова»… – Но где же? Море голо.
- Путь на юг… – «Сеньор! А Марко Поло?»
- Вот взвился над старой башней флаг,
- Постучали в дверь – условный знак, —
- Но друзья не слышат. В жарком споре —
- Что для них отлив, растущий в море!..
- Столько не разобрано бумаг,
- Столько не досказано историй!
- Лишь когда в сады спустилась мгла,
- Стало тихо и прохладно стало,
- Муза тайный долг свой угадала,
- Подошла и властно адмирала,
- Как ребенка, к славе увела
- От его рабочего стола.
Песнь вторая
- Двадцать дней, как плыли каравеллы,
- Встречных волн проламывая грудь;
- Двадцать дней, как компасные стрелы
- Вместо карт указывали путь
- И как самый бодрый, самый смелый
- Без тревожных снов не мог заснуть.
- И никто на корабле, бегущем
- К дивным странам, заповедным кущам,
- Не дерзал подумать о грядущем;
- В мыслях было пусто и темно;
- Хмуро измеряли лотом дно,
- Парусов чинили полотно.
- Астрологи в вечер их отплытья
- Высчитали звездные событья,
- Их слова гласили: «Все обман».
- Ветер слева вспенил океан,
- И пугали ужасом наитья
- Темные пророчества гитан.
- И напрасно с кафедры прелаты
- Столько обещали им наград,
- Обещали рыцарские латы,
- Царства обещали вместо платы,
- И про золотой индийский сад
- Столько станц гремело и баллад…
- Все прошло, как сон! А в настоящем —
- Смутное предчувствие беды,
- Вместо славы тяжкие труды
- И под вечер – призраком горящим,
- Злобно ждущим и жестоко мстящим —
- Солнце в бездне огненной воды.
- Хозе помешался и сначала
- С топором пошел на адмирала,
- А потом забился в дальний трюм
- И рыдал… Команда не внимала,
- И несчастный помутневший ум
- Был один во власти страшных дум.
- По ночам садились на канаты
- И шептались – а хотелось выть:
- «Если долго вслед за солнцем плыть,
- То беды кровавой не избыть:
- Солнце в бездне моется проклятой,
- Солнцу ненавистен соглядатай!»
- Но Колумб забыл бунтовщиков,
- Он молчит о лени их и пьянстве;
- Целый день на мостике готов,
- Как влюбленный, грезить о пространстве;
- В шуме волн он слышит сладкий зов,
- Уверенья Музы Дальних Странствий.
- И пред ним смирялись моряки:
- Так над кручей злобные быки
- Топчутся, их гонит пастырь горный,
- В их сердцах отчаянье тоски,
- В их мозгу гнездится ужас черный,
- Взор свиреп… и все ж они покорны!
- Но не в город и не под копье
- Смуглым и жестоким пикадорам
- Адмирал холодным гонит взором
- Стадо оробелое свое,
- А туда, в иное бытие,
- К новым, лучшим травам и озерам.
- Если светел мудрый астролог,
- Увидал безвестную комету;
- Если, новый отыскав цветок,
- Мальчик под собой не чует ног;
- Если выше счастья нет поэту,
- Чем придать нежданный блеск сонету;
- Если как подарок нам дана
- Мыслей неоткрытых глубина,
- Своего не знающая дна,
- Старше солнц и вечно молодая…
- Если смертный видит отсвет рая,
- Только неустанно открывая, —
- То Колумб светлее, чем жених
- На пороге радостей ночных,
- Чудо он духовным видит оком,
- Целый мир, неведомый пророкам,
- Что залег в пучинах голубых,
- Там, где запад сходится с востоком.
- Эти воды Богом прокляты!
- Этим страшным рифам нет названья!
- Но навстречу жадного мечтанья
- Уж плывут, плывут, как обещанья,
- В море ветви, травы и цветы,
- В небе птицы странной красоты.
Песнь третья
- – Берег, берег!.. – И чинивший знамя
- Замер, прикусив зубами нить,
- А державший голову руками
- Сразу не посмел их отпустить.
- Вольный ветер веял парусами,
- Каравеллы продолжали плыть.
- Кто он был, тот первый, светлоокий,
- Что, завидев с палубы высокой
- В диком море остров одинокий,
- Закричал, как коршуны кричат?
- Старый кормщик, рыцарь иль пират,
- Ныне он Колумбу – младший брат!
- Что один исчислил по таблицам,
- Чертежам и выцветшим страницам,
- Ночью угадал по вещим снам, —
- То увидел в яркий полдень сам
- Тот, другой, подобный зорким птицам,
- Только птицам, Муза, им и нам.
- Словно дети, прыгают матросы,
- Я так счастлив… нет, я не могу…
- Вон журавль смешной и длинноносый
- Полетел на белые утесы,
- В синем небе описав дугу,
- Вот и берег… мы на берегу.
- Престарелый, в полном облаченье,
- Патер совершил богослуженье,
- Он молил: «О Боже, не покинь
- Грешных нас…» – кругом звучало пенье,
- Медленная, медная латынь
- Породнилась с шумами пустынь.
- И казалось, эти же поляны
- Нам не раз мерещились в бреду…
- Так же на змеистые лианы
- С криками взбегали обезьяны;
- Цвел волчец; как грешники в аду,
- Звонко верещали какаду…
- Так же сладко лился в наши груди
- Аромат невиданных цветов,
- Каждый шаг был так же странно нов,
- Те же выходили из кустов,
- Улыбаясь и крича о чуде,
- Красные, как медь, нагие люди.
- Ах! не грезил с нами лишь один,
- Лишь один хранил в душе тревогу,
- Хоть сперва, склонясь, как паладин
- Набожный, и он молился Богу,
- Хоть теперь целует прах долин,
- Стебли трав и пыльную дорогу.
- Как у всех матросов, грудь нага,
- В левом ухе медная серьга
- И на смуглой шее нить коралла,
- Но уста (их тайна так строга),
- Взор, где мысль гореть не перестала,
- Выдали нам, Муза, адмирала.
- Он печален, этот человек,
- По морю прошедший как по суше,
- Словно шашки, двигающий души
- От родных селений, мирных нег
- К диким устьям безымянных рек…
- Что он шепчет!.. Муза, слушай, слушай!
- «Мой высокий подвиг я свершил,
- Но томится дух, как в темном склепе.
- О Великий Боже, Боже Сил,
- Если я награду заслужил,
- Вместо славы и великолепий,
- Дай позор мне, Вышний, дай мне цепи!
- Крепкий мех так горд своим вином,
- Но когда вина не стало в нем,
- Пусть хозяин бросит жалкий ком!
- Раковина я, но без жемчужин,
- Я поток, который был запружен, —
- Спущенный, теперь уже не нужен».
- Да! Пробудит в черни площадной
- Только смех бессмысленно-тупой,
- Злость в монахах, ненависть в дворянстве
- Гений, обвиненный в шарлатанстве!
- Как любовник для игры иной,
- Он покинут Музой Дальних Странствий…
- Я молчал, закрыв глаза плащом.
- Как струна, натянутая туго,
- Сердце билось быстро и упруго,
- Как сквозь сон я слышал, что подруга
- Мне шепнула: «Не скорби о том,
- Кто Колумбом назван… Отойдем!»
Очень точно сказал С. Маковский: «Эти стихи (вошедшие в сборник «Чужое небо») написаны вскоре после возвращения Гумилева из африканского путешествия. Помню, он был одержим впечатлениями от Сахары и подтропического леса и с мальчишеской гордостью показывал свои «трофеи» – вывезенные из «колдовской» страны Абиссинии слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, напоминающие большеголовые романские примитивы. Только и говорил об опасных охотах, о чернокожих колдунах и о созвездиях южного неба – там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» «на дереве древнем Евразии…»
Но рецензии на новый сборник были куда более сдержанными, нежели на «Жемчуга». Похвала В.Я. Брюсова, который отдал в обзоре, посвященном ни много, ни мало, пятидесяти новым сборникам стихов, страничку «Чужому небу», вряд ли и похвала, скорее это замаскированный выпад. Рецензент заметил, что третья книга стихов (так обозначено автором) в действительности – четвертая, напоминая Гумилеву о сборнике, им старательно забываемом. Далее следует констатация: «По-прежнему холодные, но всегда продуманные стихи Н. Гумилева оставляют впечатление работ художника одаренного, любящего свое искусство, знакомого со всеми тайнами его техники. Н. Гумилев не учитель, не проповедник; значение его стихов гораздо больше в том, как он говорит, нежели в том, что он говорит». Вывод уничижительный: «Гумилев пишет и будет писать прекрасные стихи: не будем спрашивать с него больше, чем он может нам дать…»
Это была месть за то, что Гумилев не только заявил о смерти символизма, но и создал новую литературную школу, которую сам возглавил. Потому В.Я. Брюсов и отмечает, что Гумилев не учитель и не проповедник, следовательно – кого и чему он может научить, что в силах проповедовать? В.Я. Брюсов был настолько недоволен этим восстанием молодых литераторов, что посвятил акмеизму отдельную статью, доказывая – способным поэтам А. Ахматовой, С. Городецкому, Н. Гумилеву надо бросить вредные фантазии и заниматься писанием стихов, это у них хорошо получается.
Уже без каких-либо обиняков как неудачу расценил «Чужое небо» Б. Садовской. Сравнение, использованное им для наглядности, выразительно – бриллианты Тэта неотличимы от настоящих, но все же это стекляшки, и не более того. То же и со стихами Гумилева: «И недаром книга г. Гумилева называется «Чужое небо» в ней все чужое, все заимствованное, мертворожденное, высосанное из пальца. Чего только не придумывает г. Гумилев, чтобы походить на поэта! Спазмами сочинительства он думает искупить роковое отсутствие вдохновения и таланта». Примеры, взятые рецензентом из стихов Гумилева, приводить не стоит, надо лишь заметить, что слабых строк, а то и вовсе несуразностей в сборнике хватает. Однако оценка зависит от того, что хочет отыскать ценитель, на чем сосредоточивает свое внимание. Б. Садовской открыто необъективен. Зато отзыв М. Кузмина – почти лестный.
Лев в пустыне. Неизвестный абиссинский художник. нач. XX в.
Полемика вокруг стихов Гумилева, полярность оценок означали, что Гумилев стал в литературном мире вполне реальной величиной, с которой надо либо считаться, либо бороться, правильнее – и то, и другое.
Когда сборник «Чужое небо» увидел свет, Гумилев и А. Ахматова были в Италии. Однако так вышло – ехали они заграницу вместе, а оказались в разных городах. Гумилев жил без жены во Флоренции.
Флоренция
- О сердце, ты неблагодарно!
- Тебе – и розовый миндаль,
- И горы, вставшие над Арно,
- И запах трав, и в блеске даль.
- Но, тайновидец дней минувших,
- Твой взор мучительно следит
- Ряды в бездонном потонувших,
- Тебе завещанных обид.
- Тебе нужны слова иные,
- Иная, страшная пора.
- …Вот грозно встала Синьория,
- И перед нею два костра.
- Один, как шкура леопарда,
- Разнообразен, вечно нов.
- Там гибнет «Леда» Леонардо
- Средь благовоний и шелков.
- Другой, зловещий и тяжелый,
- Как подобравшийся дракон,
- Шипит: «Вотще Савонаролой
- Мой дом державный потрясен».
- Они ликуют, эти звери,
- А между них, потупя взгляд,
- Изгнанник бледный, Алигьери
- Стопой неспешной сходит в Ад.
А. Ахматова жила без мужа в Риме.
Рим
- Волчица с пастью кровавой
- На белом, белом столбе,
- Тебе, увенчанной славой,
- По праву привет тебе.
- С тобой младенцы, два брата,
- К сосцам стремятся припасть.
- Они не люди, волчата,
- У них звериная масть.
- Не правда ль, ты их любила,
- Как маленьких, встарь, когда,
- Рыча от бранного пыла,
- Сжигали они города.
- Когда же в царство покоя
- Они умчались, как вздох,
- Ты, долго и страшно воя,
- Могилу рыла для трех.
- Волчица, твой город тот же
- У той же быстрой реки.
- Что мрамор высоких лоджий,
- Колонн его завитки,
- И лик Мадонн вдохновенный,
- И храм святого Петра,
- Покуда здесь неизменно
- Зияет твоя нора,
- Покуда жесткие травы
- Растут из дряхлых камней
- И смотрит месяц кровавый
- Железных римских ночей?!
- И город цезарей дивных,
- Святых и великих пап,
- Он крепок следом призывных,
- Косматых звериных лап.
Жизненные пути их все более расходились, хотя до окончательного расставания было пока далеко. Признаем, что поведение Гумилева зачастую предосудительно, так к близкому человеку не относятся. «Отстаивая свою «свободу», он на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до поздней ночи и даже не утаивал своих «побед»… Ахматова страдала глубоко. В ее стихах, тогда написанных, но появившихся в печати несколько позже (вошли в сборники «Вечер» и «Четки»), звучит и боль от ее заброшенности, и ревнивое томление по мужу…» – свидетельство мемуариста, увы, достойно доверия.
Вернувшись из заграницы, Гумилев отправился в Слепнево, ему необходимо было работать. После возвращения из Слепнева в августе пришлось поселиться в меблированных комнатах «Белград» в Петербурге. Дом в Царском Селе летом сдавался дачникам.
А. Ахматовой до родов оставались считанные дни. С ее слов потом записывает то, как развивались события, П. Лукницкий: «АА и Николай Степанович находились тогда в Ц[арском] С[еле]. АА проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного. Еще толчки. Тогда АА заплела косы и разбудила Николая Степановича: «Кажется, надо ехать в Петербург». С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 ч. утра были уже в родильном доме на Васильевском острове.
А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к АА с поздравлениями. АА узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит и Николай Степанович, с «лжесвидетелем». Поздравляет. Очень смущен».
Между тем С. Маковский приводит подробности уж совсем отвратительные: «Тяжелые роды прошли ночью в одной из петербургских клиник. Был ли доволен Гумилев этим «прибавлением семейства»? От его троюродного брата Д.В. Кузьмина-Караваева (в священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении к «брачным узам», кутил до утра с троюродным братом, шатаясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о жене по телефону, пил в обществе каких-то девиц. По словам отца Дмитрия, все это имело вид неумно-самолюбивой позы, было желанием не быть «как все»…»
Мальчика, родившегося 18 сентября 1912 года в родильном приюте императрицы Александры Федоровны, расположенном на 18-й линии Васильевского острова, назвать решили Львом. Это свидетельствует, в частности, и о том, что родовую фамилию поэт все же, несмотря на некоторую неприязнь к этому факту, воспринимал с ударением на первом слоге, а «Гумилев» с ударением на слоге последнем так и оставалось псевдонимом (в противном случае, имя, выбранное для сына, могло бы представляться в высшей степени странным, почти насмешкой, рифмованной дразнилкой, тогда как при ударении на первом слоге появлялось благородное «эхо», но не рифма).
Наверное, уместно здесь вспомнить разговор, который состоялся между Гумилевым и В. Срезневской, подругой А. Ахматовой: «Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах мужчин и женщин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина, – полигамист, а настоящая женщина моногамична». – «А вы такую женщину знаете?» – спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», – смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что это больно, промолчала.
У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца… Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так».
В. Срезневская оправдывает и Гумилева, и, конечно, А. Ахматову. И если поведение этой супружеской пары можно назвать странным, а можно – вполне обычным, то оправдание это, без всякого сомнения, анекдотично.
В том же 1912 году Гумилев начал вновь посещать университет. Юриспруденция была оставлена, теперь Гумилев ходит на семинары В.Ф. Шишмарева и Д.К. Петрова, преподававших на историко-филологическом факультете.
«Кружок романо-германистов», которым руководил профессор Д.К. Петров, был создан по почину Гумилева и занимались там изучением старофранцузской поэзии. «Кружком изучения поэтов», возникшим, опять-таки, гумилевскими стараниями, руководил профессор И.И. Толстой. На одном из занятий кружка Гумилев сделал доклад о творчестве Т. Готье, высоко им ценимого. Гумилев изучает латинский и английский языки. И супружеская чета даже сняла другую комнату, чтобы до университета было ближе.
С октября месяца начинает выходить журнал «Гиперборей», издателем которого стал поэт М. Лозинский, а вдохновителем и фактическим руководителем – Гумилев. Журнал представлял «Цех поэтов».
Но и «Цех поэтов», и сам Гумилев, и акмеизм воспринимались вовсе не однозначно. Например, А. Ахматова, ссылаясь на мнение критика и поэта Н. Недоброво, мнение крайне отрицательное, во многом была с ним солидарна: «Недоброво: акмеизм – это личные черты творчества Николая Степановича. Чем отличаются стихи акмеистов от стихов, скажем, начала XIX века? Какой же это акмеизм? Реакция на символизм просто потому, что символизм под руку попадался. Николай Степанович – если вчитаться – символист. Мандельштам: его поэзия – темная, непонятная для публики, византийская, при чем же здесь акмеизм? Ахматова: те же черты, которые дают ей Эйхенбаум и другие, – эмоциональность, экономия слов, насыщенность, интонация – разве все это было теорией Николая Степановича? Это есть у каждого поэта XIX века, и при чем же здесь акмеизм? С. Городецкий: во-первых, очень плохой поэт, во-вторых, он был сначала мистическим анархистом, потом – теории Вяч. Иванова, потом – акмеист, потом «Лукоморье» и «патриотические» стихи, а теперь – коммунист. У него своей индивидуальности нет. В 1913 – 1914 годах уже нам было странно, что Городецкий – синдик «Цеха», как-то странно… В «Цехе» все были равноправны, спорили. Не было такого «начальства». Гумилева или кого-нибудь. Мало вышло? Уже Гумилева, Мандельштама – достаточно. В «Цехе» 25 человек – значит, 1 на 10 вышел, а у Случевского было человек 40 – и никого. А из «Звучащей раковины» или 3-го «Цеха» разве вышел кто-нибудь?»
Но Гумилева интересуют не только литература и литераторы. Среди тех, с кем он много и охотно общается в этот период, ученые В. Шилейко (впоследствии второй муж А. Ахматовой) и В. Срезневский. А беседа с врачом русского отряда Красного креста А. Кохановским, прибывшим из Африки (он посетил Гумилева), вновь напомнила о том, о чем, собственно, он и не забывал – об этом далеком и манящем континенте.
Гумилев начал готовиться к новой поездке, об этом имеется короткая запись в его «африканском дневнике»: «Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.
Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару».
Заседание «Цеха поэтов»: Н. Клюев, М. Лозинский, А. Ахматова, М. Зенкевич. Рисунок С. Городецкого, 1913 г.
На сей раз Гумилев ехал в Африку, имея командировку от Музея антропологии и этнографии. Впрочем, денег было ассигновано совсем немного, и Гумилеву пришлось добавлять из скудных своих средств. Первоначальный маршрут, все из-за той же нехватки денег, был заменен на другой. Вместе с Н. Сверчковым, или Колей-младшим, племянником, Гумилев отправляется в Одессу, откуда 10 апреля путешественники вышли на пароходе. Путь их лежал в Джибути. Это был уже не просто порыв, это было осмысленное и долго чаемое действие.
В начале очерка «Африканская охота» дано описание Африки, как представлялась она путешественникам и как запечатлена художниками: «На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда, всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера».
По мнению Гумилева, образ этот абсолютно схож с тем, что видит побывавший в Африке, и решительно отличается от того, что может себе представить европеец, мирно устроившийся у себя дома (знания его, следует добавить, почерпнуты исключительно из колониальных романов, жанра как занимательного, так и слишком искусственного, где чаемое выдается за действительное, а и верно действительное остается вне поля зрения).
«Борьба человека с природой», по выражению Гумилева (насколько созвучна эта посылка с утверждениями всякого рода покорителей природы советской эпохи и насколько не схожи выводы, сделанные в том и другом случае), итак, борьба отнюдь не кончилась, и африканские просторы, на которых властвуют звери, а вовсе не люди, самое веское тому подтверждение. «И в то же время, – добавляет он, – нельзя сказать, что Африка не гостеприимна, – ее леса равно открыты для белых, как и для черных, к ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Но она ждет именно гостей и никогда не признает их хозяевами».
Впрочем, трудно назвать хозяйским то отношение, с которым относились к живому тогдашние (о нынешних и не говорю) охотники. Достаточно прочитать описание ловли акулы из того же «африканского дневника». Дело происходило в Джедде: «Пока агент компании приготовлял разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишком часа длилось напряженное ожидание.
То акул совсем не было видно, то они проплыли так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.
Акула очень близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу. Наконец в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо огорченная исчезновеньем аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усильями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигалось то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови».
Н. Сверчков. Фотография, 1914—1915 гг.
Все для того, чтобы отрубить у акулы челюсти, из которых потом вываривают зубы, а тушу сбросить обратно за борт. А бедная рыбка лоцман все выпрыгивала и выпрыгивала из воды, не находя акулу, с которой она плавала неразлучно.
В сцене этой запрятаны, зашифрованы и Первая мировая война, с неосознанными, тупыми массами солдат, истребляющими друг друга на фронте, и даже Вторая мировая, с Майданеком и Освенцимом. Потребовалось целых две войны, чтобы люди если и не стали умнее, то задумались о том, что есть человечность. Однако – все это потом. Пока на дворе 1913 год.
Описывать путешествие нет возможности, поскольку сейчас «африканский дневник», долгое время считавшийся пропавшим, опубликован, лучше самому заглянуть в него и узнать, как переправлялись через реку Уаби, битком набитую крокодилами, как пытались искать золото, как изнемогали от лихорадки.
Кроме материалов по культуре и фольклору, кроме различных экспонатов, сданных потом в Музей этнографии, Гумилев привез стихи. Они могут заменить пространные описания и научные отчеты.
Африканская ночь
- Полночь сошла, непроглядная темень,
- Только река от луны блестит,
- А за рекой неизвестное племя,
- Зажигая костры, шумит.
- Завтра мы встретимся и узнаем,
- Кому быть властителем этих мест;
- Им помогает черный камень,
- Нам – золотой нательный крест.
- Вновь обхожу я бугры и ямы,
- Здесь будут вещи, мулы – тут.
- В этой унылой стране Сидамо
- Даже деревья не растут.
- Весело думать: если мы одолеем —
- Многих уже одолели мы, —
- Снова дорога желтым змеем
- Будет вести с холмов на холмы.
- Если же завтра волны Уэби
- В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
- Мертвый, увижу, как в бледном небе
- С огненным черный борется бог.
Вернувшись, Гумилев опять занялся литературными трудами, но не только. Он посещает концерты, ходит в театры, встречается с приятелями. В этом году Россию посетил знаменитый бельгийский поэт Э. Верхарн, и Гумилев чествовал его вместе с другими литераторами.
1913 год закончился на невеселой ноте – вышел последний номер журнала «Гиперборей». Выпуск его прекратился. Проблема прежняя – нехватка денег.
Наступивший год многое переменил в жизни Гумилева. 6 января он познакомился с Татианой Адамович, сестрой начинающего поэта Георгия Адамовича. Знакомство это перешло в отношения, которые длились несколько лет и про которые знали многие.
Адамович не была красавицей, но, по словам А. Ахматовой, «была интересной». Была ли она умна – неведомо, а вот деловитой, ловкой в жизненных вопросах, по-видимому, была, и Гумилев, кажется, это недооценивал, упоминая свысока в разговоре: «Очаровательная… Книги она не читает, но бежит, бежит убрать их в свой шкаф. Инстинкт зверька».
Такой знаток поэзии и попросту умник, как Георгий Адамович, мог научить сестру и разбираться в стихах, и умно о них рассуждать на людях.
Татиана Адамович оказывала на Гумилева влияние столь сильное, что он решил даже на ней жениться и предложил А. Ахматовой развод. Та немедленно согласилась, но когда мать Гумилева узнала и об их разговоре, и о том, что А. Ахматова поставила условием – сын должен оставаться с ней, то заявила – этого не будет, внук останется с бабушкой, так и сказала в присутствии и невестки, и сына: «Я тебе правду скажу. Леву я больше Ани и больше тебя люблю…» Так тема была закрыта. Речь о разводе больше не заводили.
Кроме прочего, Адамович, отношения с которой продолжались, нюхала эфир. С ней Гумилев возобновил оставленные было психоделические опыты. Считается, что и рассказ «Путешествие в страну эфира» во многом навеян поездкой Гумилева летом 1914 года в Вильно, где отдыхала Татиана.
В начале марта вышел сборник Т. Готье «Эмали и камеи», который перевел Гумилев («Готианская комиссия», чья работа была посвящена творчеству того же автора, организованная Гумилевым, появилась чуть раньше).
Отклики на книгу оказались едва ли не единодушно положительными, А. Левинсон даже назвал перевод «бесценным» и «лучшим памятником этой поры в жизни Гумилева».
Справедливости ради следует напомнить, что С. Маковский приводил в мемуарах и некоторые забавные подробности, связанные с гумилевскими переводами. Гумилев, вспоминает он: «По-французски кое-как понимал, но в своих переводах французов (напр. Теофиля Готье) поражал иногда невероятными ляпсусами. Помню, принес он как-то один из своих переводов. Предпоследнюю строку в стихотворении Готье «La mansarde» (где сказано о старухе у окна – «devant Minet, qu'elle chapitre»), он перевел: «Читала из Четьи-Минеи»… Так и было опубликовано, за что переводчика жестоко высмеял Андрей Левинсон в «Речи».
Тем не менее Гумилев стихи Т. Готье ставил очень высоко, искренне ими восхищаясь, а свои переводы из этого мастера ценил, даже поместил их в сборнике «Чужое небо» рядом с собственными оригинальными стихами.
Гумилев умел ценить прекрасное. Недаром посвятил он стихи балерине Т. Карсавиной, воспевая ее непревзойденное искусство.
- Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно,
- Вы улыбнулись рассеянно и отказали бесстрастно.
- Любит высокое небо и древние звезды поэт.
- Часто он пишет баллады, но редко ходит в балет.
- Грустно пошел я домой, чтоб смотреть в глаза тишине,
- Ритмы движений небывших звенели и пели во мне.
- Только так сладко знакомая вдруг расцвела тишина,
- Словно приблизилась тайно иль стала солнцем луна;
- Ангельской арфы струна порвалась, и мне слышится звук;
- Вижу два белые стебля высоко закинутых рук,
- Губы ночные, подобные бархатным красным цветам…
- Значит, танцуете все-таки вы, отказавшая там!
- В синей тунике из неба ночного затянутый стан
- Вдруг разрывает стремительно залитый светом туман,
- Быстро змеистые молнии легкая чертит нога.
- – Видит, наверно, такие виденья блаженный Дега,
- Если за горькое счастье и сладкую муку свою
- Принят он в сине-хрустальном высоком Господнем раю.
- …Утром проснулся, и утро вставало в тот день лучезарно,
- Был ли я счастлив? Но сердце томилось тоской благодарной.
Балерина, отказавшаяся танцевать в кабаре «Бродячая собака», все же согласилась на то, чтобы здесь, в кабаре, прошел ее юбилейный вечер. Торжества состоялись 26 марта 1914 года, специально к ним приуроченный, выпущен сборник, где было воспроизведено и факсимиле стихов Гумилева, посвященных балерине. О вечере этом, на котором присутствовал Гумилев, рассказывал впоследствии С. Судейкин: «Восемнадцатый век – музыка Куперена. «Элементы природы» в постановке Бориса Романова, наше трио на старинных инструментах. Сцена среди зала с настоящими деревянными амурами 18-го столетия, стоявшими на дивном голубом ковре той же эпохи, при канделябрах. Невиданная интимная прелесть. 50 балетоманов (по 50 рублей место) смотрели затаив дыхание, как Карсавина выпускала живого ребенка-амура из клетки, сделанной из настоящих роз».
Но весна 1914 года памятна не только приятными событиями. Весной этой произошел полный разрыв с С. Городецким. Обмен письмами ни к чему не привел, стало окончательно ясно, что прежний союз невозможен. С уходом С. Городецкого, одного из «синдиков», распался и «Цех поэтов».
Т. Карсавина. Художник В. Серов, 1909 г.
Впрочем, в скором времени произошли события куда более важные. Началась Первая мировая война. Гумилев, в отличие от многих и многих других литераторов, не пытался увильнуть от призыва, спастись от фронта. Он знал, как ему следует поступить.
Упоминавшийся выше А. Левинсон, хороший знакомый Гумилева, мемуарист, достойный доверия, вспоминал: «Наступила война, а с нею для Гумилева военная страда. Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности».
Сложность заключалась в том, что еще в 1907 году Гумилев был освобожден от службы из-за проблем со зрением. Ему необходимо было выхлопотать разрешение стрелять с левого плеча. И он разрешение это, пусть не сразу, но получил. Гумилев пошел на войну добровольцем, что означало – род войск он может выбрать сам. Гумилев выбрал кавалерию.
Незадолго до всех этих перипетий он ездил в Слепнево, где простился с семьей, оттуда в сопровождении А. Ахматовой приехал в Петербург.
Впереди – Новгород, где Гумилев проходил учебный курс. В конце сентября, зачисленный в эскадрон лейб-гвардии уланского Ее Величества полка, Гумилев отправляется на передовую.
Войну Гумилев принял не только как гражданин, патриот, но и как поэт. Военные стихи его, вошедшие затем в сборник «Колчан», в высшей степени примечательны. Взять, хотя бы, стихотворение «Война», посвященное М.М. Чичагову, командиру взвода, в котором служил Гумилев.
- Как собака на цепи тяжелой,
- Тявкает за лесом пулемет,
- И жужжат шрапнели, словно пчелы,
- Собирая ярко-красный мед.
- А «ура» вдали – как будто пенье
- Трудный день окончивших жнецов.
- Скажешь: это – мирное селенье
- В самый благостный из вечеров.
- И воистину светло и свято
- Дело величавое войны,
- Серафимы, ясны и крылаты,
- За плечами воинов видны.
- Тружеников, медленно идущих
- На полях, омоченных в крови,
- Подвиг сеющих и славу жнущих,
- Ныне, Господи, благослови.
- Как у тех, что гнутся над сохою,
- Как у тех, что молят и скорбят,
- Их сердца горят перед Тобою,
- Восковыми свечками горят.
- Но тому, о Господи, и силы
- И победы царский час даруй,
- Кто поверженному скажет: «Милый,
- Вот, прими мой братский поцелуй!»
Не надо напоминать, что восковые свечи – вещь дорогая. Они, в отличие от распространенных в народе сальных, давали более чистое пламя. Вследствие того что стоили они недешево, восковые свечи являлись символом достатка или праздника, когда грешно было скупиться.
Вопрос в другом. Почему за плечами воинов видны серафимы? Что это, символ грядущей победы, ее залог?
Не знаю, случайное ли это совпадение, но схожий образ возник у совершенно иного автора, но такого же визионера, каким был и Гумилев. 29 сентября 1914 года в газете «Ивнинг ньюс» появился рассказ А. Макена «Лучники». В рассказе этом (написанном в очерковой манере, а потому воспринятом всеми как репортаж с места событий) говорилось о сражении, разыгравшемся 23-24 августа 1914 года под городом Монс или по-фламандски Берген (дело происходило в Бельгии). Британские экспедиционные силы были атакованы 1-й германской армией, втрое превосходящей англичан по численности – против 70 тысяч человек воевало около 200 тысяч. И все же англичане смогли избежать окружения и разгрома. А. Макен описал некоторые подробности сражения, которого не видел (он сам обо всем узнал из газет) и упомянул, что неожиданно в самый трудный момент англичане заметили: на их стороне против немцев сражаются небесные лучники, благодаря им англичане и смогли выстоять в этом бою. Образ, придуманный А. Макеном, не просто приобрел популярность, потом и сами участники сражения утверждали, что видели небесное воинство, поражающее стрелами врагов. Легенда об ангелах Монса стала одной из самых известных легенд XX века.
Николай Гумилев. 1914 г.
И если уж речь зашла о совпадениях и перекличках, то скажу, что попытки представить, будто поэзия Гумилева не оказала влияния на стихи советских поэтов – попытки напрасные. Хрестоматийные строки М. Кульчицкого содержат не просто прямую отсылку к первоисточнику, они развивают образ, заимствованный у Гумилева. Образ вырастает и становится символом, основой мировоззрения.
- Война ж совсем не фейерверк,
- А просто трудная работа,
- Когда, черна от пота, вверх
- Скользит по пахоте пехота.
Борозды, которые оставляют в размокшей земле оскальзывающиеся ноги, ждут посевов, политые солдатской кровью и солдатским потом. Тяжесть военных будней такова, что к ним подходит слово «страда», слово, определяющее самую тяжкую пору для земледельца.
Другие стихи Гумилева, также вошедшие в сборник «Колчан», не менее конкретны, хотя конкретность эта совсем иная: не ощущения, а точной детали, причем до того точной, что стихотворение впервые увидело свет с изъятиями, цензура не пропустила строк, где сказано о голоде.
Град обреченный. Литография Н. Гончаровой, 1914 г.
Наступление
- Та страна, что могла быть раем.
- Стала логовищем огня,
- Мы четвертый день наступаем,
- Мы не ели четыре дня.
- Но не надо яства земного
- В этот страшный и светлый час,
- Оттого что Господне слово
- Лучше хлеба питает нас.
- И залитые кровью недели
- Ослепительны и легки,
- Надо мною рвутся шрапнели,
- Птиц быстрей взлетают клинки.
- Я кричу, и мой голос дикий.
- Это медь ударяет в медь,
- Я, носитель мысли великой,
- Не могу, не могу умереть.
- Словно молоты громовые
- Или воды гневных морей,
- Золотое сердце России
- Мерно бьется в груди моей.
- И так сладко рядить Победу,
- Словно девушку, в жемчуга,
- Проходя по дымному следу
- Отступающего врага.
Наступление русских войск и бои под Владиславовом, происходившие в октябре 1914 года, описаны Гумилевым не только в стихах. Письмо от 1 ноября, адресованное М.Л. Лозинскому, рассказывает о том же, и я не думаю, что рассказ отличается от стихов большим прозаизмом, тональность письма приподнятая: «Пишу тебе уже ветераном, много раз побывавшим в разведках, много раз обстрелянным и теперь отдыхающим в зловонной ковенской чайной. Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступлении, я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие. Дежурил в обстреливаемом Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охранении, ночью срывался с места, заслыша ворчание подкрадывающегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следовании отряда по Германии. В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мне мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, – я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка. Однако бывает и реакция, и минута затишья – в то же время минута усталости и скуки. Я теперь знаю, что успех зависит совсем не от солдат, солдаты везде одинаковы, а только от стратегических расчетов – а то бы я предложил общее и энергичное наступление, которое одно поднимает дух армии. При наступленьи все герои, при отступленьи все трусы – это относится и к нам, и к германцам».
Гумилев. Силуэт Е. Кругликовой, 1910-е гг.
Следует подчеркнуть, две последних фразы, чего вовсе не подразумевал автор письма, заключают как бы аксиомы, поскольку абсолютно иные люди, независимо от Гумилева (а он независимо от них), высказывали нечто подобное. К. Клаузевиц, теоретик военного дела, служивший в армиях разных государств, иронично заметил: нет на свете ни одной армии, где бы не говорили, что их солдаты – самые лучшие в мире, а М. Зощенко, отвечая на вопрос – каковы же люди по своей сути, хорошие или плохие, не без меланхолии заявил, что в хорошие времена – люди хорошие, в плохие времена – плохие, а в ужасные времена – они ужасные.
Пишет Гумилев письма и жене, хотя к тому моменту они с А. Ахматовой, кажется, были связаны только узами брака и чувствами дружескими, физически они близки уже не были. Дневник, который ведет Гумилев, превратится впоследствии в «Записки кавалериста» (фрагменты в качестве отдельных корреспонденций публиковались в газете «Биржевые ведомости»).
Отзыв о Гумилеве его сослуживца ротмистра Ю. Янишевского, необычайно лестный: «Гумилев был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый и в боях заработал два креста. Был он очень хороший рассказчик и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне – у нас обоих была любовь к природе и скитаниям. И это нас быстро сдружило. Когда я ему рассказал о бродяжничествах на лодке, пешком и на велосипеде, он сказал: «Такой человек мне нужен, когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар…» Увы! Все это оказалось лишь мечтами».
Георгиевским крестом 4-й степени был награжден Гумилев в январе 1915 года, в том же январе получил звание унтер-офицера.
Командированный по делам в Петроград, Гумилев становится центром внимания. Его чествуют в кабаре «Бродячая собака». В афише, датированной 27 января 1915 года, объявлено, что, кроме Гумилева, который выступит со стихами, в вечере будут участвовать А. Ахматова, С. Городецкий, М. Кузмин, Г. Иванов, О. Мандельштам, П. Потемкин, Тэффи.
Это было последнее посещение А. Ахматовой кабаре «Бродячая собака», она вскоре ушла и больше там не бывала.
А. Ахматова и Н. Гумилев с сыном Львом. 1915 г.
После возвращения на фронт вновь начались военные будни. Гумилев участвовал в боях, регулярно ходил в разведку. Были сильные морозы, во время одного из разъездов Гумилев сильно застудился, несколько дней он еще оставался в строю, но затем, после обращения к полковому врачу, его отправили на лечение. В десятых числах марта он прибывает в Петроград. Поместили его в лазарет деятелей искусств, расположенный на Введенской улице. Следующие два месяца он находится либо в лазарете, либо дома в Царском Селе. С периодом этим связаны два стихотворения, посвященные А. Бенуа, дочери известного архитектора, которая работала в лазарете.
Сестре милосердия
- Нет, не думайте, дорогая,
- О сплетеньи мышц и костей,
- О святой работе, о долге…
- Это сказки для детей.
- Под попреки санитаров
- И томительный бой часов
- Сам собой поправится воин,
- Если дух его здоров.
- И вы верьте в здоровье духа,
- В молньеносный его полет,
- Он от Вильны до самой Вены
- Неуклонно нас доведет.
- О подругах в серьгах и кольцах,
- Обольстительных вдвойне
- От духов и притираний,
- Вспоминаем мы на войне.
- И мечтаем мы о подругах,
- Что проходят сквозь нашу тьму
- С пляской, музыкой и пеньем
- Золотой дорогой муз.
- Говорили об англичанке,
- Песней славшей мужчин на бой
- И поцеловавшей воина
- Пред восторженной толпой.
- Эта девушка с открытой сцены,
- Нарумянена, одета в шелк,
- Лучше всех сестер милосердия
- Поняла свой юный долг.
- И мечтаю я, чтоб сказали
- О России, стране равнин:
- – Вот страна прекраснейших женщин
- И отважнейших мужчин.
Ответ сестры милосердия
«…омочу бебрян рукав в Каяле реце, утру князю кровавые его раны на жестоцем теле».
Плач Ярославны
- Я не верю, не верю, милый,
- В то, что вы обещали мне.
- Это значит – вы не видали
- До сих пор меня во сне.
- И не знаете, что от боли
- Потемнели мои глаза.
- Не понять вам на бранном поле,
- Как бывает горька слеза.
- Нас рождали для муки крестной,
- Как для светлого счастья вас,
- Каждый день, что для вас воскресный,
- То день страдания для нас.
- Солнечное утро битвы,
- Зов трубы военной – вам,
- Но покинутые могилы
- Навещать годами нам.
- Так позвольте теми руками,
- Что любили вы целовать,
- Перевязывать ваши раны,
- Воспаленный лоб освежать.
- То же делает и ветер,
- То же делает и вода,
- И не скажет им: «Не надо» —
- Одинокий раненый тогда.
- А когда с победой славной
- Вы вернетесь из чуждых сторон,
- То бебрян рукав Ярославны
- Будет реять среди знамен.
Хотя Гумилев был признан негодным к службе, он добился переосвидетельствования, после чего отправился вновь на фронт.
За участие в одном из июньских боев Гумилев был представлен к Георгиевскому кресту 3-й степени (награда получена 25 декабря 1915 года).