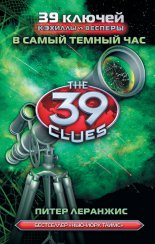Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания Гумилев Николай
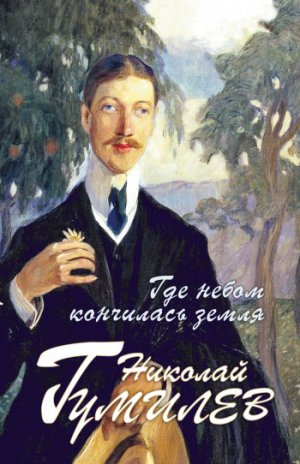
Стоит ли жить, когда процесс преображения закончен? Каждый решает сам.
Лютой зимой 1919 года во время приезда в Москву (несколько петроградских поэтов должны были выступить со стихами) случился у Гумилева мгновенный роман с Ольгой Мочаловой, с которой познакомился он еще в Массандре, в году 1916. Но опять поведение Гумилева спровоцировало резкий разрыв. Он относился к покоренной девушке, будто к своей собственности, не понимая, что вновь на его пути встретилась натура еще более твердая, нежели его собственная.
Мочалова вспоминала впоследствии, что ей были посвящены, либо с их мгновенным романом связаны такие вещи Гумилева, как стихи «Ольга», «Канцона вторая», «Мои читатели», а также «Поэма начала» и стихотворение «Я сам над собой насмеялся…».
Может быть, насчет первого из перечисленных стихотворений она ошибается. Исследователи утверждают, что стихи эти обращены к О. Арбениной-Гильдебрандт. Зато в стихах «Мои читатели» отразился один из реальных эпизодов этой поездки. В Союзе поэтов за Гумилевым не отставая ходил какой-то бородатый, мощного сложения человек и читал одно за другим его стихи, причем читал не для того, чтобы услышали, а сам по себе, бормоча, как в молитвенном экстазе. Когда Гумилев поинтересовался – кто же этот странный незнакомец, тот представился: Блюмкин.
Гумилев был восхищен. Убить посла – невелика заслуга, сказал он, но то, что сделано это среди белого дня, в толпе людей, замечательно.
Рядом с этим, вполне фантастическим, эпизодом вряд ли может показаться фантастикой, что в столь неподходящее – голодное и безумно холодное – время был восстановлен «Цех поэтов», хотя восстановлен на особый лад.
Николай Чуковский рассказывал: «Восстановленный «Цех поэтов» был как бы штабом Гумилева. В него входили только самые близкие, самые проверенные. «Цех» был восстановлен в восемнадцатом году и вначале – на самой узкой основе. Из дореволюционных акмеистов в него не входили ни Ахматова, ни Зенкевич, ни Городецкий, ни Мандельштам. (Из этих четверых одна только Ахматова в то время находилась в Петрограде.) Первоначально членами «Нового цеха» были только Гумилев, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Николай Оцуп и Всеволод Рождественский. Потом была принята Ирина Одоевцева – взамен изгнанного Всеволода Рождественского. К началу 21-го года членами «Цеха» стали С. Нельдихен и Конст. Вагинов. Но настоящим штабом был не весь «Цех», а только четверо: Гумилев, Иванов, Адамович и Одоевцева. Только они были соединены настоящей дружбой. Остальные были не друзья, а «нужность»».
О. Мочалова. Фотография, 1930 гг.
Возникшая в 1921 году литературная студия «Звучащая раковина» стала равным образом и продолжением «Цеха поэтов», «молодежной» его частью, и преемницей студии при Доме искусств, поскольку основные участники этого объединения прежде посещали семинар, который вел в студии Гумилев.
Наиболее деятельными участникам новой студии были сестры Наппельбаум, дочери знаменитого фотографа. В принципе, «Звучащая раковина» больше напоминала литературный салон, а не творческое объединение, но там давали чай и даже тонюсенькие бутерброды, и хотя бы по одной этой причине следует вспоминать ее с благодарностью. Ида Наппельбаум, едва ли не молившаяся на Гумилева, рассказывала много позднее: «В конце зимы 1921 года мы почувствовали необходимость в создании Объединения. Имя ему придумал сам мэтр. «Звучащая Раковина», – сказал он после некоторого размышления. Не каждому из нас оно пришлось по вкусу: некоторым казалось, что мы уже течение, литературное явление, и вдруг… всего лишь раковина.
Но он был совершенно прав. Пусть каждый поёт на свой лад еще не окрепшим голосом. Это еще не оркестр. И все же «Звучащая Раковина» уже несет в себе отзвуки великого океана Поэзии».
Думаю, это было не самое худшее время в жизни Гумилева. Его не просто любили – боготворили, он пользовался абсолютной благосклонностью своих студисток, что дало возможность А. Ахматовой говорить потом о «гареме», где Гумилев почитался наподобие турецкого шаха. По приглашению командующего военно-морскими силами республики контр-адмирала А.В. Немитца, в адмиральском вагоне путешествует он на юг, окруженный роскошью, попивая вино.
Я. Блюмкин. Фотография, 1920-е гг.
Афиша, 1920 г.
А в Севастополе встречает он восторженного почитателя – военного моряка С. Колбасьева, который в короткий срок, путями решительно неведомыми, издает сборник «Шатер». Автор получил несколько экземпляров, а тираж привез в Петроград позднее сам Колбасьев.
На обратном пути Гумилев посещает в Ростове «Театральную мастерскую», где поставили спектакль по пьесе «Гондла». Заведение это в высшей степени интересное – со студией работали художник М. Сарьян, композитор М. Гнесин, играли тут Е. Шварц (в будущем писатель) и такие своеобразные актеры, как А. Костомолоцкий и Г. Тусузов. Актриса З. Шубина, выступавшая под фамилией Болдырева, рассказывала: «Однажды вечером мы собрались в театре, и вдруг входит мужчина и представляется: «Я – автор «Гондлы», Гумилев». Можете представить наше состояние. Онемели. Гумилев просил нас показать спектакль, но сезон окончен – ни декораций, ни осветителей, ни бутафоров. Спектакль показать нельзя. Мы предложили читать отрывки. Антон Шварц играл и читал Гондлу, здесь же присутствовала и Г.Н. Халайджиева… играющая Леру. Началось чтение, обсуждения, разговоры на литературную тему. Гумилев пришел в восторг. «Я вас здесь не оставлю, перевезу в Петроград». Ему надо было ехать на вокзал. Мы пошли его провожать… Халайджиева сказала Гумилеву: «Поклянитесь, что вы нас не забудете». Гумилев торжественно поднял руку и сказал: «Клянусь».
«Театральная мастерская» действительно переехала в Петроград, но, увы, только после гибели Гумилева.
«Звучащая раковина»
С. Колбасьев. Фотография, 1918 г.
Арест его был для всех полной неожиданностью, ибо никаких причин для ареста не имелось. В. Ходасевич вспоминал об этих днях: «В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда я пошел проститься кое с кем из соседей по Дому искусств. Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома… Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увели. Итак, я был последним, кто видел его на воле…»
Рассуждать о том, участвовал ли Гумилев в так называемом «Заговоре Таганцева» и какие цели ставили перед собой заговорщики, нет смысла, поскольку не было и никакого заговора. Тем не менее известно, что на допросах и в тюрьме Гумилев вел себя смело и с достоинством. Оправдываться и просить о снисхождении даже в таком опасном положении считал недопустимым.
Такой смелостью могли похвастаться отнюдь не все. Это нетрудно понять со слов той же Иды Наппельбаум: «Через некоторое время после ареста Гумилева ко мне пришла его вторая жена Анна Николаевна Энгельгардт (Аничка, как мы ее называли) и попросила меня относить Николаю Степановичу в тюрьму передачи.
«Мне это опасно, – сказала она, – а Вам – это ничего, можно». Хотя я и понимала, что все наоборот, но сделала то, о чем она попросила.
Однажды в окошке, куда я сдавала передачи, мне сказали, что больше приносить не нужно. Удивленная и испуганная я пошла вечером на Литейный в «Дом Мурузи», где тогда собирались литераторы разных направлений, отозвала в сторону Н. Оцупа и поделилась с ним своими волнениями. Он страшно побледнел и сказал мне дрогнувшим голосом, что ходят слухи о расстреле людей, арестованных по делу Таганцева.
Гумилев. Фотография из следственного дела, 1921 г.
И через несколько дней мы с моей подругой, будущей писательницей Ниной Берберовой, стояли, в ужасе прижавшись друг к другу, и читали на стене дома на Литейном проспекте лист со списком расстрелянных. В нем было имя поэта. Спустя некоторое время ко мне пришла Анна Николаевна и подарила этот портсигар, сказав: «Вы единственная, кто его заслужил». Он был мне хорошо знаком, этот портсигар. Я всегда видела его в руках мэтра на занятиях в Доме искусств, с ним у меня связано было много воспоминаний. И я горда и счастлива, что через годы бедствий мне удалось сберечь эту вещь, хранящую тепло рук поэта».
Гумилев был расстрелян 27 августа 1921 года. Пока он находился в тюрьме, вышел сборник «Огненный столп» с посвящением Анне Николаевне Гумилевой, жене.
Из сборника «Огненный столп»
Память
- Только змеи сбрасывают кожи,
- Чтоб душа старела и росла.
- Мы, увы, со змеями не схожи,
- Мы меняем души, не тела.
- Память, ты рукою великанши
- Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
- Ты расскажешь мне о тех, что раньше
- В этом теле жили до меня.
- Самый первый: некрасив и тонок,
- Полюбивший только сумрак рощ,
- Лист опавший, колдовской ребенок,
- Словом останавливавший дождь.
- Дерево да рыжая собака —
- Вот кого он взял себе в друзья,
- Память, память, ты не сыщешь знака,
- Не уверишь мир, что то был я.
- И второй… Любил он ветер с юга,
- В каждом шуме слышал звоны лир,
- Говорил, что жизнь – его подруга,
- Коврик под его ногами – мир.
- Он совсем не нравится мне, это
- Он хотел стать богом и царем,
- Он повесил вывеску поэта
- Над дверьми в мой молчаливый дом.
- Я люблю избранника свободы,
- Мореплавателя и стрелка.
- Ах, ему так звонко пели воды
- И завидовали облака.
- Высока была его палатка,
- Мулы были резвы и сильны,
- Как вино, впивал он воздух сладкий
- Белому неведомой страны.
- Память, ты слабее год от году,
- Тот ли это или кто другой
- Променял веселую свободу
- На священный долгожданный бой.
- Знал он муки голода и жажды.
- Сон тревожный, бесконечный путь.
- Но святой Георгий тронул дважды
- Пулею не тронутую грудь.
- Я – угрюмый и упрямый зодчий
- Храма, восстающего во мгле.
- Я возревновал о славе Отчей,
- Как на небесах, и на земле.
- Сердце будет пламенем палимо
- Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
- Стены Нового Иерусалима
- На полях моей родной страны.
- И тогда повеет ветер странный
- И прольется с неба страшный свет:
- Это Млечный Путь расцвел нежданно
- Садом ослепительных планет.
- Предо мной предстанет, мне неведом,
- Путник, скрыв лицо; но всё пойму,
- Видя льва, стремящегося следом,
- И орла, летящего к нему.
- Крикну я… но разве кто поможет.
- Чтоб моя душа не умерла?
- Только змеи сбрасывают кожи,
- Мы меняем души, не тела.
Лес
- В том лесу белесоватые стволы
- Выступали неожиданно из мглы,
- Из земли за корнем корень выходил,
- Точно руки обитателей могил.
- Под покровом ярко-огненной листвы
- Великаны жили, карлики и львы,
- И следы в песке видали рыбаки
- Шестипалой человеческой руки.
- Никогда сюда тропа не завела
- Пэра Франции иль Круглого Стола,
- И разбойник не гнездился здесь в кустах,
- И пещерки не выкапывал монах.
- Только раз отсюда в вечер грозовой
- Вышла женщина с кошачьей головой,
- Но в короне из литого серебра,
- И вздыхала и стонала до утра,
- И скончалась тихой смертью на заре.
- Перед тем как дал причастье ей кюре.
- Это было, это было в те года.
- От которых не осталось и следа.
- Это было, это было в той стране,
- О которой не загрезишь и во сне.
- Я придумал это, глядя на твои
- Косы – кольца огневеющей змеи.
- На твои зеленоватые глаза,
- Как персидская больная бирюза.
- Может быть, тот лес – душа твоя.
- Может быть, тот лес – любовь моя,
- Или, может быть, когда умрем,
- Мы в тот лес направимся вдвоем.
Слово
- В оный день, когда над миром новым
- Бог склонял лицо свое, тогда
- Солнце останавливали словом,
- Словом разрушали города.
- И орел не взмахивал крылами,
- Звезды жались в ужасе к луне,
- Если, точно розовое пламя,
- Слово проплывало в вышине.
- А для низкой жизни были числа.
- Как домашний, подъяремный скот,
- Потому что все оттенки смысла
- Умное число передает.
- Патриарх седой, себе под руку
- Покоривший и добро и зло,
- Не решаясь обратиться к звуку,
- Тростью на песке чертил число.
- Но забыли мы, что осиянно
- Только слово средь земных тревог,
- И в Евангелии от Иоанна
- Сказано, что слово – это Бог.
- Мы ему поставили пределом
- Скудные пределы естества,
- И, как пчелы в улье опустелом,
- Дурно пахнут мертвые слова.
Душа и тело
I
- Над городом плывет ночная тишь,
- И каждый шорох делается глуше,
- А ты, душа, ты все-таки молчишь.
- Помилуй, Боже, мраморные души.
- И отвечала мне душа моя,
- Как будто арфы дальние пропели:
- «Зачем открыла я для бытия
- Глаза в презренном человечьем теле?
- Безумная, я бросила мой дом,
- К иному устремясь великолепью,
- И шар земной мне сделался ядром,
- К какому каторжник прикован цепью.
- Ах, я возненавидела любовь.
- Болезнь, которой все у вас подвластны,
- Которая туманит вновь и вновь
- Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.
- И если что еще меня роднит
- С былым, мерцающим в планетном хоре,
- То это горе, мой надежный щит,
- Холодное презрительное горе».
II
- Закат из золотого стал как медь.
- Покрылись облака зеленой ржою,
- И телу я сказал тогда: «Ответь
- На всё провозглашенное душою».
- И тело мне ответило мое,
- Простое тело, но с горячей кровью:
- «Не знаю я, что значит бытие,
- Хотя и знаю, что зовут любовью.
- Люблю в соленой плескаться волне.
- Прислушиваться к крикам ястребиным,
- Люблю на необъезженном коне
- Нестись по лугу, пахнущему тмином.
- И женщину люблю… Когда глаза
- Ее потупленные я целую,
- Я пьяно, будто близится гроза,
- Иль будто пью я воду ключевую.
- Но я за всё, что взяло и хочу,
- За все печали, радости и бредни,
- Как подобает мужу, заплачу
- Непоправимой гибелью последней».
III
- Когда же слово Бога с высоты
- Большой Медведицею заблестело,
- С вопросом: «Кто же, вопрошатель, ты?»
- Душа предстала предо мной и тело.
- На них я взоры медленно вознес
- И милостиво дерзостным ответил:
- «Скажите мне, ужель разумен пес,
- Который воет, если месяц светел?
- Ужели вам допрашивать меня.
- Меня, кому единое мгновенье —
- Весь срок от первого земного дня
- До огненного светопреставленья?
- Меня, кто, словно древо Игдразиль,
- Пророс главою семью семь вселенных
- И для очей которого, как пыль,
- Поля земные и поля блаженных?
- Я тот, кто спит, и кроет глубина
- Его невыразимое прозванье,
- А вы, вы только слабый отсвет сна,
- Бегущего на дне его сознанья!»
Канцона первая
- Закричал громогласно
- В сине-черную гонь
- На дворе моем красный
- И пернатый огонь.
- Ветер милый и вольный,
- Прилетевший с луны,
- Хлещет дерзко и больно
- По щекам тишины.
- И, вступая на кручи,
- Молодая заря
- Кормит жадные тучи
- Ячменем янтаря.
- В этот час я родился,
- В этот час и умру,
- И зато мне не снился
- Путь, ведущий к добру.
- И уста мои рады
- Целовать лишь одну,
- Ту, с которой не надо
- Улетать в вышину.
Канцона вторая
- И совсем не в мире мы, а где-то
- На задворках мира средь теней.
- Сонно перелистывает лето
- Синие страницы ясных дней.
- Маятник, старательный и грубый,
- Времени непризнанный жених,
- Заговорщицам секундам рубит
- Головы хорошенькие их.
- Так пыльна здесь каждая дорога,
- Каждый куст так хочет быть сухим,
- Что не приведет единорога
- Под уздцы к нам белый серафим.
- И в твоей лишь сокровенной грусти,
- Милая, есть огненный дурман,
- Что в проклятом этом эахолустьи
- Точно ветер из далеких стран.
- Там, где всё сверканье, всё движенье.
- Пенье всё, – мы там с тобой живем.
- Здесь же только наше отраженье
- Полонил гниющий водоем.
Подражанье персидскому
- Из-за слов твоих, как соловьи,
- Из-за слов твоих, как жемчуга,
- Звери дикие – слова мои,
- Шерсть на них, клыки у них, рога.
- Я ведь безумным стал, красавица.
- Ради щек твоих, ширазских роз.
- Краску щек моих утратил я,
- Ради золотых твоих волос
- Золото мое рассыпал я.
- Нагим и голым стал, красавица.
- Для того чтоб посмотреть хоть раз,
- Бирюза – твой взор или берилл,
- Семь ночей не закрывал я глаз,
- От дверей твоих не отходил.
- С глазами, полными крови, стал, красавица.
- Оттого что дома ты всегда,
- Я не выхожу из кабака,
- Оттого что честью ты горда,
- Тянется к ножу моя рука.
- Площадным негодяем стал, красавица.
- Если солнце есть и вечен Бог,
- То перешагнешь ты мой порог.
Персидская миниатюра
- Когда я кончу наконец
- Игру в cache-cache со смертью хмурой,
- То сделает меня Творец
- Персидскою миниатюрой.
- И небо точно бирюза,
- И принц, поднявший еле-еле
- Миндалевидные глаза
- На взлет девических качелей.
- С копьем окровавленным шах,
- Стремящийся тропой неверной
- На киноварных высотах
- За улетающею серной.
- И ни во сне, ни наяву
- Не виданные туберозы,
- И сладким вечером в траву
- Уже наклоненные лозы.
- А на обратной стороне,
- Как облака Тибета чистой.
- Носить отрадно будет мне
- Значок великого артиста.
- Благоухающий старик,
- Негоциант или придворный,
- Взглянув, меня полюбит вмиг
- Любовью острой и упорной.
- Его однообразных дней
- Звездой я буду путеводной.
- Вино, любовниц и друзей
- Я заменю поочередно.
- И вот когда я утолю
- Без упоенья, без страданья
- Старинную мечту мою —
- Будить повсюду обожанье.
Шестое чувство
- Прекрасно в нас влюбленное вино
- И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
- И женщина, которою дано,
- Сперва измучившись, нам насладиться.
- Но что нам делать с розовой зарей
- Над холодеющими небесами,
- Где тишина и неземной покой.
- Что делать нам с бессмертными стихами?
- Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
- Мгновение бежит неудержимо,
- И мы ломаем руки, но опять
- Осуждены идти всё мимо, мимо.
- Как мальчик, игры позабыв свои,
- Следит порой за девичьим купаньем
- И, ничего не зная о любви,
- Всё ж мучится таинственным желаньем;
- Как некогда в разросшихся хвощах
- Ревела от сознания бессилья
- Тварь скользкая, почуя на плечах
- Еще не появившиеся крылья, —
- Так век за веком – скоро ли, Господь? —
- Под скальпелем природы и искусства
- Кричит наш дух, изнемогает плоть,
- Рождая орган для шестого чувства.
Слоненок
- Моя любовь к тебе сейчас – слоненок,
- Родившийся в Берлине иль Париже
- И топающий ватными ступнями
- По комнатам хозяина зверинца.
- Не предлагай ему французских булок,
- Не предлагай ему кочней капустных,
- Он может съесть лишь дольку мандарина,
- Кусочек сахара или конфету.
- Не плачь, о нежная, что в тесной клетке
- Он сделается посмеяньем черни,
- Чтоб в нос ему пускали дым сигары
- Приказчики под хохот мидинеток.
- Не думай, милая, что день настанет,
- Когда, взбесившись, разорвет он цепи
- И побежит по улицам, и будет,
- Как автобус, давить людей вопящих.
- Нет, пусть тебе приснится он под утро
- В парче и меди, в страусовых перьях,
- Как тот, Великолепный, что когда-то
- Нес к трепетному Риму Ганнибала.
Заблудившийся трамвай
- Шел я по улице незнакомой
- И вдруг услышал вороний грай,
- И звоны лютни, и дальние громы, —
- Передо мною летел трамвай.
- Как я вскочил на его подножку,
- Было загадкою для меня,
- В воздухе огненную дорожку
- Он оставлял и при свете дня.
- Мчался он бурей темной, крылатой,
- Он заблудился в бездне времен…
- Остановите, вагоновожатый,
- Остановите сейчас вагон.
- Поздно. Уж мы обогнули стену,
- Мы проскочили сквозь рощу пальм,
- Через Неву, через Нил и Сену
- Мы прогремели по трем мостам.
- И, промелькнув у оконной рамы,
- Бросил нам вслед пытливый взгляд
- Нищий старик, – конечно, тот самый,
- Что умер в Бейруте год назад.
- Где я? Так томно и так тревожно
- Сердце мое стучит в ответ:
- «Видишь вокзал, на котором можно
- В Индию Духа купить билет?»
- Вывеска… кровью налитые буквы
- Гласят: «Зеленная», – знаю, тут
- Вместо капусты и вместо брюквы
- Мертвые головы продают.
- В красной рубашке, с лицом, как вымя.
- Голову срезал палач и мне,
- Она лежала вместе с другими
- Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
- А в переулке забор дощатый,
- Дом в три окна и серый газон…
- Остановите, вагоновожатый,
- Остановите сейчас вагон.
- Машенька, ты здесь жила и пела,
- Мне, жениху, ковер ткала,
- Где же теперь твой голос и тело,
- Может ли быть, что ты умерла?
- Как ты стонала в своей светлице,
- Я же с напудренною косой
- Шел представляться Императрице
- И не увиделся вновь с тобой.
- Понял теперь я: наша свобода
- Только оттуда бьющий свет,
- Люди и тени стоят у входа
- В зоологический сад планет.
- И сразу ветер знакомый и сладкий,
- И за мостом летит на меня
- Всадника длань в железной перчатке
- И два копыта его коня.
- Верной твердынею православья
- Врезан Исакий в вышине,
- Там отслужу молебен о здравье
- Машеньки и панихиду по мне.
- И всё ж навеки сердце угрюмо,
- И трудно дышать, и больно жить…
- Машенька, я никогда не думал,
- Что можно так любить и грустить.
Ольга
- «Эльга, Эльга!» – звучало над полями,
- Где ломали друг другу крестцы
- С голубыми, свирепыми глазами
- И жилистыми руками молодцы.
- «Ольга, Ольга!» – вопили древляне
- С волосами желтыми, как мед,
- Выцарапывая в раскаленной бане
- Окровавленными ногтями ход.
- И за дальними морями чужими
- Не уставала звенеть,
- То же звонкое вызванивая имя,
- Варяжская сталь в византийскую медь.
- Все забыл я, что помнил ране,
- Христианские имена,
- И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани
- Слаще самого старого вина.
- Год за годом всё неизбежней
- Запевают в крови века,
- Опьянен я тяжестью прежней
- Скандинавского костяка.
- Древних ратей воин отсталый,
- К этой жизни затая вражду,
- Сумасшедших сводов Валгаллы,
- Славных битв и пиров я жду.
- Вижу череп с брагой хмельною,
- Бычьи розовые хребты,
- И валькирией надо мною,
- Ольга, Ольга, кружишь ты.
У цыган
- Толстый, качался он как в дурмане,
- Зубы блестели из-под хищных усов,
- На ярко-красном его доломане
- Сплетались узлы золотых шнуров.
- Струна… и гортанный вопль… и сразу
- Сладостно так заныла кровь моя,
- Так убедительно поверил я рассказу
- Про иные, родные мне края.
- Вещие струны – это жилы бычьи,
- Но горькой травой питались быки,
- Гортанный голос – жалобы девичьи
- Из-под зажимающей рот руки.
- Пламя костра, пламя костра, колонны
- Красных стволов и оглушительный гик,
- Ржавые листья топчет гость влюбленный —
- Кружащийся в толпе бенгальский тигр.
- Капли крови текут с усов колючих,
- Томно ему, он сыт, он опьянел,
- Ах, здесь слишком много бубнов гремучих,
- Слишком много сладких, пахучих тел.
- Мне ли видеть его в дыму сигарном,
- Где пробки хлопают, люди кричат,
- На мокром столе чубуком янтарным
- Злого сердца отстукивающим такт?
- Мне, кто помнит его в струге алмазном,
- На убегающей к Творцу реке,
- Грозою ангелов и сладким соблазном,
- С кровавой лилией в тонкой руке?
- Девушка, что же ты? Ведь гость богатый,
- Встань перед ним, как комета в ночи.
- Сердце крылатое в груди косматой
- Вырви, вырви сердце и растопчи.
- Шире, всё шире, кругами, кругами
- Ходи, ходи и рукой мани,
- Так пар вечерний плавает лугами,
- Когда за лесом огни и огни.
- Вот струны-быки и слева и справа,
- Рога их – смерть и мычанье – беда,
- У них на пастбище горькие травы,
- Колючий волчец, полынь, лебеда.
- Хочет встать, не может… кремень зубчатый,
- Зубчатый кремень, как гортанный крик,
- Под бархатной лапой, грозно подъятой,
- В его крылатое сердце проник.
- Рухнул грудью, путая аксельбанты,
- Уже ни пить, ни смотреть нельзя,
- Засуетились официанты,
- Пьяного гостя унося.
- Что ж, господа, половина шестого?
- Счет, Асмодей, нам приготовь!
- Девушка, смеясь, с полосы кремневой
- Узким язычком слизывает кровь.
Пьяный дервиш
- Соловьи на кипарисах и над озером луна,
- Камень черный, камень белый, много выпил я вина,
- Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
- «Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!»
- Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера.
- Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра,
- И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
- Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!
- Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
- Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек.
- Ради розовой усмешки и напева одного:
- «Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!»
- Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
- О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
- И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
- «Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!»
- Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
- На высоких кипарисах замолчали соловьи,
- Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
- «Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!»
Леопард
Если убитому леопарду не опалить немедленно усов, дух его будет преследовать охотника.
Абиссинское поверье
- Колдовством и ворожбою
- В тишине глухих ночей
- Леопард, убитый мною,
- Занят в комнате моей.
- Люди входят и уходят,
- Позже всех уходит та,
- Для которой в жилах бродит
- Золотая темнота.
- Поздно. Мыши засвистели,
- Глухо крякнул домовой,
- И мурлычет у постели
- Леопард, убитый мной.
- «По ущельям Добробрана
- Сизый плавает туман,
- Солнце, красное, как рана,
- Озарило Добробран.
- Запах меда и вервены
- Ветер гонит на восток,
- И ревут, ревут гиены,
- Зарывая нос в песок.
- Брат мой, враг мой, ревы слышишь.
- Запах чуешь, видишь дым?
- Для чего ж тогда ты дышишь
- Этим воздухом сырым?
- Нет, ты должен, мой убийца,
- Умереть в стране моей,
- Чтоб я снова мог родиться
- В леопардовой семье».
- Неужели до рассвета
- Мне ловить лукавый зов?
- Ах, не слушал я совета,
- Не спалил ему усов.
- Только поздно! Вражья сила
- Одолела и близка:
- Вот затылок мне сдавила,
- Точно медная, рука…
- Пальмы… С неба страшный пламень
- Жжет песчаный водоем…
- Данакиль припал за камень
- С пламенеющим копьем.
- Он не знает и не спросит,
- Чем душа моя горда,
- Только душу эту бросит,
- Сам не ведая куда.
- И не в силах я бороться,
- Я спокоен, я встаю,
- У жирафьего колодца
- Я окончу жизнь мою.
Молитва мастеров
- Я помню древнюю молитву мастеров:
- Храни нас, Господи, от тех учеников,
- Которые хотят, чтоб наш убогий гений
- Кощунственно искал всё новых откровений.
- Нам может нравиться прямой и честный враг,
- Но эти каждый наш выслеживают шаг.
- Их радует, что мы в борении, покуда
- Петр отрекается и предает Иуда.
- Лишь небу ведомы пределы наших сил,
- Потомством взвесится, кто сколько утаил,
- Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
- Но что мы создали, то с нами посегодня.
- Всем оскорбителям мы говорим привет,
- Превозносителям мы отвечаем – нет!
- Упреки льстивые и гул молвы хвалебный
- Равно для творческой святыни не потребны,
- Вам стыдно мастера дурманить беленой,
- Как карфагенского слона перед войной.
Перстень
- Уронила девушка перстень
- В колодец, в колодец ночной,
- Простирает легкие персты
- К холодной воде ключевой:
- «Возврати мой перстень, колодец,
- В нем красный цейлонский рубин.
- Что с ним будет делать народец
- Тритонов и мокрых ундин?»
- В глубине вода потемнела,
- Послышался ропот и гам:
- «Теплотою живого тела
- Твой перстень понравился нам». —
- «Мой жених изнемог от муки,
- И будет он в водную гладь
- Погружать горячие руки,
- Горячие слезы ронять».
- Над водой показались рожи
- Тритонов и мокрых ундин:
- «С человеческой кровью схожий,
- Понравился нам твой рубин». —
- «Мой жених, он живет с молитвой,
- С молитвой одной о любви.
- Попрошу, и стальною бритвой
- Откроет он вены свои». —
- «Перстень твой, наверно, целебный,
- Что ты молишь его с тоской,
- Выкупаешь такой волшебной
- Ценой – любовью мужской». —
- «Просто золото краше тела
- И рубины красней, чем кровь,
- И доныне я не умела
- Понять, что такое любовь».
Дева-птица
- Пастух веселый
- Поутру рано
- Выгнал коров в тенистые долы
- Броселианы.
- Паслись коровы,
- И песню своих веселий
- На тростниковой
- Играл он свирели.
- И вдруг за ветвями
- Послышался голос, как будто не птичий,
- Он видит птицу, как пламя,
- С головкой милой, девичьей.
- Прерывно пенье,
- Так плачет во сне младенец,
- В черных глазах томленье,
- Как у восточных пленниц.
- Пастух дивится
- И смотрит зорко:
- «Такая красивая птица,
- А стонет так горько».
- Ее ответу
- Он внемлет, смущенный:
- «Мне подобных нету
- На земле зеленой.
- Хоть мальчик-птица,
- Исполненный дивных желаний,
- И должен родиться
- В Броселиане,
- Но злая
- Судьба нам не даст наслажденья;
- Подумай, пастух, должна я
- Умереть до его рожденья.
- И вот мне не любы
- Ни солнце, ни месяц высокий,
- Никому не нужны мои губы
- И бледные щеки.
- Но всего мне жальче,
- Хоть и всего дороже.
- Что птица-мальчик
- Будет печальным тоже.
- Он станет порхать по лугу.
- Садиться на вязы эти
- И звать подругу,
- Которой уж нет на свете.
- Пастух, ты, наверно, грубый,
- Ну что ж, я терпеть умею,
- Подойди, поцелуй мои губы
- И хрупкую шею.
- Ты юн, захочешь жениться,
- У тебя будут дети,
- И память о деве-птице
- Долетит до иных столетий».
- Пастух вдыхает запах
- Кожи, солнцем нагретой,
- Слышит, на птичьих лапах
- Звенят золотые браслеты.
- Вот уже он в исступленья,
- Что делает, сам не знает,
- Загорелые его колени
- Красные перья попирают.
- Только раз застонала птица.
- Раз один застонала,
- И в груди ее сердце биться
- Вдруг перестало.
- Она не воскреснет,
- Глаза помутнели,
- И грустные песни
- Над нею играет пастух на свирели.
- С вечерней прохладой
- Встают седые туманы,
- И гонит он к дому стадо
- Из Броселианы.
Мои читатели
- Старый бродяга в Аддис-Абебе,
- Покоривший многие племена.
- Прислал ко мне черного копьеносца
- С приветом, составленным из моих стихов.
- Лейтенант, водивший канонерки
- Под огнем неприятельских батарей,
- Целую ночь над южным морем
- Читал мне на память мои стихи.
- Человек, среди толпы народа
- Застреливший императорского посла,
- Подошел пожать мне руку,
- Поблагодарить за мои стихи.
- Много их, сильных, злых и веселых,
- Убивавших слонов и людей,
- Умиравших от жажды в пустыне,
- Замерзавших на кромке вечного льда,
- Верных нашей планете,
- Сильной, веселой и злой,
- Возят мои книги в седельной сумке,
- Читают их в пальмовой роще,
- Забывают на тонущем корабле.
- Я не оскорбляю их неврастенией,
- Не унижаю душевной теплотой,
- Не надоедаю многозначительными намеками
- На содержимое выеденного яйца.
- Но когда вокруг свищут пули.
- Когда волны ломают борта,
- Я учу их, как не бояться,
- Не бояться и делать, что надо.
- И когда женщина с прекрасным лицом,
- Единственно дорогим во вселенной,
- Скажет: «Я не люблю вас», —
- Я учу их, как улыбнуться,
- И уйти, и не возвращаться больше.
- А когда придет их последний час,
- Ровный, красный туман застелет взоры,
- Я научу их сразу припомнить
- Всю жестокую, милую жизнь,
- Всю родную, странную землю
- И, представ перед ликом Бога
- С простыми и мудрыми словами,
- Ждать спокойно его суда.
Звездный ужас
- Это было золотою ночью,
- Золотою ночью, но безлунной,
- Он бежал, бежал через равнину,
- На колени падал, поднимался,
- Как подстреленный метался заяц,
- И горячие струились слезы
- По щекам, морщинами изрытым,
- По козлиной старческой бородке.
- А за ним его бежали дети,
- А за ним его бежали внуки,
- И в шатре из небеленой ткани
- Брошенная правнучка визжала.
- «Возвратись, – ему кричали дети,
- И ладони складывали внуки, —
- Ничего худого не случилось:
- Овцы не наелись молочая,
- Дождь огня священного не залил,
- Ни косматый лев, ни зенд жестокий
- К нашему шатру не подходили».
- Черная пред ним чернела круча,
- Старый кручи в темноте не видел,
- Рухнул так, что затрещали кости,
- Так, что чуть души себе не вышиб.
- И тогда еще ползти пытался,
- Но его уже схватили дети,
- За полы придерживали внуки,
- И такое он им молвил слово:
- «Горе! Горе! Страх, петля и яма
- Для того, кто на земле родился,
- Потому что столькими очами
- На него взирает с неба черный
- И его высматривает тайны.
- Этой ночью я заснул, как должно,
- Обернувшись шкурой, носом в землю,
- Снилась мне хорошая корова
- С выменем отвислым и раздутым,
- Под нее подполз я, поживиться
- Молоком парным, как уж, я думал,
- Только вдруг она меня лягнула,
- Я перевернулся и проснулся:
- Был без шкуры я и носом к небу.
- Хорошо еще, что мне вонючка
- Правый глаз поганым соком выжгла,
- А не то, гляди я в оба глаза,
- Мертвым бы остался я на месте.
- Горе! Горе! Страх, петля и яма
- Для того, кто на земле родился».
- Дети взоры опустили в землю,
- Внуки лица спрятали локтями.
- Молчаливо ждали все, что скажет
- Старший сын с седою бородою,
- И такое тот промолвил слово:
- «С той поры, что я живу, со мною
- Ничего худого не бывало,
- И мое выстукивает сердце,
- Что и впредь худого мне не будет,
- Я хочу обоими глазами
- Посмотреть, кто это бродит в небе».
- Вымолвил и сразу лег на землю,
- Не ничком на землю лег, спиною,
- Все стояли затаив дыханье.
- Слушали и ждали очень долго.
- Вот старик спросил, дрожа от страха:
- «Что ты видишь?» – но ответа не дал
- Сын его с седою бородою.
- И когда над ним склонились братья,
- То увидели, что он не дышит,
- Что лицо его, темнее меди,
- Исковеркано руками смерти.
- Ух, как женщины заголосили,
- Как заплакали, завыли дети,
- Старый бороденку дергал, хрипло
- Страшные проклятья выкликая,
- На ноги вскочили восемь братьев,
- Крепких мужей, ухватили луки.
- «Выстрелим, – они сказали, – в небо
- И того, кто бродит там, подстрелим…
- Что нам это за напасть такая?»
- Но вдова умершего вскричала:
- «Мне отмщенье, а не вам отмщенье!
- Я хочу лицо его увидеть,
- Горло перервать ему зубами
- И когтями выцарапать очи».
- Крикнула и брякнулась на землю,
- Но глаза зажмуривши, и долго
- Про себя шептала заклинанья,
- Грудь рвала себе, кусала пальцы.
- Наконец взглянула, усмехнулась
- И закуковала, как кукушка:
- «Лин, зачем ты к озеру? Линойя,
- Хороша печенка антилопы?
- Дети, у кувшина нос отбился,
- Вот я вас! Отец, вставай скорее,
- Видишь, зенды с ветками омелы
- Тростниковые корзины тащат,
- Торговать они идут, не биться.
- Сколько здесь огней, народа сколько!
- Собралось всё племя…
- Славный праздник!»
- Старый успокаиваться начал,
- Трогать шишки на своих коленях.
- Дети луки опустили, внуки
- Осмелели, даже улыбнулись.
- Но когда лежащая вскочила
- На ноги, то все позеленели,
- Все вспотели даже от испуга:
- Черная, но с белыми глазами.
- Яростно она металась, воя:
- «Горе! Горе! Страх, петля и яма!
- Где я? Что со мною? Красный лебедь
- Гонится за мной… Дракон трехглавый
- Крадется… Уйдите, звери, звери!
- Рак, не тронь! Скорей от козерога!»
- И когда она всё с тем же воем,
- С воем обезумевшей собаки,
- По хребту горы помчалась к бездне,
- Ей никто не побежал вдогонку.
- Смутные к шатрам вернулись люди,
- Сели вкруг на скалы и боялись.
- Время шло к полуночи. Гиена
- Ухнула и сразу замолчала.
- И сказали люди: «Тот, кто в небе,
- Бог иль зверь, он, верно, хочет жертвы.
- Надо принести ему телицу
- Непорочную, отроковицу,
- На которую досель мужчина
- Не смотрел ни разу с вожделеньем.
- Умер Гар, сошла с ума Гарайя,
- Дочери их только восемь весен,
- Может быть, она и пригодится».
- Побежали женщины и быстро
- Притащили маленькую Гарру,
- Старый поднял свой топор кремневый,
- Думал – лучше продолбить ей темя,
- Прежде чем она на небо взглянет,
- Внучка ведь она ему, и жалко.
- Но другие не дали, сказали:
- «Что за жертва с теменем долбленым?»
- Положили девочку на камень,
- Плоский черный камень, на котором
- До сих пор пылал огонь священный, —
- Он погас во время суматохи.
- Положили и склонили лица,
- Ждали, вот она умрет и можно
- Будет всем пойти заснуть до солнца.
- Только девочка не умирала,
- Посмотрела вверх, потом направо,
- Где стояли братья, после снова
- Вверх и захотела спрыгнуть с камня.
- Старый не пустил, спросил: «Что видишь?»
- И она ответила с досадой:
- «Ничего не вижу. Только небо
- Вогнутое, черное, пустое
- И на небе огоньки повсюду,
- Как цветы весною на болоте».
- Старый призадумался и молвил:
- «Посмотри еще!» И снова Гарра
- Долго, долго на небо смотрела.
- «Нет, – сказала, – это не цветочки.
- Это просто золотые пальцы
- Нам показывают на равнину,
- И на море, и на горы зендов,
- И показывают, что случилось,
- Что случается и что случится».
- Люди слушали и удивлялись:
- Так не то что дети, так мужчины
- Говорить доныне не умели,
- А у Гарры пламенели щеки,
- Искрились глаза, алели губы.
- Руки поднимались к небу, точно
- Улететь она хотела в небо,
- И она запела вдруг так звонко,
- Словно ветер в тростниковой чаще,
- Ветер с гор Ирана на Евфрате.
- Мелле было восемнадцать весен,
- Но она не ведала мужчины.
- Вот она упала рядом с Гаррой,
- Посмотрела и запела тоже.
- А за Меллой Аха, и за Ахой
- Урр, ее жених, и вот всё племя
- Полегло и пело, пело, пело,
- Словно жаворонки жарким полднем
- Или смутным вечером лягушки.
- Только старый отошел в сторонку,
- Зажимая уши кулаками,
- И слеза катилась за слезою
- Из его единственного глаза.
- Он свое оплакивал паденье
- С кручи, шишки на своих коленях,
- Гара и вдову его, и время
- Прежнее, когда смотрели люди
- На равнину, где паслось их стадо,
- На воду, где пробегал их парус,
- На траву, где их играли дети,
- А не в небо черное, где блещут
- Недоступные чужие звезды.
Обложка альманаха «Звучащая раковина», посвященного памяти Гумилева
На имя Гумилева никто не накладывал запрет. И если старались со временем вспоминать его пореже, то это из личной осторожности. Книги Гумилева выходили некоторое время и после его смерти. Последним сборником стихов на родине стала книга 1922 года.
Из книги «Стихотворения. Посмертный сборник»
Индюк
- На утре памяти неверной
- Я вспоминаю пестрый луг,
- Где царствовал высокомерный,
- Мной обожаемый индюк.
- Была в нем злоба и свобода,
- Был клюв его, как пламя, ал,
- И за мои четыре года
- Меня он остро презирал.
- Ни шоколад, ни карамели,
- Ни ананасная вода
- Меня утешить не умели
- В сознаньи моего стыда.
- И вновь пришла беда большая,
- И стыд, и горе детских лет:
- Ты, обожаемая, злая.
- Мне гордо отвечаешь: «Нет!»
- Но всё проходит в жизни зыбкой
- Пройдет любовь, пройдет тоска,
- И вспомню я тебя с улыбкой,
- Как вспоминаю индюка.
* * *
- Нет, ничего не изменилось
- В природе бедной и простой,
- Всё только дивно озарилось
- Невыразимой красотой.
- Такой и явится, наверно,
- Людская немощная плоть,
- Когда ее из тьмы безмерной
- В час судный воззовет Господь.
- Знай, друг мой гордый, друг мой нежный,
- С тобою, лишь с тобой одной,
- Рыжеволосой, белоснежной,
- Я стал на миг самим собой.
- Ты улыбнулась, дорогая,
- И ты не поняла сама,
- Как ты сияешь и какая
- Вокруг тебя сгустилась мгла.
* * *
- Поэт ленив, хоть лебединый
- В его душе не меркнет день,
- Алмазы, яхонты, рубины
- Стихов ему рассыпать лень.
- Его закон – неутомимо,
- Как скряга, в памяти сбирать
- Улыбки женщины любимой,
- Зеленый взор и неба гладь.
- Дремать Танкредом у Армиды,
- Ахиллом возле кораблей,
- Лелея детские обиды
- На неосмысленных людей.
- Так будьте же благословенны,
- Слова жестокие любви,
- Рождающие огнь мгновенный
- В текущей нектаром крови!
- Он встал. Пегас вознесся быстрый,
- По ветру грива, и летит,
- И сыплются стихи, как искры
- Из-под сверкающих копыт.
Сентиментальное путешествие
I
- Серебром холодной зари
- Озаряется небосвод.
- Меж Стамбулом и Скутари
- Пробирается пароход.
- Как дельфины, пляшут ладьи,
- И так радостно солоны
- Молодые губы твои
- От соленой свежей волны.
- Вот, как рыжая грива льва.
- Поднялись три большие скалы —
- Это Принцевы острова
- Выступают из синей мглы.
- В море просветы янтаря
- И кровавых кораллов лес,
- Иль то розовая заря
- Утонула, сойдя с небес?
- Нет, то просто красных медуз
- Проплывает огромный рой,
- Как сказал нам один француз, —
- Он ухаживал за тобой.
- Посмотри, он идет опять
- И целует руку твою…
- Но могу ли я ревновать —
- Я, который слишком люблю?..
- Ведь всю ночь, пока ты спала,
- Ни на миг не мог я заснуть,
- Всё смотрел, как дивно бела
- С царским кубком схожая грудь.
- И плывем мы древним путем
- Перелетных веселых птиц,
- Наяву, не во сне мы плывем
- К золотой стране небылиц.
II
- Сеткой путаной мачт и рей
- И домов, сбежавших с вершин,
- Поднялся пред нами Пирей,
- Корабельщик старый Афин.
- Паровоз упрямый, пыхти!
- Дребезжи и скрипи, вагон!
- Нам дано наконец прийти.
- Под давно родной небосклон.
- Покрывает июльский дождь
- Жемчугами твою вуаль,
- Тонкий абрис масличных рощ
- Нам бросает навстречу даль.
- Мы в Афинах. Бежим скорей
- По тропинкам и по скалам:
- За оградою тополей
- Встал высокий мраморный храм,
- Храм Палладе. До этих пор
- Ты была не совсем моя.
- Брось в расселину луидор —
- И могучей станешь, как я.
- Ты поймешь, что страшного нет
- И печального тоже нет,
- И в душе твой вспыхнет свет
- Самых вольных Божьих комет.
- Но мы станем одно вдвоем
- В этот тихий вечерний час,
- И богиня с длинным копьем
- Повенчает для славы нас.
III
- Чайки манят нас в Порт-Санд,
- Ветер зной из пустыни донес.
- Остается направо Крит,
- А налево милый Родос.
- Вот широкий Лессепсов мол.
- Ослепительные дома.
- Гул, как будто от роя пчел,
- И на пристани кутерьма.
- Дело важное здесь нам есть —
- Без него был бы день наш пуст —
- На террасе отеля сесть
- И спросить печеных лангуст.
- Ничего нет в мире вкусней
- Розоватого их хвоста,
- Если соком рейнских полей
- Пряность легкая полита.
- Теплый вечер. Смолкает гам,
- И дома в прозрачной тени.
- По утихнувшим площадям
- Мы с тобой проходим одни.
- Я рассказываю тебе,
- Овладев рукою твоей,
- О чудесной, как сон, судьбе,
- О твоей судьбе и моей.
- Вспоминаю, что в прошлом был
- Месяц черный, как черный ад,
- Мы расстались, и я манил
- Лишь стихами тебя назад.
- Только вспомнишь – и нет вокруг
- Тонких пальм, и фонтан не бьет,
- Чтобы ехать дальше на юг.
- Нас не ждет большой пароход.
- Петербургская злая ночь;
- Я один, и перо в руке,
- И никто не может помочь
- Безысходной моей тоске.
- Со стихами грустят листы,
- Может быть, ты их не прочтешь…
- Ах, зачем поверила ты
- В человечью скучную ложь?
- Я люблю, бессмертно люблю
- Все, что пело в твоих словах,
- И скорблю, смертельно скорблю
- О твоих губах-лепестках.
- Яд любви и позор мечты!
- Обессилен, не знаю я —
- Что же сон? Жестокая ты
- Или нежная и моя?
Приглашение в путешествие
- Уедем, бросим край докучный
- И каменные города,
- Где Вам и холодно, и скучно,
- И даже страшно иногда.
- Нежней цветы и звёзды ярче
- В стране, где светит Южный Крест,
- В стране, богатой, словно ларчик
- Для очарованных невест.
- Мы дом построим выше ели,
- Мы камнем выложим углы
- И красным деревом – панели,
- А палисандровым – полы.
- И средь разбросанных тропинок
- В огромном розовом саду
- Мерцанье будет пестрых спинок
- Жуков, похожих на звезду.
- Уедем! Разве Вам не надо
- В тот час, как Солнце поднялось,
- Услышать страшные баллады,
- Рассказы абиссинских роз:
- О древних сказочных царицах,
- О львах в короне из цветов,
- О черных ангелах, о птицах,
- Что гнезда вьют средь облаков.
- Найдем мы старого араба,
- Читающего нараспев
- Стих про Рустэма и Зораба
- Или про занзибарских дев.
- Когда же нам наскучат сказки,
- Двенадцать стройных негритят
- Закружатся пред нами в пляске
- И отдохнуть не захотят.
- И будут приезжать к нам гости,
- Когда весной пойдут дожди,
- В уборах из слоновой кости
- Великолепные вожди.
- В горах, где весело, где ветры
- Кричат, рубить я стану лес —
- Смолою пахнущие кедры,
- Платан, встающий до небес.
- Я буду изменять движенье
- Рек, льющихся по крутизне,
- Указывая им служенье,
- Угодное отныне мне.
- А Вы – Вы будете с цветами,
- И я Вам подарю газель
- С такими нежными глазами,
- Что кажется – поет свирель;
- Иль птицу райскую, что краше
- И огненных зарниц, и роз,
- Порхать над темно-русой Вашей
- Чудесной шапочкой волос.
- Когда же смерть, грустя немного,
- Скользя по роковой меже,
- Войдет и станет у порога, —
- Мы скажем смерти: «Как, уже?»
- И, не тоскуя, не мечтая,
- Пойдем в высокий Божий Рай,
- С улыбкой ясной узнавая
- Повсюду нам знакомый край.
* * *
- Я сам над собой насмеялся
- И сам я себя обманул,
- Когда мог подумать, что в мире
- Есть что-нибудь кроме тебя.
- Лишь белая, в белой одежде,
- Как в пеплуме древних богинь,
- Ты держишь хрустальную сферу
- В прозрачных и тонких перстах.
- А все океаны, все горы,
- Архангелы, люди, цветы —
- Они в хрустале отразились
- Прозрачных девических глаз.
- Как странно подумать, что в мире
- Есть что-нибудь кроме тебя,
- Что сам я не только ночная,
- Бессонная песнь о тебе,
- Но свет у тебя за плечами,
- Такой ослепительный свет,
- Там длинные пламени реют,
- Как два золотые крыла.
К***
- Если встретишь меня, не узнаешь.
- Назовут – едва ли припомнишь.
- Только раз говорил я с тобою,
- Только раз целовал твои руки.
- Но, клянусь, – ты будешь моею,
- Даже если ты любишь другого,
- Даже если долгие годы
- Не удастся тебя мне встретить.
- Я клянусь тебе белым храмом,
- Что мы вместе видели на рассвете,
- В этом храме венчал нас незримо
- Серафим с пылающим взором.
- Я клянусь тебе теми снами,
- Что я вижу теперь каждой ночью,
- И моей великой тоскою
- О тебе в великой пустыне, —
- В той пустыне, где горы вставали,
- Как твои молодые груди,
- И закаты в небе пылали,
- Как твои кровавые губы.
* * *
- С тобой мы связаны одною цепью,
- Но я доволен и пою.
- Я небывалому великолепью
- Живую душу отдаю.
- А ты поглядываешь исподлобья
- На солнце, на меня, на всех.
- Для девичьего твоего незлобья
- Вселенная – пустой орех.
- И всё-то споришь ты, и взоры строги,
- И неудачней с каждым днем
- Замысловатые твои предлоги,
- Чтобы не быть со мной вдвоем.
* * *
- Ветла чернела. На вершине
- Грачи топорщились слегка,
- В долине неба синей-синей
- Паслись, как овцы, облака.
- И ты с покорностью во взоре
- Сказала: «Влюблена я в Вас».
- Кругом трава была, как море,
- Послеполуденный был час.
- Я целовал пыланья лета —
- Тень трав на розовых щеках,
- Благоуханный праздник света
- На бронзовых твоих кудрях.
- И ты казалась мне желанной,
- Как небывалая страна,
- Какой-то край обетованный
- Восторгов, песен и вина.
* * *
- Нет тебя тревожней и капризней,
- Но тебе я предался давно,
- Оттого, что много, много жизней
- Ты умеешь волей слить в одно.
- И сегодня небо было серо,
- День прошел в томительном бреду,
- За окном, на мокром дерне сквера,
- Дети не играли в чехарду.
- Ты смотрела старые гравюры,
- Подпирая голову рукой,
- И смешно-нелепые фигуры
- Проходили скучной чередой.
- Посмотри, мой милый, видишь – птица,
- Вот и всадник, конь его так быстр,
- Но как странно хмурится и злится
- Этот сановитый бургомистр.
- А потом читала мне про принца:
- Был он нежен, набожен и чист,
- И рукав мой кончиком мизинца
- Трогала, повертывая лист.
- Но когда дневные смолкли звуки
- И взошла над городом Луна,
- Ты внезапно заломила руки,
- Стала так мучительно бледна.
- Пред тобой смущенно и несмело
- Я молчал, мечтая об одном:
- Чтобы скрипка ласковая спела
- И тебе о Рае золотом.
* * *
- Пролетела стрела
- Голубого Эрота,
- И любовь умерла,
- И настала дремота.
- В сердце легкая дрожь
- Золотого похмелья,
- Золотого, как рожь,
- Как ее ожерелье.
- Снова лес и поля
- Мне открылись, как в детстве,
- И запутался я
- В этом милом наследстве.
- Легкий шорох шагов,
- И на белой тропинке
- Грузных майских жуков
- Изумрудные спинки.
- Но в душе у меня
- Затаилась тревога,
- Вот прольется, звеня,
- Зов весеннего рога.
- Зорко смотрит Эрот,
- Он не бросил колчана.
- И пылающий рот
- Багровеет, как рана.
* * *
- Перед ночью северной, короткой —
- И за нею зори, словно кровь, —
- Подошла неслышною походкой,
- Посмотрела на меня любовь.
- Отравила взглядом и дыханьем,
- Слаще роз дыханьем – и ушла
- В белый май с его очарованьем,
- В невские слепые зеркала.
- У кого я попрошу совета,
- Как до легкой осени дожить,
- Чтобы это огненное лето
- Не могло меня испепелить?
- Тихий снег засыплет грусть и горе,
- И не будет жалко ничего,
- Будет ветер, будут в Черном море
- Бури кликать друга своего.
- Я скажу ей: «Хочешь, мы уедем
- К небесам, не к белым – к голубым,
- Ничего не скажем мы соседям, —
- Ни твоим, царевна, ни моим?»
- Не откажешься тогда, я знаю…
- Только б лето поскорей прошло,
- Только бы скорей дорогу к Раю
- Милым, хрупким снегом замело.
Два Адама
- Мне странно сочетанье слов – «я сам».
- Есть внешний, есть и внутренний Адам.
- Стихи слагая о любви нездешней,
- За женщиной ухаживает внешний.
- А внутренний, как враг, следит за ним,
- Унылой злобою всегда томим.
- И если внешний хитрыми речами,
- Улыбкой нежной, нежными очами
- Сумеет женщину приворожить,
- То внутренний кричит: «Тому не быть!
- Не знаешь разве ты, как небо сине,
- Как веселы широкие пустыни
- И что другая, дивно полюбя,
- На ангельских тропинках ждет тебя?»
- Но если внешнего напрасны речи
- И женщина с ним избегает встречи,
- Не хочет ни стихов его, ни глаз —
- В безумье внутренний: «Ведь в первый раз
- Мы повстречали ту, что нас обоих
- В небесных приютила бы покоях.
- Ах ты ворона!» Так среди равнин
- Бредут, бранясь, Пьеро и Арлекин.
* * *
- Когда я был влюблен (а я влюблен
- Всегда – в идею, женщину иль запах),
- Мне захотелось воплотить мой сон,
- Причудливей, чем Рим при грешных папах.
- Я нанял комнату с одним окном,
- Приют швеи, иссохшей над машинкой,
- Где, верно, жил облезлый старый гном,
- Питавшийся оброненной сардинкой.
- Я стол к стене подвинул; на комод
- Рядком поставил альманахи «Знанье»,
- Открытки – так, чтоб даже готтентот
- В священное б пришел негодованье.
- Она вошла спокойно и светло,
- Потом остановилась изумленно.
- От ломовых в окне тряслось стекло,
- Будильник тикал злобно-однотонно.
- И я сказал: «Царица, вы одни
- Сумели воплотить всю роскошь мира,
- Как розовые птицы – ваши дни,
- Влюбленность ваша – музыка клавира.
- Ах! Бог Любви, заоблачный поэт,
- Вас наградил совсем особой меткой,
- И нет таких, как вы…» Она в ответ
- Задумчиво кивала мне эгреткой.
- Я продолжал (и резко за стеной
- Звучал мотив надтреснутой шарманки):
- «Мне хочется увидеть вас иной,
- С лицом забытой Богом гувернантки;
- И чтоб вы мне шептали: «Я твоя»,
- Или еще: «Приди в мои объятья».
- О, сладкий холод грубого белья,
- И слезы, и поношенное платье.
- А уходя возьмите денег: мать
- У вас больна иль вам нужны наряды…
- …Мне скучно всё, мне хочется играть
- И вами, и собою – без пощады…»
- Она, прищурясь, поднялась в ответ,
- В глазах светились злоба и страданье:
- «Да, это очень тонко, вы – поэт,
- Но я к вам на минуту… до свиданья!»
- Прелестницы, теперь я научен,
- Попробуйте прийти, и вы найдете
- Духи, цветы, старинный медальон,
- Обри Бердслея в строгом переплете.
* * *
- Временами, не справясь с тоскою
- И не в силах смотреть и дышать,
- Я, глаза закрывая рукою,
- О тебе начинаю мечтать.
- Не о девушке тонкой и томной,
- Как тебя увидали бы все,
- А о девочке тихой и скромной,
- Наклоненной над книжкой Мюссе.
- День, когда ты узнала впервые,
- Что есть Индия, чудо чудес,
- Что есть тигры и пальмы святые —
- Для меня этот день не исчез.
- Иногда ты смотрела на море,
- И над морем сбиралась гроза.
- И совсем настоящее горе
- Наполняло слезами глаза.
- Почему по прибрежьям безмолвным
- Не взноситься дворцам золотым?
- Почему по светящимся волнам
- Не приходит к тебе серафим?
- И я знаю, что в детской постели
- Не спалось вечерами тебе,
- Сердце билось, и взоры блестели,
- О большой ты мечтала судьбе.
- Утонув с головой в одеяле,
- Ты хотела быть солнца светлей,
- Чтобы люди тебя называли
- Счастьем, лучшей надеждой своей.
- Этот мир не слукавил с тобою,
- Ты внезапно прорезала тьму,
- Ты явилась слепящей звездою,
- Но не всем, только мне одному.
- И теперь ты не та, ты забыла
- Все, чем прежде ты вздумала стать…
- Где надежда? Весь мир – как могила.
- Счастье где? Я не в силах дышать.
- И, таинственный твой собеседник,
- Вот, я душу мою отдаю
- За твой маленький смятый передник,
- За разбитую куклу твою.
* * *