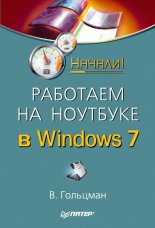Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела Шаламов Варлам
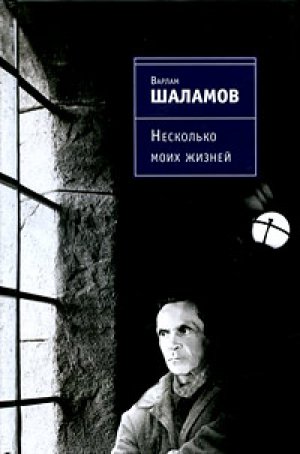
Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобретальня все-человечества». Особой дешевизны в блюдах не было, впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубистские картины (сегодня бы их назвали абстрактивистскими)…
Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» в кружке при ЦК партии.
Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой куртке, с блестящими черными глазами.
В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в библиотеке давали все эмигрантские газеты, приятель, вместе со мной готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им как словарем:
— Скажите, что такое «валовая продукция»?
— Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и скажу.
Анархистом был и Гроссман-Рошин. Огромного роста, страстный спорщик, вечный дискутант всех литературных собраний того времени. Он был литературный критик. Чуть не в каждом номере «На литпосту» появлялись его статьи на литературные темы.
Гроссман-Рошин был видным рапповским оратором. В годы гражданской войны он вместе с другими вождями русского анархизма был в штабе Махно, давая батьке советы по строительству анархистского общества.
Ему было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, в железных очках, которые он иногда снимал и протирал, и большие близорукие голубые глаза его мог видеть каждый.
Литературоведению Гроссман-Рошин оставил термин «организованная путаница». Смысл в этом термине был.
Вышла «Конармия» Бабеля. Встречена она была восторженно. Буденный резко выступил в печати о тени, которую якобы набросил Бабель на конармейцев, но буденновский демарш не имел успеха. Было ясно, что художественное произведение есть прежде всего художественное произведение.
Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в «Лефе», как и некоторые рассказы из «Конармии»… Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше» — были у всех на устах. МХАТ 2-й поставил чудесную пьесу Бабеля «Закат» — о семье одесского биндюжника Менделя Крика, о современном короле Лире, пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский театр готовил еще одну пьесу Бабеля — «Мария». Героини этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но вся пьеса рассказывала о ней, создавала ее образ. Похожий опыт проделал когда-то Гауптман в пьесе «Флориан Гейер», но там Гейер показывался хоть на одну минуту. В «Марии» этот принцип был выдержан полностью.
Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» — о Биробиджане. Был поставлен одноименный фильм, где главную роль играл Михоэлс — актер Еврейского театра, одна из самых привлекательных фигур мира искусства двадцатых годов…
Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чтением своих рассказов редко…
Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения — «пожар, как воскресенье», «девушки, похожие на ботфорты» — имели большой читательский успех, вызвали много подражаний…
В Москву приехал основоположник «телеграфного языка» Джон Дос Пассос, чьи романы «42-я параллель» и «1919» были у нас переведены В. Стеничем (тем самым Стеничем, о котором пишет Блок в дневнике последнего года жизни).
Дос Пассос запомнился мне тем, что он отказался от посещения Большого театра, Эрмитажа и ездил только в рабочие клубы (в клуб им. Кухмистерова и другие), а в Ленинграде — по памятным ленинским местам.
Смело ездил в московских трамваях, а езда в московских трамваях того времени требовала крепкого здоровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повышенного сопротивления.
…РАПП набирал силу. Вышел «Разгром» Фадеева — также встреченный очень хорошо. Все журналы, кроме «Нового Лефа», где О. Брик написал легковесную, но остроумную статью «Разгром Фадеева», поддержали новое произведение.
Вышли «Бруски» Панферова, и Панферов стал редактором «Октября».
«Бруски» успешно соперничали с «Поднятой целиной» Шолохова.
Еще раньше «Поднятой целины» Шолохов написал «Тихий Дон». Вышла первая книга. Это была чудесная проза.
Я очень хотел бы еще раз испытать те же чувства, которые я испытывал при чтении «Тихого Дона». Прочесть «Тихий Дон» впервые — большая радость. Всем было ясно, что пришел писатель очень большой.
Прошло вовсе не замеченным первое выступление Пастернака в прозе — повесть «Детство Люверс» и несколько рассказов. Рассказы были не очень интересными, а повесть замечательна: по емкости каждой фразы, по наполненности, по великой точности наблюдений, по эмоциональности.
Вера Михайловна Инбер появилась на московских литературных эстрадах не в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Париже в 1914 году.
Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи… Место под солнцем Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.
Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:
- У маленького Джонни в улыбке, жесте, тоне
- Так много острых чар,
- И что б ни говорили о баре Пикадилли,
- Но то был славный бар.
Легкость, изящество, с какими В. М. излагала поэтические сюжеты, сделали ее известной по тому времени либреттисткой.
Тогда была мода осовременивать классику на оперной сцене. Старая музыка, новые слова. Вера Михайловна сочинила песенки к «Травиате», где романс Виолетты был подвергнут анализу с новых общественных позиций. «Травиата» как-то не прижилась с новым текстом, но вот «Корневильские колокола», где песенки тоже переписала Инбер, шли не один сезон.
Работала Вера Михайловна много и энергично. «Сороконожки» сделали ее имя широко известным. «Сеттер Джек» и особенно «Васька Свист в переплете» закрепили успех. Этой поэмой Вера Михайловна ответила на всеобщее тогдашнее увлечение уголовной романтикой.
Писала она и великолепную прозу. «Тосик, Мура и „ответственный коммунист“» помнят все. Рассказы эти читались с эстрады. Выступала Вера Михайловна часто, охотно и быстро заняла «место под московским солнцем».
Несколько неожиданно оказалось, что Вера Инбер — член литературной группы конструктивистов. В ней не было ничего фанатичного, ограниченного. Для того чтобы поверить в откровения «паузника», Вера Михайловна была слишком нормальным человеком, слишком любила настоящую поэзию и понимала, что стихи не рождаются от стихов. В. М. была — велик ли ее поэтический талант или мал, все равно — носительницей культуры, культуры общей, а не только культуры стиха.
Позже еще более удивительным было участие Багрицкого в этой группе.
Впрочем, Вера Михайловна неустанно подчеркивала свою приверженность к ямбу: «Я — за ямб».
Бывали литературные вечера, где Вера Михайловна читала одна, инберовские вечера. Я был на одном таком ее вечере в клубе 1-го МГУ. Кажется, «Америка в Париже» — такова была тема этого вечера-отчета о заграничных впечатлениях.
В этой лекции Вера Михайловна много говорила о Диккенсе. Видно было ее горячее желание спасти для молодежи настоящее, подлинное искусство Запада.
«Когда я волнуюсь, я беру „Домби и сына“, сажусь на диван, и дома у меня говорят: „Тише, тише… Мама читает Диккенса“».
Кто из конструктивистов был поэтом по большому счету? Кто знал это тонкое «что-то», составляющее душу поэзии? Один Багрицкий, и то в двух-трех своих стихотворениях. Может быть, Вера Инбер — в более раннем и в более позднем — в «Пулковском меридиане»? Может быть.
Остальные же: Сельвинский, Агапов, Адуев, Луговской, Панов — казались, нам не поэтами, а виршеписцами. Живой крови не было в их строчках. Не было судьбы.
Багрицкий в болотных сапогах, в синей толстовке читал «Думу про Опанаса» весьма горячо. Багрицкого все любили. Я стоял как-то недалеко от него во время его беседы с поклонниками.
— Что мы? Пушкин — вот кто был поэт. Все мы его покорные, робкие ученики.
Чтец Багрицкий был превосходный. «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» нравился всем. Читал его Багрицкий всюду. Коля Дементьев, в ту пору студент литературного отделения 1-го МГУ, краснея, бледнея, волновался всячески, приглаживая белокурые густые волосы. Дементьев напечатал «Ответ Эдуарду».
- Романтику мы не ссылали в Нарым,
- Ее не пускали в расход.
Еще раньше Дементьев напечатал у Воронского в «Красной нови» «Оркестр» и стихотворение «Инженер». Знаменитая «Мать» была написана позже…
Переехал в Москву Юрий Карлович Олеша. Первая его книга, «Зависть», имела шумный читательский успех. Театр Вахтангова поставил «Заговор чувств». Мейерхольд видел в Олеше «своего» автора. Для Мейерхольда Олеша написал «Список благодеяний» — пьесу вполне добротную. Была напечатана сказка «Три толстяка». Но потом что-то застопорилось в писательском механизме Олеши. Олеша считал себя неудачником. Многие считают его нераскрывшимся крупным писателем. Другие называют его автором оригинальных книг, написанных рукой писателя-экспериментатора.
…Светлов, вместе с Ясным и Михаилом Голодным окончивший ВЛХИ (Высший литературно-художественный институт), писал стихи, день ото дня удачнее. Рапповская критика объявила его «русским Гейне».
Была написана знаменитая позже «Гренада». «Гренада» была стихотворением, чрезвычайно отвечавшим тогдашним настроениям молодежи. Идеи интернационализма были в эти годы очень сильны, небывало сильны, и «Гренада» отражала их в полной мере. Успех «Гренады» того же порядка, что и успех стихотворения Симонова «Жди меня».
…Каждую весну приезжал из Крыма Грин, привозил новую книгу, заключал договор, получал аванс и уезжал, стараясь не встречаться с писателями.
На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Миних: Грин велел сказать, что встретится с Минихом при одном условии — если тот не будет разговаривать о литературе.
Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи, победив всех своих современников и сделав вызов всем шахматистам с предложением форы — пешки и хода вперед, внезапно бросил шахматы, отказался от шахмат. Шахматная жизнь шла, чемпионом мира стал молодой Вильгельм Стейнии. Однажды Стейнии был в Париже и узнал, что в Париж приехал из Америки Морфи. Стейнии отправился в гостиницу, где остановился Морфи, написал и послал тому записку с просьбой принять. Морфи прислал ответ на словах: если господин Стейнии согласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его принять. Стейнии ушел.
Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.
Нина Николаевна, жена Грина, была еще молодой девушкой, когда вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти, даже на рынок Нину Николаевну провожала какая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.
Грин в Феодосии и позже — в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей) вел образ жизни размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в город, играл на бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зимой садился писать. Деньги уже были истрачены. Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в Москву, продавал рукопись (для издания), возвращался с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, и так далее, с равномерностью времен года.
Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением.
Приехал из-за границы Алексей Толстой, писатель западного склада, хороший рассказчик. Повести, рассказы и пьесы сыпались одна за другой — на сиены театров, на страницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с Церетелли — Лосем, Солнцевой — Аэлитой, Баталовым — Гусевым была встречена шумно…
В газете «Известия» на первой странице публиковались сигналы, якобы пойманные в мировом эфире радиостанциями Земли.
Анта… сдэли… ута…
Ученые на третий день расшифровали непонятные сигналы: составилось слово «Аэлита».
Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в век космических кораблей, то-то порадовался бы Казаниев — сторонник «марсианской» теории происхождения Тунгусского метеорита…
Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспондентским билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо: он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914–1918 годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему.
Был написан и поставлен «Заговор императрицы» — пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Шеголевым. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не отличалась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» — вот что привлекало зрителей.
Пьесу возили даже за границу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн, знаменитый петроградский банкир военных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю. Говорят, «Митьке» пьеса понравилась.
Вскорости Толстым была изготовлена по тому же рецепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской партии. «Азеф» был поставлен актерами театра б. Корша, где Н. М. Радин играл Азефа, а эпизодическую роль шпика Девяткина — сам автор, граф Алексей Толстой.
Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, возможности.
В журналах печатались «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» — все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером.
Но все напечатанное до «Гадюки» встречалось как писания эмигранта, как квалифицированные рассказы, в сущности, ни о чем.
«Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, вступающим на путь проблемной литературы на материале современности.
Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал».
Особое место в литературной жизни тех лет занимало издательство «Каторга и ссылка» — при Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Герои легендарной «Народной воли» были еще живы — Вера Фигнер напечатала свой многотомный «Запечатленный труд», Николай Морозов, так же, как и Фигнер, просидевший в Шлиссельбурге всю свою жизнь, выступал с докладами, с воспоминаниями, с книгами.
Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. Эта живая связь с революционным прошлым России и ныне не утрачена. В прошлом году я был на вечере в здании университета на Ленинских горах — на юбилее знаменитых Бестужевских курсов. М. И. Ульянова, Н. К. Крупская были бестужевками.
Еще живы были деятели высшего женского образования в России — синие скромные платья, белые кружева, седые волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное волнение ощущал я на этом вечере — то же самое чувство, что и на «мемуарных» вечерах когда-то в клубе б. политкаторжан.
Двадцатые годы были временем выхода всевозможных книг о революционной деятельности. Исторические журналы открывались один за другим.
- Это — народовольцы,
- Перовская,
- Первое марта,
- Нигилисты в поддевках,
- Застенки,
- Студенты в пенсне.
- Повесть наших отцов,
- Точно повесть
- Из века Стюартов,
- Отдаленней, чем Пушкин,
- И видится
- Точно во сне.
(Пастернак)
Очень важно видеть этих людей живыми, наяву. Я помню приезд в Москву Густава Инара — участника Парижской коммуны, седого крепкого старика.
Связь времен, преемственность поколений ощущалась как-то необычайно ярко.
…Я хорошо помню процесс Савинкова. Закрытое заседание Военной коллегии Верховного Суда. Есть прокурор, есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни защитников. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей жизни ведет человек, литературный портрет которого Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». Террорист Борис Савинков. Организатор контрреволюционных восстаний. Философ. Член русского религиозно-философского общества. Генерал-губернатор Петрограда в 1917 году. Эмигрант. Русский писатель Борис Савинков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были хорошо известны.
Вскоре после процесса вышла его книга «Конь вороной». Ропшин — его литературное имя.
Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала расстрелом. Его и приговорили к расстрелу, но, «учитывая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен десятью годами тюрьмы.
Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил даже иногда по Москве в автомобиле с провожатым — смотрел новую жизнь.
Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. Писал заявления неоднократно. Ему отвечали отказом, и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа тюрьмы (1925 г.).
Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савинкова, вышедшем уже после его смерти в Библиотечке «Огонька», пишет, что правительство не могло принять иного решения. Его раскаяние могло быть вовсе не долговечным, а оставлять на свободе столь высокого мастера динамитных дел было опасно.
Москва, да и не одна Москва, была взволнована его процессом, его смертью…
…А общество «Долой стыд»! Ведь это не какой-нибудь рок-н-ролл или твист — члены этого общества гуляли по Москве нагишом, иногда только с лентой «Долой стыд» через плечо…
Мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого голого ордена. Потом московская милиция получила указания — и нагие фигуры женщин и мужчин исчезли с московских улиц. Года три тому назад я держал в руках выгоревший листок газеты «Известия» со статьей самого Семашко по этому поводу. Народный комиссар здравоохранения осуждал от имени правительства попытки бродить голыми «по московским изогнутым улицам». Никаких громов и молний Семашко не метал. Главный аргумент против поведения членов общества «Долой стыд», по мнению Семашко, был «неподходящий климат, слишком низкая температура Москвы, грозящая здоровью населения, если оно увлечется идеями общества „Долой стыд“». О хулиганстве тут и речи не было.
…Цензура в те времена действовала не очень строго — о том, чтобы приглушить, спугнуть молодой талант, никто не мог и подумать.
Я знаю всего два случая конфискации журналов, уже вышедших, с перепечаткой изданного.
Оба раза журнал был разослан подписчикам, продавался в киосках.
В Ленинграде один очеркист заключил пари на ведро пива, что напечатает матерщину, — вещь, немыслимая в России. Именно поэтому мы никогда не читали полного Рабле.
Вышедший в 1961 году новый перевод Н. Любимова также подвергся «целомудренным» купюрам.
Матерщину, всю как есть, можно было найти только в словаре Даля, да в докладах-отчетах Пушкинского Дома Российской академии наук.
Однако речь шла не о классиках, не о научном тексте, а об обыкновенном хулиганстве. И само пари — ящик пива! — характерно.
Журнал, где был напечатан сей криминальный очерк, вышел в свет.
Через несколько дней номер журнала продавался до 20 рублей золотой валюты — червонца с рук. Журналист выиграл пари. Как он это сделал?
Был напечатан большой очерк о фабрично-заводском быте. В текст очерка была вставлена восьмистрочная часттушка-акростих, заглавные буквы составили матерное слово.
Журналиста судили и дали ему год тюрьмы за хулиганство в печати. Редакция получила выговор. К суду привлекался и корректор издательства, но тот виновником себя не признал, заявив, что он, корректор, «обязан читать строки слева направо, а не сверху вниз. Он не китаец, не японец». Объяснения были признаны заслуживающими внимания, и корректор был оправдан.
Второй случай касается «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка. У моих знакомых долго хранились присланные издательством два пятых номера «Нового мира» за 1926 год. В одном есть повесть Пильняка, в другом — нет. Я сам читал эту повесть в библиотеке, в читальном зале, но когда захотел перечесть — не нашел.
Повесть эта небольшая. Посвящение: «А. К. Воронскому, дружески. Б. Пильняк». «Подсечка» петитом: «Если читатели предполагают, что в рассказе речь идет об обстоятельствах смерти тов. Фрунзе, то автор заявляет, что это — не так».
Говорили, что Пильняк отнес рукопись в «Красную новь», редактором которой был Воронский. Воронский отказался печатать такую повесть. Тогда Пильняк передал рукопись в «Новый мир» Вячеславу Полонскому и посвятил «Воронскому дружески». Полонский напечатал «Повесть непогашенной луны».
Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой артисткой — Мария Ивановна Бабанова.
Я слышу и сейчас ее удивительный голос — будто серебряные колокольчики звенят. Нам все нравилось в ней: и то, что она плакала в театре Мейерхольда, отказываясь от роли проститутки, и то, как играла мальчика-боя в пьесе Третьякова «Рычи, Китай», Стеллу в «Великодушном рогоносце», Полину в «Доходном месте».
Мы любили ее за то, что она ушла от Мейерхольда, и с восторгом твердили сочиненные кем-то плохонькие вирши:
- Вы знаете, от вас ушла Бабанова,
- И «Рогоносец» переделан заново.
- Но «Рогоносец» был великодушен,
- А режиссер как будто не совсем.
Мальчик Гога в «Человеке с портфелем» — одна из любимых ее ролей, наконец, Джульетта, Джульетта, Джульетта.
Я помню, как Дикий рассказывал о первой работе Бабановой в Театре Революции, где он был режиссером.
Бабанова читала с тетрадкой. Сказала фразу и спросила:
— Здесь переход. Куда мне идти — налево или направо?
— А куда хотите, туда и идите, — безжалостно сказал Дикий.
С Бабановой сделался истерический припадок, слезы. Репетиция была прервана.
Ведь у Мейерхольда, где Бабанова играла раньше, было все размерено по ниточке, все мизансцены рассчитаны точно и переходы актера намечены мелом.
Дикий рассказывал, что он сделал это нарочно, чтобы сразу выбить все «мейерхольдовское».
Двадцатые годы — расцвет русского театра. Большие артистки заявляли о себе одна за другой: Алиса Коонен, Тарасова, Еланская, Гоголева, Пашенная, Бакланова, Попова, Глизер — им нет счета.
На Большой Дмитровке, в том здании, где сейчас Оперно-музыкальный театр им. Немировича-Данченко и Станиславского, размешался один из интереснейших экспериментальных театров Москвы того времени, времени больших исканий.
Это был «Семперантэ» — театр импровизации под руководством актера А. Быкова.
Спектакли здесь игрались без текста, был лишь сценарий, сюжетный каркас, а диалоги актеры должны были импровизировать. Внутренняя работа актера над ролью обнажалась, актер работал, что называется, на глазах зрителя.
Быков и его жена, артистка Левшина, сумели увлечь своими идеями многих актеров. Этот театр существовал несколько лет, да и тогда, когда его закрыли, Быков и Левшина продолжали выступать с «Гримасами» — лучшим своим спектаклем — еще несколько лет на случайных сиенах…
Но все же уменье и талант Быкова не нашли дороги в большое искусство.
Театр этот оказался как-то без будущего.
Любовь зрителей, интерес и внимание возвратились к Художественному, Малому, Вахтанговскому театрам, студии МХАТ, Театру им. Мейерхольда.
…Славин написал великолепную пьесу «Интервенция» и поставил ее в театре Вахтангова. Спектакль был замечательный, солнечный. Я был на одном из первых спектаклей и помнил несколько лет «Интервенцию» наизусть. Мы повторяли в общежитии сиены из этой пьесы. Журавлев — Жув, Толчанов — Филипп, Горюнов — Селестен. Мансурова — Жанна Варбье — запомнилась мне на всю жизнь. И пусть я знал, что настоящей Жанне Барбье было 45 лет, когда Ленин послал ее в Одессу, а Мансурова играла знаменитую французскую подпольщицу-большевичку юной девушкой — чепуха. Почему у нас не напишут книгу о Жанне Барбье? О Джоне Риде написано очень много, а Жанна — не менее красочная фигура. Расскажут о жизни, сгоревшей в огне революции, о героической смерти французской революционерки.
На примере спектакля «Интервенция» я узнал, что такое «заигранная» пьеса, и хорошо понял и почувствовал Мейерхольда, который каждый вечер, буквально каждый вечер сидел в зрительном зале своего театра, следя, чтобы пьесу не «заиграли».
…Театры, один за другим, брали новые рубежи. Первым был театр МГСПС, руководимый Любимовым-Ланским. Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского. Это был первый спектакль о современности на сиене «настоящего» театра… Спектакль был принят горячо и бурно — жизнь заговорила со сценических подмостков громким, полнозвучным голосом. Спектакль много лет оставался в репертуаре театра.
Пьеса обошла провинцию с триумфом. Реализм председателя укома, братишки, профессора был бесспорен. Такими эти герои и были в жизни.
Прошло много лет. В пятидесятые годы Билль-Белоцерковского пригласили написать сценарий для фильма. Драматург написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм провалился. Рецензенты твердили в один голос, что такого безграмотного председателя укома быть не могло, что братишка нереален, профессор надуман. Вкусы и точки зрения изменились. А Билль-Белоцерковский старался честно повторить старый спектакль, для своего времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, в каждой ситуации…
В студенческом общежитии в нашей комнате освободилась койка, которую занимал студент консерватории по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала как автомобильная сирена низких тонов. Нам виолончелист мешал заниматься, и мы были рады, когда он получил место в консерваторском общежитии.
Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и конспекты и громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джалиль. К нему скоро все привыкли, часто просили читать стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушкина, только ошибался в ударениях в произношении:
- Сижу за решэткой в темнице срой…
Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! — Залилов прочел стихотворение, глаза его заблестели.
— Это твое, Муса?
— Да.
Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя.
Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по московским изогнутым улицам», пытаясь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить.
Москва, ноябрь 1962 г.
Комментарий
В 1924 году В. Т. Шаламов приезжает из Вологды в Москву, работает дубильщиком на кожевенном заводе в Сетуни, а в гущу общественных и литературных событий попадает, став в 1926 году студентом 1-го МГУ (2-й МГУ был создан в 1918 году на базе Высших женских курсов, знаменитых Герье).
Многочисленные литературные группировки отстаивают свои взгляды на диспутах, в журналах, газетах… ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, 1920–1928), затем переименованная в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей, 1928–1932), «Кузница» выдвигали задачу строительства классовой пролетарской культуры, резко противопоставляя ее культуре буржуазной, а это приводило к недооценке культурного наследия прошлого. Одним из теоретиков ассоциации был Л. Л. Авербах. С группировками пролетарских писателей полемизировала группа «Перевал» (1923–1932), возглавляемая А. К. Воронским, которая состояла в основном из писателей-попутчиков, отстаивавших преемственные связи советской литературы с традициями русской и мировой литературы.
Великие революционные сдвиги встряхнули устоявшиеся системы общественных и эстетических ценностей… По-новому осмыслить место литературы в жизни страны, ее социальные функции пытаются группы Леф, конструктивисты.
Леф (Левый фронт искусств, 1922–1929) выдвигает теорию «социального заказа», принцип непосредственной пользы, утилитарности искусства. Живо описанный Шаламовым диспут «Леф или блеф» состоялся в марте 1927 года после появления в «Известиях» статей В. П. Полонского, известного литературного критика, который возглавлял тогда (1926–1931) редакцию журнала «Новый мир» и активно выступал против издания журнала «Новый Леф».
Тезисы диспута (по афише) были таковы: «Что такое Леф? Что необходимо, чтобы называть лефистом? Где теория Лефа? Где практика Лефа? С кем вы? „Блеф“ — его пригорки и ручейки. Можно ли разводить людей для плача? Лев Толстой и Леф. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин как редактор. Будущее по Эдгару По. Куда идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? Леф и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики сейчас».
«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит „с ненавистью“? Сжечь, долой все старое? Нет. Лучше использовать старую культуру как учебное пособие для сегодняшнего дня, постольку поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы» (В. Маяковский).
В поисках поэтических путей Шаламов отдал дань увлечения Лефу, а потом, правда очень мимолетно, — конструктивизму, явно заинтересованный сборниками «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Бизнес» (1929).
В сборнике «Мена всех» была опубликована «Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)», где провозглашались эстетические требования группы: «конструктивизм есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного (сведенного в фокус) в предустановленном месте конструкции», то есть провозглашался не интуитивный поиск художественных средств, а «конструирование поэтического материала».
ЛЦК (литературный центр конструктивистов) самораспустился в 1930 году.
Упоминаемый в тексте ученик И. Л. Сельвинского К. Н. Митрейкин (1905–1934) — автор четырех поэтических сборников, из них особый отклик в прессе получил первый — «Бронза» (1928). Журнал «Красное студенчество» (1925–1935) издавался ЦК ВЛКСМ, в кружке при этом журнале Сельвинский воспитывал «констромольцев».
Название литературной группы «Серапионовы братья» (1921–1929) дано по названию кружка друзей в одноименном романе Э. Т. А. Гофмана. Группа собиралась в Доме искусств на Невском, в Петрограде. Писатели ставили своей задачей совершенствование профессионального мастерства. Душой группы был рано умерший талантливый писатель Л. Н. Лунц (1901–1924).
Имажинисты декларировали самоценность слова-образа, неизбежность антагонизма искусства и государства, издавали журнал «Гостиница для путешествующх в прекрасном» (1922–1924).
Конечно, уложить живое творчество поэтов и писателей в рамки деклараций и манифестов было невозможно. И Пастернак не умещался в Лефе, а Есенин — в имажинизме, и вообще — в живых отношениях все было переплетено густо, сложно, неоднозначно.
Литературные группировки двадцатых годов были объединены с созданием Союза советских писателей. В 1932 году было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и создан Оргкомитет во главе с A. М. Горьким для подготовки и проведения Съезда советских писателей, который состоялся в 1934 году.
Литературные группировки активно пропагандировали свои взгляды в журналах, альманахах, сборниках. Какой острой была полемика в этих журналах, какие яркие имена украшали эти страницы, увы, издававшиеся на плохой газетной бумаге и от времени теперь пожелтевшие!
Интересно не только перечитать эти журналы, но даже в руках подержать: дерзкий, неукротимый, плакатно оформленный «Леф» (1923–1925, с 1927 — «Новый Леф»), серьезную и сдержанную «Красную новь» (1921–1942), демократичный, общительный «Огонек» (созд. 1923), элегантную, хоть и бедную «Россию» (1923–1925, 1926 г. — «Новая Россия»), «Красную ниву» (1923–1931) и, наконец, непримиримый орган пролетарских писателей — журнал «На посту» (1923–1925), затем — «На литературном посту» (1926–1932) и многие, многие другие.
Именно эти журналы впервые принесли читателю строки B. Маяковского и Б. Пастернака, А. Фадеева и И. Бабеля, С Есенина и М. Булгакова…
Имели свое непохожее на других лицо и издательства. Крупнейшее издательство «Земля и фабрика» (1922–1930) выпускало до 80 % художественной литературы, в том числе собрания сочинений советских писателей.
Издательство «Огонек», созданное в 1925 году, а в 1931-м преобразованное в знаменитый «Жургаз» (Журнально-газетное объединение), специализировалось на массовых тиражах дешевых, доступных изданий классики и советской литературы. Государственное издательство (1919–1930), возглавляемое В. В. Воровским, более занималось политической, агитационной работой. По инициативе A. М. Горького было создано издательство «Всемирная литература» (1918–1924), знакомившее советского читателя с сокровищами мировой литературы.
Возникли и многочисленные кооперативные издательства: «Никитинские субботники», «Недра», «Круг» (1922–1929), упоминаемый Шаламовым, и другие.
В 1930 году на базе многочисленных издательств было создано Государственное издательство художественной литературы. Преемником «Круга» стало издательство объединений советских писателей «Федерация» (1929–1933).
Мы видим литературный мир двадцатых годов глазами «студента 1-го МГУ», видим то, что видел он, еще не вошедший в литературу. Конечно, характеристики писателей неполны и порой мимолетны — это штрихи, а не портреты. Пусть заинтересованный читатель обратится к собраниям сочинений и монографиям, к сборникам воспоминаний, они помогут ему дорисовать для себя портрет любимого писателя.
Только несколько слов в пояснение.
Воспоминания «Двадцатые годы» печатаются с некоторыми сокращениями.
В связи с О. М. и Л. Ю. Бриками упоминается В. М. Примаков (1897–1937), видный советский военачальник, герой гражданской войны.
«Смена вех», упоминаемая в связи с журналом «Россия», — это возникшая в Праге группа русских эмигрантов во главе с Н. В. Устряловым, которая рассматривала нэп как эволюцию революции к капитализму — «сползание к капитализму». В дальнейшем И. Лежнев порвал со «Сменой вех».
В связи с именами А. В. Луначарского, А. К. Воронского упоминаются «чистки» — это практиковавшиеся тогда как бы отчеты членов партии, публичные отчеты о работе, взглядах, ошибках, если таковые случались, при этом каждый присутствовавший мог задать любой вопрос.
Более подробные сведения о «старичке» Флоренском. Павел Александрович Флоренский — русский ученый, религиозный философ. Окончил физико-математическое отделение Московского университета и Московскую духовную академию где был профессором (1912–1917). Осуществлял исследования в целом ряде дисциплин — лингвистики, теории пространств, искусств, математики, экспериментальной и теоретической физики, которая стала главным направлением его занятий после Октябрьской революции. В связи с планом ГОЭЛРО в 1920 году был привлечен к научно-исследовательской работе в системах Главэлектро ВСНХ. В 1927–1933 годах — редактор Технической энциклопедии.
Вместе с автором мы узнаем и театральную географию тогдашней Москвы. Театр им. В. Э. Мейерхольда (в перестроенном виде — теперешний Зал им. П. И. Чайковского), театр б. Корша (теперь — здание МХАТа на ул. Москвина), Театр Революции — ныне Театр им. В. В. Маяковского, MXATII — теперь в этом здании Центральный детский театр. Театр им. МГСПС (Московского городского совета профсоюзов) — ныне Театр им. Моссовета, а в те годы он помешался в театре сада «Эрмитаж».
Варлам Тихонович часто говорил, что не может писать, не переживая заново того, о чем пишет, не вернувшись мыслью, чувством, взглядом в те времена. И обаяние его воспоминаний «Двадцатые годы» — в этой тогдашней, воскрешенной его пером атмосфере молодой литературной и театральной Москвы
И. П. Сиротинская
МОСКВА 20-Х ГОДОВ
* * *
Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября. Низкорослый, широколобый Троцкий стоял в красноармейской форме, в самом углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны.
Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были вывалены прямо на булыжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые тучи.
Всего года через два я буду жить тут в Большом Черкасском, рядом с этой самой обжоркой, которая, впрочем, скоро закроется навеки, и выстроят гостиницу «Москва».
Рядом с Троцким стояли какие-то военные, дальше кожаная куртка Бухарина, Преображенский, Ярославский, Каменев, еще чьи-то знакомые мне по портретам лица. Парад длился недолго.
Вскоре Троцкий был снят, стал работать в концесскоме, а должность наркомвоенмора принял Фрунзе.
Тот же час родилась частушка, частушка фольклорного типа, та самая, которая извечно сопутствует историческим событиям и переменам, велики или малы они — все равно.
- Разве можно горелкою Бунзена
- Заменить стосвечовый Вольфрам.
- Вместо Троцкого ставят Фрунзе,
- Это просто срам.
Это [вероятно] первая частушка литературного творчества оппозиции — весьма, как известно, обильного.
Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза. Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в «Повести непогашенной луны». За хранение повести в 30-е годы расстреливали.
Неправда, что эмиграция, контрреволюция ждала перемен со смертью Ленина. Ленин ведь не работал давно — весь 23-й и половину 22-го года. Целый год он не владел языком, в Горки последний год ездили только его ближайшие друзья. Кто ездил к Ленину в Горки в этот последний год его жизни — об этом рассказала Крупская в одном из интервью. Это Воронский, Крестинский и Преображенский. Преображенского Ленин встретил случайно, сочла нужным подчеркнуть Крупская. Но и Воронский и Крестинский ездили в Горки именно как личные друзья.
Конец 24-го года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что нэп никого не смутит и не остановит.
Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге.
Курукин
В теоретическом вихре тех лет клубилась пыль самых различных теорий, каждая испытывалась на прочность, вековечные догмы подвергались живой проверке.
Все фурьеристы, все ламаркисты учили о благодетельном, не только оздоровляющем, но переделывающем душу человека влиянии среды. Это принципиальное положение из догм приводило к высшей степени парадокса — «рабочему станку».
Тогдашняя теория относилась к таким переделкам души и сердца самым серьезным образом, и к документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат, сочувствующий — это все вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории.
Вернуть к станку! Послать в цех! — такие решения принимались даже в Коминтерне, ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу. К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.
Для того чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924 году на кожевенный завод в Кунцеве — дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как назывался тогда троекуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.
Народу было человек 30 всего рабочих и служащих, даже при той малой механизации все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница пролетарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек, по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не ждали. Само управление заводом помешалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал себя, организовывал общество, производственную артель, то переделывал с помощью таких бывших частников, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров. Эти споры обострялись от хронического безделья — не было сырья, бойня не давала продукции такому крошечному, да еще подозрительному социально заводу. Бойню нужно было пробивать взятками, что и делали весьма энергично.
По колдоговору, утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.
Заработки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным временам.
До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых, санитарок в больнице два раза в неделю, за восемь рублей в месяц.
Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, — самый самодеятельный декрет советской власти. Еще в 1971 году в сберкассе существует целая полка карточек — сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С неграмотностью действительно боролись, самодеятельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет, и не только потому, что Новгородская губерния или Чердынский уезд — не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства, так называемых рецидивов неграмотности.
Случилось так, что автором проекта декрета о ликвидации неграмотности был мой будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь — сотрудник Крупской по Наркомпросу. В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправдан, а просто и этот декрет — след той же романтической догматики, которая владела всеми умами.
«Завтра — мировая революция» — в этом были убеждены все. На фоне этого срок десятилетнего плана борьбы с неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком случае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.
Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не разрешали уезжать в Москву — мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой чернорабочего на заводе — 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 — по девятому разряду тарифной сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой, и покупать одежду, и платить за стол. Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту харчевню.
Стоило это питание три рубля в месяц — обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный горкой. Ели классической русской артелью — по четыре человека на выдолбленный окоренок — деревянный тазик с подсеченным, подпиленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое — мясо было на дне, а картошка горячая ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.
Ритм хлёбова регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей четверке таким был Емельянов — старый кожевник, седой отделочник. В нужный момент он восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не части! — отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!» Это значило: таскай с мясом — выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся. Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом. Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб были миллионы — то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже прямо от предприятия, казенный, входяший в колдоговор. Сторож Курукин втаскивал бак с кипятком.
Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошовой ставке на нашем заводе.
Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся, зачем Ивану Петровичу эта работа, — он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни о чем не спрашивал Курукина.
Посуду у нас мыли по очереди, и когда настал мой день, я с полотенцем в руках принялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением к моей неумелости.
— Дай-ка сюда.
Курукин вырвал у меня из рук и стакан и полотенце:
— Смотри.
Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь. Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.
— Всякое дело требует знания, приспособления, — сказал Курукин. — Бревно распилить, не умея, нельзя, замучаешь себя и партнера. А насчет стакана скажу тебе — я двадцать лет стаканы в шантане мыл, отсюда и хватка.
Вскоре он переехал от нас, нашел какую-то квартиру в Москве. Я узнал, что Курукин профессиональный официант, человек из ресторана, скопивший деньги на свое дело и погибший в волнах нэпа, пытаясь это собственное дело открыть. Было это в 1924 году, а в 1934-м я со своей молодой женой залетел в ночной «поплавок» у Москворецкого моста. Пока мы с женой оглядывались, выбирая столик поближе к воде, к нам подошел какой-то человек в белом — вот садитесь ко мне, за те столики, и мы сели, а человек в белом подошел принимать заказ.
— Иван Петрович!