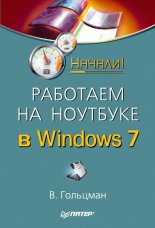Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела Шаламов Варлам
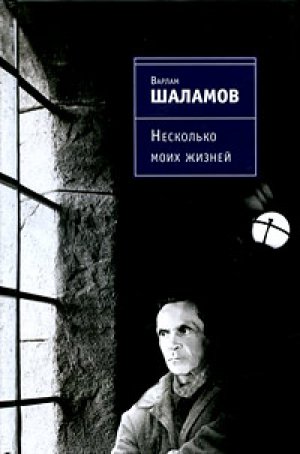
Выбраться мне помог доктор Лунин, Сергей Михайлович Лунин, о котором я рассказал уже в очерке «Потомок декабриста», да и в других очерках встречалась эта фамилия. Сергей Михайлович Лунин был неплохой малый, несчастье его было в том, что он совершенно умирал от преклонения перед всяким большим и малым начальником лагерным, медицинским, горным.
Я ходил не в шахту — на «поверхность». В шахту меня не допустили бы без техминимума. Шахта была газовая — надо было уметь замерить газ лампочкой Вольфа, научиться не бояться работать в лаве после осыпания, привыкнуть к темноте, смириться с тем, что в легкие твои набирается угольная пыль и песок, понимать, что при опасности, когда рухнет кровля, надо бежать не из забоя, а в забой, к груди забоя. И, только прижимаясь к углю, можно спасти жизнь. Понимать, что крепежные стойки ставят не затем, чтобы что-то держать, каменную гору в миллиарды пудов весом никакими стойками не удержать. Стойку ставят затем, чтобы видеть по ее треску, изгибу, поскрипыванию, что пора уходить. Вовремя заметить — не раньше, не позже. Чтобы ты не боялся шахты. Надо уметь заправить лампочку, если погаснет, а заменить ее в ламповой — нельзя. Аккумуляторов на шахте было очень мало. Простые лампочки Вольфа служили там.
Я работал на поверхности, и работа мне не нравилась, и конвоя окрики. В шахту же конвоиры не ходят. Десятник в шахте тоже никогда не бывает, в отличие от приисковых бригадиров и смотрителей. Боятся, как бы не выпал кусок угля на голову бригадира. Словом, у шахты было много преимуществ, а самое главное — тепло, там не было ниже двадцати — двадцати двух градусов холода. Конечно, при двадцати двух градусах — холодно, но все же не пятьдесят градусов мороза открытого разреза золотого забоя с ветром, сметающим шею, уши, руки, живот, все, что откроет человек.
У меня многократно отмороженное лицо, руки, ноги. Все это на всю жизнь. При любом самом незначительном холоде ноет, болит.
Несколько ночей я проработал на терриконе шахтном — туда время от времени из шахты шла порода, и надо было ее разгружать — открыть борта, снять борт вагонетки, и она сама вывалится, рабочий только сгребает камни со дна вагонетки. Породы шло мало, и я до такой степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли. Уйти же никуда было нельзя. Мест для обогрева там тоже не было. Я решительно попросился в шахту. Начальник низового участка Никонов посмотрел на меня с симпатией, но неуверенно и все же записал на курсы техминимума. Эти курсы проводились в рабочее время, вернее в часы, когда меняется смена, учащиеся не участвуют в передаче смены.
В шахте две смены — ночная и дневная. Научиться не ходить без воды под землю я привык скоро, да и вообще вся наука не оказалась сложной — шахтеров учили и все товарищи, учили на ходу, что надо делать, в отличие от взаимной ненависти в золотых бригадах. Я стал привыкать к шахте. Неудача была еще в том, что у меня очень сухая и тонкая кожа — клопы и вши едят меня ужасно. При сухой коже я очень редко потел при работе. Товарищи считали это просто ленью, а начальство, особенно приисковое, — филонством, вредительством.
Впоследствии из занятий на фельдшерских курсах я понял, что только пот разогревает мускулы для наилучшей отдачи. Я, сколько ни работал, никогда не запотевал, мой напарник по шахте Карелин, краснорожий парень молодой, обливался потом при каждом движении — и очень нравился десятнику и начальнику участка. Я проработал на физической работе много лет: и в лагере и до лагеря, но всегда эту работу ненавидел, хотя техникой владел [нрзб], техникой землекопа, горнорабочего. Я — артист лопаты, я — тачечник Колымы. И еще я знаменитый магаданский поломой.
Конечно, шахта убивает. Я видел много «орлов» — аварий с человеческими жертвами, когда человека расплющивало в пластину. Видел живые куски мяса, стонущие. Шахта есть шахта. Первая авария, которая произошла со мной, была на откатке вагонеток во время счистки лавы: кусок угля перелетел загородку (она не была глухой, как положено) и ударил меня в голову. Я помню только яркую вспышку синего цвета и голос;
— Ты встать можешь?
— Да, конечно.
Я встал, потер ушибленное место, замазал ранку, по шахтерским правилам, угольной пылью, заслюнил угольную пыль и намазал. Угольная пыль — это гуминовая кислота. Она не только не вредна, но даже полезна для легких. И туберкулезом на шахте заболевают мало. Истинное заболевание шахтеров не туберкулез, а силикоз — от пыли породы, которую вдыхают легкие шахтеров.
С откатки я перешел в лаву, на выборку угля после взрыва. Крепежники ставят крепы на местах, где бухтит кровля, и навальщики выбирают уголь, сталкивают его вниз по желобам, которые трясет мотор. Здесь у меня тоже была одна авария. Во время смены не успели выбрать весь уголь с отвала, а остатки были как раз под кровлей, которая тут трещала. Постучали сильно — не отваливается. Попробовали отвалить ломом — не отпадает. Значит, будет стоять. Я выбрал весь этот уголь, когда обвалилась кровля. Пласт тут небольшой, метра полтора. Нагнувшись, стоять — как раз по моему росту. Поэтому кровля не ударила меня, а сбила с ног и опрокинула. При падении кровля разбилась, и я вылез. Конечно, такое падение кровли, да еще туча белой пыли при этом — всегда тревожно сначала. Мгновенно сбежалось все начальство: и те, кто принимал смену, и те, кто ее сдавал. У меня было ушиблена голова.
— Будем заполнять карту? — спросил начальник.
Он имел в виду карту несчастных случаев, которая сильно отражается и на прогрессивке, и на добром имени инженера. Мне это было известно очень хорошо.
— Нет, гражданин начальник.
— Вот видите, товарищ главный инженер.
— Да, да.
— Это ты оставил, — спорил наш мастер, наш бригадир, — в следующий раз под суд пойдешь…
Но это кричали мелкие начальники. Инженер уже удалился. Впрочем, вскоре вернулся:
— Хочешь идти домой?
Под домом тут подразумевался барак.
— А можно?
— Можно, я тебя с конвоем пошлю.
Третья моя авария была в одном из штреков на нижней плошадке в конце смены, где я цеплял последнюю вагонетку. Напарник мой уехал на вагонетке, а я как более опытный остался цеплять и прицепил за трос вагонетку временно с тем, чтобы, когда [подъедет], нацепить вторую, — перецеплю и пущу вторую первой. Никакого сигнала о подъеме не подавал, подают сигнал электрическим звонком. Как вдруг лебедка пошла, вагонетка развернулась на плите, прихватила меня за ноги к тросу и потащила наверх. Я закричал. Но наверху крика не бывает слышно. Рядом никого нет, чтобы выключить трос. Так меня тащило довольно долго, пока я почувствовал, что валенок мой прорезается тросом. В этот момент лебедка выключилась. Я поднялся наверх, оставив рагонетку. Оказалось, молодой блатарь-лебедчик, который не хотел оставить эту смену, по собственной инициативе включил лебедку, чтобы напомнить мне, что надо торопиться. Я даже не рассердился. Обошлось, и ладно.
— А почему же ты выключил?
— Показалось, что-то тяжело идет.
Четвертая авария была во время войны, я рассказываю о ней в очерке «Июнь».
Чем больше привыкал я к шахте, а шахта ко мне, тем спокойнее было на душе. Шахтерский труд подземного рабочего ценят, хотя [ты] и не крепильщик, не бурильщик, не газомерщик. В шахте надо что-то знать, чтобы не убить других и не убить себя. Чем больше я привыкал к шахте, тем лучше я узнавал людей в бараке. Сначала я так уставал на работе, а главное, на амбулаторных приемах, по развлечению Сергея Михайловича, что человека в бараке, кроме Родионова, не видел.
Выяснилось, что напротив лежит крепильщик Бартенев, партийный работник из крестьян, вернувшийся к топору. Дальше М[нрзб], тоже крепильщик, этот потомственный шахтер, посадчик, профессионал. Наверху на нарах помошник Генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, бывший одесский прокурор Лупилов. Это был очень культурный человек, единственный человек в бараке, читавший книги постоянно. У него я взял и прочел тоже мемуары Шелгунова и Михайлова, перечел хорошо известную мне книгу как заново. Лупилов был тем человеком, который в разговоре о желаниях сказал, что хочет умереть в больнице, только в больнице, не в бараке, не на прииске под сапогами конвоиров, не под сапогами следователя, не под прикладами. Дух у него был боевой, у Лупилова. В шахту его не брали. Он замерзал на поверхности. А сапоги и приклады вынес с какого-то прииска 38-го года. Зимой, военной зимой, голодной зимой 41-го года Лупилов получил посылку, в которой был табак — его раскрали по дороге — и хороший, даже щегольской костюм вольного образца. Лупилов [нрзб] вручил костюм хлеборезу Феде Столбникову. Дар подействовал. Лупилов был освобожден от работы. Ел хлеб с утра до вечера. Позже он умер от алиментарной дистрофии.
Железную койку напротив занимал Миша Оксман — крепильщик, напарник Бартенева. Оксман был политработник, начальник политотдела дивизии Красной Армии. Маршал Тимошенко, первым требованием которого при вступлении в любую должность было удалить всех евреев, вышиб Оксмана и обеспечил ему место на Колыме. Шаденко, который к этому делу руку приложил, тоже мог бы кое-что рассказать об аресте Оксмана. Сроку у него было пять лет. Малоразговорчивый, замкнутый Оксман оживился с началом войны. Начал строить планы, проекты. Речь идет не о заявлениях на фронт, я не знаю, кто из нашего барака подавал такое заявление. Во всяком случае, обнаружилось, как много у нас военных. С Оксманом же мы простояли немало ночей, чтобы выпросить у хлебореза хоть корку хлеба.
Напротив Оксмана и тоже на нижних нарах спал Александр Дмитриевич Ступицкий, бывший профессор артиллерийской академии, делегат 2-го съезда Советов. Срок у него был поболее, чем у Оксмана. Ступицкий на Аркагале работал десятником на поверхности, выгружал уголь, следил за выгрузкой угля и породы. Поворотливый, быстрый, хотя и заросший сединой, Ступицкий был энергичным работником. Его хлопотливое дело кипело даже в большой мороз. Именно Ступицкий сказал мне 23 июня, что началась война, что немцы бомбят Севастополь.
— Я не хотел быть военным, я хотел быть дипломатом, не послом каким-нибудь, а консулом где-нибудь в Бейруте — делать своими руками дипломатическую черновую работу. На военную службу я попал случайно. Что такое призвание? Дым. Я — профессор военной академии.
Ступицкий сильно картавил. Была у него дворянская картавость ленинского типа. В наши барачные дела Ступицкий не вмешивался. Пайка в руке — обед в столовой — сон — и снова бешеная работа на шахтном дворе.
— А в шахту, почему вы не пойдете в шахту? — спросил я его как-то. — Десятником бы. Там ведь не 60 градусов.
— Боюсь, — ответил Ступицкий. — Боюсь шахт до смерти. Не могу понять, умираю от страха.
Ступицкий был убит на моих глазах в декабре 1941 года. Шофер пятитонки, груженой, с прицепом, попятил машину и попал ребром кузова в лоб Ступиикому, который выписывал на крыле другой машины квитанцию. Ступицкий упал и был раздавлен. Не скоро принесли носилки и прямо на руках понесли в лагерную амбулаторию километра за полтора. Но спасти Ступицкого было нельзя.
Начало войны было страшным для Аркагалы. Немедленно были отменены все проценты и заключенные переведены на трехсотку производственную и шестисотку — стахановскую карточку, уменьшены нормы питания. Барак, где жила 58-я, [был] окружен колючей проволокой, и посажен особый вахтер, увеличен конвой, все ларьки, «выписки» отменены. Начались поверки, выстойки чисто приискового типа. Начались допросы в следовательском домике. Хлеб мгновенно приобрел значение чрезвычайное. Именно в это время всякая выдача хлеба у Лунина прекратилась. Я попробовал попросить хлеба, но Сергей Михайлович заявил раздраженно:
— Сергей Михайлович всех не обогреет.
А санитар его Коля Соловьев, бывший блатарь, пояснил:
— Сергею Михайловичу осталось сидеть с гулькин нос, он рисковать не будет.
Я сразу превратился в политического рецидивиста, кадрового врага народа. Поддерживать знакомство со мной было опасно, в амбулаторию на посиделки Сергей Михайлович попросил не ходить.
Вот в это время на Аркагале я стал «доплывать» очень сильно. Запасов материальных у меня не было давно, и я как-то быстро стал просить у повара добавки. Повар Петров, который тоже жил в нашем бараке, шедрой рукой наливал мне баланду, беловатую воду, юшку. Сразу обнаружилось, что на кухне все мясо идет блатарям, и аркагалинская столовая превращается в самую обыкновенную приисковую, где блатари, угрожая ножом, грабят, требуя налить погуще [нрзб]. Вот в это время мы вдвоем с Оксманом каждую ночь дежурили у хлебореза, пока не замерзали, — не будучи в силах отвести ноздрей от запаха хлеба. Но хлеборез Столбников не собирался обращать на нас внимание.
— Слушай, — сказал Оксман, — из этого ничего не выйдет. Надо стоять по одному. Вот я пойду в барак, а ты стой, требуй, проси. Федька заперся в хлеборезке.
Я этому совету внял, Оксман ушел в барак, а я попросил у Столбникова. Кроме густого мата, я не услыхал ничего. Прошел Сергей Михайлович туда же, в хлеборезку, акт что ли подписывать, но тоже ничего не вынес. Я постучал еще раз — мат был того же тона. Я уже замерз до костей, вернулся в барак — уступая свою очередь на счастье Оксману. Прошел чуть ли не час, и через барак, совершенно оледеневший, пробежал Оксман. В руках у него было граммов триста хлеба, который он, конечно, даже и не прятал по правилам полной конспирации. Мне не повезло. Рядом со мной вскочил Бартенев — знаменитый крепильщик видевший с нар всю эту сцену, всю эту пантомиму, и кинулся на улицу. Через полчаса он примчался в бешенстве обратно.
— Не дал?
— Нет. Но завтра я — иначе, я встану у ларька, и если Федька хоть кому-нибудь попробует дать кусок, я подойду и потребую дать и мне. Не даст — к начальнику, и кончилась жизнь хлебореза Столбникова.
Бартенев был знаменитый крепильщик, неоднократно премированный, всегда получал все сплошь выписки, выдачи, пайки, но у него была 58-я, как у нас, и он через сутки был обречен на голод.
Вся эта сиена разыгралась ночью, поздно вечером, когда нашу зону запирали на замок, дежурный там стоял только днем. Но замок только закладывался, и снять его было легко. На следующий день Бартенев отправился в свою принципиальную экспедицию. Через полчаса вернулся с куском хлеба граммов в 500. Вот в это время и получил свою посылку Лупилов.
И вдруг все изменилось. Оказалось, что все эти распоряжения об ущемлении на случай войны были сделаны по моб-плану, составленному вредителями, какими-нибудь Тухачевскими. Что Москва не утверждает всех этих мер. Наоборот, всех заключенных не считают врагами народа, а надеются, что в трудный час они поддержат родину. Паек будет увеличен до килограмма двухсот стахановский, шестисот — производственный и пятисот — штрафной, для отказчиков. Все переводятся на усиленное питание, вводится реестр питания, до каких-то отдельных блюд для выполнивших трехсотпроцентный план. Любое блюдо по желанию за красным столом рядом с начальником шахты, с начальником работ. Продукты будут только американские. Подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане. Первые американские «даймонды», «студебеккеры» уже побежали по трассе, развозя на все участки Колымы пшеничную муку с кукурузой и костью. Миллионы банок свиной тушенки, бульдозеры, солидол, американские лопаты и топоры. Приказом было запрещено называть троцкистов фашистами и врагами народа. Начались митинги:
— Вы друзья народа. Начальники говорили речи.
Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано. Правительство просит честно трудиться на благо родины и забыть все, что было, все, что было хоть бы в первые месяцы войны, все, что было на приисках.
Зона к чертям, никакой там зоны для 58-й. Меня вызвал к себе начальник ОЛПа Кучерской:
— Завтра не ходи на шахту, Шаламов.
— Что так?
— Есть работа для тебя. Я, смотри, решил дать тебе поручение, ты знаешь, что за работу? Колючую проволоку снимать с зоны 58-й, где вы живете. [Нрзб.]
— Я с удовольствием.
— Я так и думал, что в тебе не ошибся.
— А помочь?
— Выбирай сам.
С кем-то, я уж не помню, сматывали мы на палки десять рядов колючей проволоки. Началась война, заключенных кормили во время войны на Колыме очень хорошо, стали кормить хуже после Сталинграда и вовсе вернулись к черному хлебу на другой день после окончания войны.
— Черняшка вот, пожуй, а то ведь воздух,[32] сожрешь целый килограмм — и никакого говна. Все всасывается. Какая ж тут польза.
Лагерный паек — пайка, как говорят арестанты, — это главный вопрос арестантской жизни. С двадцатых годов начальство хочет получить давлением на желудок управление человеческой душой в самом таком грубом смысле. Именно конец двадцатых годов, перековка доказали, что увеличение тюремного пайка, умелое управление всей этой довольно сложной пищевой гаммой приносит невиданные результаты. Вместе с зачетами рабочих дней пайка служит самым эффективным инструментом общества в борьбе за план. Градации в питании родились на Беломорканале. Конечно, блатари обманули, как всегда, начальство. Пайки и освобождение приносила справка, которую можно было добыть простой угрозой, пригрозить десятнику, и ты уже ударник, стахановец, и ты уже на воле.
Беломорканал был разоблачением воров, но от самих принципов питания в зависимости от труда, «оплаты по труду», от шкалы не отказались, а, наоборот, расширили. Всего было пять категорий: 1200 грамм, особая — план выполнен более 130 процентов; производственные, штрафная и этапная — 500 грамм. Заключенные порадовали создателей системы лагерного питания. Карточки стали менять раз в пятидневку. Увеличилась забота о подсчете, а следовательно, о сокрытии, смазывании цифр, о приблизительности. Условность была официально признана. На бригаду в 38-м году давали несколько карточек по высшей, несколько по средней, несколько по производственной выработке. Бригадир распределял карточки сам, то отнимая, то отдавая. Ничего, кроме безобразий и произвола, из этого не получилось. В 1939 году перешли на стимуляцию по номерам. Первая категория — самая высокая, далее — вторая, третья, четвертая, пятая и шестая.
Джелгала. Драбкин
На Джелгале[33] я встретил много людей, которые, как я, были задержаны до конца войны в лагерях, которые «пересиживали».[34] По свойствам моей юридической натуры, моего личного опыта, бесчисленных примеров, что Колыма — страна чудес, по известной поговорке лагерников-блатарей, я как-то не волновался этой юридической формальностью, нарушением ее.
Я знал, знал еще с Вишеры, что лагерь — это такое место, где лишнего дня держать не будут по собственной инициативе, что остаться лишний день в зоне после освобождения — абсолютно исключено. И начальство карается такой мерой, что никогда на это нарушение не пойдет. Не так было с моими новыми знакомыми по спецзоне, с моими попутчиками по этапу из Нексикана. Они вызывали начальников, заявляли протесты надзирателям, подавали заявления, телеграммы на имя Сталина — словом, старались использовать лагерную демократию всесторонне. И действительно, как бы отвечая на этот зов и протест, в спецзону приехал вновь назначенный начальник УСВИТЛа[35] Драбкин.
Кровавые события 37-го года коснулись, конечно, и аппарата НКВД. Кто-то подсчитал, что наибольший урон НКВД нанес Берия, он расстрелял пятьдесят тысяч ежовских работников из расстрельного аппарата.
На Колыме был арестован и умер в магаданской тюрьме Иван Гаврилович Филиппов — член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь, бывший председатель разгрузочной комиссии в Соловках, снятый в известном фильме «Соловки», направленный в чекисты еще в первые дни революции. Это было время чекистов-поэтов, когда Агранов был заметной фигурой в литературных салонах Москвы. Ягода покровительствовал Горькому и всем его затеям с трудкоммунами, когда следователь читал на память стихи Гумилева. Второй женой Ивана Гавриловича была библиотекарша Дома Герцена,[36] ездившая с мужем и на Вишеру и на Колыму. Открывать Колыму Берзин взял Филиппова с собой. Еще в 1935 году, к 3-летию Колымы, Филиппов получил орден Ленина, а в 38-м умер в магаданской тюрьме от сердечной слабости. Филиппова на посту сменил Гаранин, развивший бурную, кровавую деятельность. Гаранина я видел раз сорок во время его приездов на прииск «Партизан». «Партизан» был вроде центра борьбы с контрреволюцией. Расстрельные списки читались на всех поверках. Об этом я написал в очерках «Надгробное слово» и «Как это началось», входящих в мою книгу «Артист лопаты». Было ясно, что Гаранина вот-вот арестуют и расстреляют. Эта особенность системы была известна очень хорошо. Так и случилось. В декабре Гаранин был объявлен «японским шпионом» («родная сестра разоблачила» — по тут же спущенной вниз легенде) и расстрелян. Заместителем Павлова по лагерю стал Вишневецкий, но этого повидать я не успел.
В бухте Пестрая Дресва погибло более трех тысяч заключенных. Там заключенные должны были строить порт. Нужное количество продуктов туда было завезено и помещено на складах возле моря. Начались зимние шквалы, и во время одной из бурь все продукты смыло в море. Три тысячи человек умерли от голода, пока в Пеструю Дресву удалось забросить продукты. Вывести людей пешком не было, очевидно, возможности.
Павлов с помошью Гаранина расстрелял на Колыме гораздо больше людей, но маятник судьбы качался, шел в это время в сторону сбережения людского состава после гаранинских акций. Павлов отдал под суд Вишневецкого, и начальник УСВИТЛа исчез. Его не расстреляли, разумеется, а просто перевели куда-то вниз, на Большую землю.
После Вишневецкого был, мне кажется, Дятлов, но судьба его мне неизвестна. Сейчас был Драбкин — он пробыл на должности несколько лет. Драбкина сменил Жуков из Ле-нинградского управления безопасности. После исчезновения Ежова силу стал набирать Берия, и на Колыму прибыл Жуков. Жуков был человек демократичный, подавал заключенным руку. Например, при объезде центральной больницы в 1952 году.
— Почему вы рапортуете «зэка»? Надо говорить не «зэка», а «заключенный». Не надо портить русский язык, — говорил Жуков старшему повару нашей больницы Юре.
После ареста Берии Жуков застрелился в Магадане. Какая сила управляет этими страстями, этими судьбами?
Возвращаюсь к Джелгале. В один из дней заключенных в бараках разбудили командой:
— Внимание, встать!
В барак вошла толпа людей в военных мундирах. Один из них вышел вперед:
— Вот я, позвольте представиться, Драбкин. Слышали? Барак молчал.
— Я — самый главный на Колыме. Я — начальник УС-ВИТЛа, начальник вашего лагеря. Прошу задавать вопросы.
— Почему мы пересиживаем срок?
— То есть как пересиживаете срок — юридическая вольность какая, — весело говорил Драбкин своим спутникам-телохранителям. — Объясните.
— У нас кончился срок еще много месяцев назад, мы не были освобождены, и тут начальство не может объяснить, в чем дело.
— Где здесь начальник?
Местный работник предстал перед взором Драбкина.
— Что вы им, — жест в сторону заключенных, — не объяснили советских законов, что у нас никто не пересиживает срок? А вы, — Драбкин повернулся к задавшему вопрос, — разве вам не объяснили, что вы здесь находитесь до конца войны полностью на лагерном положении?
— Нам говорили в УРЧ — задержаны до конца войны, но никаких документов не присылали.
— Ах, вам не показывали документов. Ну эту ошибку я легко исправлю. Еще вопросы есть?
Вопросов не было.
— Вот видите, а то говорите — пересиживаем, — улыбался Драбкин. — У нас нет людей, которые бы что-то пересиживали.
И Драбкин удалился. Недели через две из Магадана действительно прислали каждому по выписке. На основании распоряжения правительства от такого-то и такого-то числа и года…
Суд в Ягодном
В карцере на Джелгале я сидел полтора месяца.[37] Это была крошечная камера полтора на два метра деревянный ящик глухой, куда воздух, свет и тепло попадали только через открытую дверь. До потолка я доставал рукой без труда. Это была часть штрафного изолятора, карцер штрафного изолятора, ибо в каждом карцере должен быть карцер еще меньше. Как изолятор был карцером для джелгалинской спецзоны, а сама Джелгала была карцером всей Колымы, а сама Колыма была карцером России. С этим чувством я и провел эти полтора месяца. Кормили меня — триста граммов, кружка воды и суп через день. Изолятор был построен по каким-то типовым чертежам, в нем была и большая камера с нарами, где было всегда много людей и откуда ходили на работу. Такие бригады были во всех РУРах. РУРы — это роты усиленного режима. О РУРе на прииске «Партизан» в 1938 году написан мой документальный очерк «РУР». Такой же изолятор рабочий был и на Джелгале. Люди выполняли план, давали металл. Каждый день за работягами приходил конвой. Работали они где-то неподалеку, потому что на обед их приводили, дневальный за обедом, конечно, не ходил, но к обеду все было готово.
Бригада уходила на работу, а дневальный приносил грязную посуду и заставлял меня ее мыть, за это я доедал остатки, да и от своего обеда хлеб и юшку отдавал он мне за труды. Сначала он боялся, приносил в карцер воду для мытья, но началась весна, горячее колымское солнце сияло, лиственницы пахли. Дневальный осмелел, стал пускать меня мыть под струю воды: мимо шел желоб с текущей водой для пром-прибора, для бутары. Это был отведенный в желоб ручей.
— Вот вы не хотите свидания с Заславским и с Кривицким.
— Я уже говорил вам.
— Вы превратились в банду уголовных убийц, — орал [следователь] Федоров.
Я не понимал, в чем дело. Догадался только уже на воле, проглядывая газеты за эти годы. Именно в это время Сталин объявил, что троцкисты превратились в банду уголовников, сомкнулись с уголовниками.
— Так не хотите признать, что Кривицкий требовал от вас выполнения государственного долга?[38]
— Кривицкий — подлец.
— А Заславский? Он говорит слово в слово…
— Заславский тоже подлец.
— А Шайлевич?
— Я не знаю, кто такой Шайлевич.
— Ну, с вашей бригады, бывший директор спортобшества «Динамо». Его из Ягодного…
— Никогда в жизни я Шайлевича не видел.
— Увидите еще.
— А если я попрошу вызвать моих свидетелей, ну, из той же бригады. Вот Федоров, Пономарев.
— Охотно, хоть десять. Как вы не понимаете, что я каждого пропущу сквозь свой кабинет и все они покажут против вас, все.
— Что верно, то верно. Как же быть?
— Ждать решения судьбы. Почему вы плохо работали?
— Я болел, а больной ослабел от голода.
— Напишите заявление, что вы больны и болели. Я написал.
В ту же ночь дверь моего карцера раскрылась, и дневальный велел мне выйти. У стола стоял человек в старом полушубке. Это был врач из амбулатории. Я обрадовался.
— Как фамилия? — ясным голосом спросил врач.
— Шаламов.
— Национальность, инициалы.
Врач сел к столу, вынул медицинский бланк и ясным и твердым почерком написал: «Справка. Заключенный Шаламов В. Т. в амбулаторию номер один спецзоны за медицинской помошью никогда не обращался. Заведующий амбулаторией номер один врач В, Мохнач».
Врач сложил справку вдвое и вручил дневальному. Вот это был удар, федоровский удар.
С доктором Мохначом судьба меня свела через несколько лет в центральной больнице. Мы вместе ждали этапа в Берлаг в 1951 году. В присутствии киносценариста Аркадия Захаровича Добровольского я спросил у Мохнача:
— Вы не работали когда-нибудь на Джелгале?
— Как же, — ответил Мохнач. — Я в 43-м заведовал амбулаторией. Там две амбулатории, так я вот заведовал амбулаторией номер один.
— А не помните ли вы, Владимир Ануфриевич, — сказал я, — как вас вызывали ночью в изолятор к следственному арестанту?
— Нет, не помню.
— Вы написали ему справку, что он никогда в амбулаторию не обращался.
— Мало ли справок мне приходится давать.
Тогда же, в больнице, я выяснил, что он зря щупал мой пульс в джелгалинской амбулатории. Доктор Мохнач не был врачом. Не был даже и фельдшером. Он был химик и в больнице работал в лаборатории. В «Литературной газете» года два назад возникло какое-то целебное лекарство, над которым его автор работал уже сорок лет. Идея эта автору, по сообщению в печати, пришла в голову где-то на Колыме. Этот изобретатель и есть Владимир Ануфриевич Мохнач, доктор колымского Освенцима, сыгравший такую, мягко выражаясь, незавидную роль в моем процессе.
Мохнач ушел, а я лег на пол около двери — я дышал через шель снизу — и постарался заснуть.
На следующий день дневальный принес хлеба побольше:
— Скоро, наверное, кончится следствие.
— Это Федоров знает.
— Да. Федоров сказал, что вы крупный партийный работник и что ваш процесс будет иметь мировую прессу.
— Наверное, — сказал я, никак не понимая, к чему затеян этот странный разговор.
— Не понимаете? Это он мне давно сказал, вначале еще. И я подумал — если я вас немножко подкормлю, мне зачтется.
— Зачтется, непременно зачтется.
Именно эта подкормка и дала мне возможность добраться до суда. К худу или к добру — не знаю.
Следствие кончилось, и меня должны были доставить на суд в трибунал Северного горнопромышленного управления. В июне Федоров нашел двух оперативников, которые должны были доставить людей без возврата, ибо осужденный на Колыме не возвращается в то место, откуда он прибыл на суд. Оперативники эти повели меня по тропам, но я идти не мог, ослабел в карцере, да и до карцера. Оперативники принялись меня кормить, дали целый килограмм беляшки, которую я запил ключевой водой. Запил — ослабел еще больше и двигаться не мог. Тогда они принялись меня бить, били часа два. Было ясно, что в Ягодный они уже опоздали. У меня много зубов выбито на Колыме прикладами и зуботычинами бригадиров, десятников и конвоиров. Кто именно выбил, я не помню, но два верхних зуба выбиты сапогами этих оперативников, именно это я помню, как будто это случилось вчера.
К ночи мы выбрались к трассе — 18 километров Десять по тропам. Тут они закинули меня в машину, сели сами и приехали в Ягодный, сдали в изолятор, набитый так туго, что дверь [откидывалась] от давления людей, их вещей обратно, боец приставил к двери меня, и силой несколько человек вжали в тюремную камеру.
Тут же меня обыскали блатарские руки — до нитки, нет ли где-нибудь благословенного рубля или десятки. Все было перещупано, и меня оставили в покое. Горела кожа, я обжег все лицо, руки, но еще больше мне хотелось спать. Я и спал до обеда, а в обед вызвали на суд.
Суд, единственный гласный суд в моей жизни, открытое заседание трибунала проходило в Ягодном 22 июня 1943 года. Были свидетели: Кривицкий, Заславский, и третьим оказался Шайлевич, которого до суда я ни разу не видел. Тем не менее он очень бойко показывал, что я — враг народа, восхвалял гитлеровское вооружение, считаю Бунина — классиком. Я повторил свои суждения о Заславском и Кри-вииком, потребовал отвода, но суд не удовлетворил ходатайства. Был тут и бригадир Нестеренко, который говорил, что за мной он давно следит как за контрреволюционером, борется с лодырем и врагом народа. Мне было дано последнее слово. И в последнем слове я сказал, что я отрицаю всю эту клевету, я не могу понять, почему на прииске Джелгала третий процесс по контрреволюционной агитации среди заключенных, а свидетели едут все одни. Председатель сказал, что это к делу не относится. Трибунал удалился на совещание. Я ждал расстрела — день был нехорош, годовщина начала войны, но получил десять лет.
Заседание трибунала шло в темной, странной комнате, едва освещенной какими-то лампочками, то загоравшимися, то тухнувшими. Все свидетели сидели плотным рядом на скамейках, тесно сдвинутых. Моя скамья была притиснута прямо к барьеру, и при желании я рукой мог достать до сапог председателя трибунала. Конвой, втиснутый тут же, дышал мне в спину. Конвоир, охранявший свидетелей, дышал в спину свидетелю. После приговора меня увели обратно в ягоднинский изолятор. Начиналась одна из самых трудных полос в моей колымской жизни.
Кажется, прошел и десятый круг ада, оказывается, есть круги еще глубже.
Итак, 22 июня 1943 года я вышел на ягоднинскую пересылку как бы заново рожденный — с новым сроком в десять лет. Лагерный промежуток с 12 января 1942 года по 22 июня 1943 года так и выпал из моей служебной биографии. Целых полтора года жизни после окончания одного приговора до начала второго так и не были юридически оформлены никогда. Неизвестно, жил ли я на земле в это время, был ли на небесах. В раю? В аду?
Я запрашивал лагерные учреждения, что мне было нужно для стажа, и получал только справки об этих двух сроках. А эти — самые трудные полтора года в жизни моей — так и не отразились ни в каком официальном документе. Находился я на Дальнем Севере с августа 1937 года по октябрь 1951 года, вплоть до моего освобождения по зачету после десятилетнего приговора. «Документов не сохранилось» — такая у меня есть справка.
В общем-то, мне это совершенно неважно, так что товарищ Драбкин может быть спокоен, юридических претензий к моему статусу «пересиживающего срок» нет у меня.
Витаминная командировка
Какая у меня была первая работа после непродолжительного знакомства с упомянутым Федоровым и осведомителями Заславским и Кривицким, закончившегося десятилетним сроком.
Я едва стоял на ногах и был равнодушен к своей судьбе. С Ягоднинского ОЛПа так называемого комендантского ОЛПа, транзитки северной лагерной, меня перевели на швейную фабрику, где, кроме швейного цеха, был еще пошивочный цех. Мастер цеха обучал меня в числе двадцати или тридцати человек держать иглу, шить. Работа была превосходная, но и с этой работой мне было не под силу [справиться]. Я что-то делал, едва двигался, запинался за каждую щепку и внезапно понял, что я теперь доходяга как на «Партизане» в 1938 году, но это мне было все равно. Табельщиком в этой швейной мастерской работал Слуцкий — старый еврей, один из авторов учебника по истории Западной Европы. Фридлянд и Слуцкий — так назывались эти авторы. Мне кто-то его показал и назвал. Но все это было не нужно и не важно мне. Я мог думать только о еде, о сне.
Начальство решило, что куда-то меня приставить нужно. Начинаются скитания по витаминным командировкам. Я попал в штаты пищевого комбината. Первая же работа кончилась для меня чуть ли не арестом. На витаминных командировках битье поручают бригадирам и конвоирам. Меня били тут очень много. Документальный очерк «Ягоды», документальный очерк «Кант» написаны именно об этом времени. Не случайно первые мои рассказы вызваны в памяти днями особенного голода. Если на прииске хоть чем-нибудь кормили, хоть бурдой, ибо много крали конвоиры, надзиратели, блатари — везде, кроме больницы, то на витаминной командировке именно на жизнь-то, на «виту», и не оставалось ничего.
Старые заключенные как-то приспосабливались, носили дровишки вольным десятникам, ягоды собирали конвою, ходили пилить дрова начальнику. Я тоже все это делал — напарник всегда нужен. Но все это поправить, возвратить к здоровой жизни не могло. С каждой командировки меня гнали на другую, предварительно избив и обсчитав, ибо ведь что-то я делал, как ни ничтожно было количество палок — дров, которые я приносил в лагерь, как ни малы кубометры грунта, которые я добыл своей лопатой из канавы, — ведь что-то я делал. Результат моего труда всегда, во всех случаях, приписывали другим. Но это тоже мне было все равно.
Я чувствовал, что тяжело болен. Но амбулатории на витаминных командировках не было, а разъездные фельдшера никаких болезней у меня не находили. Я давно утратил [ощущение] разницы между вареным и сырым, горячим и холодным. Я глотал все, что попадалось на глаза. И, помню, бесконечно был счастлив, когда, выскочив утром на улицу, нашел несколько корок, совершенно свежих, еще теплых корок хлеба, брошенных проходившим десятником. После я несколько утр выскакивал на мороз, но корок больше не встречал. На витаминных командировках норма питания много меньше приисковой. Да еще украдет конвой, бригадир. Передовиков там нет. Обычно даже на больших командировках кормили два раза в день, и на второй раз, кроме супа, ничего не бывало. Все, что положено вареного, — с утра, и хлеб подается с утра, чтобы заправляться и работать. Хлеб — это шестисотка, конечно, мяса там не бывает никогда, ибо по таблице замены белковую часть обеспечивает селедка. Именно селедка, селедкой живет Колыма заключенных. Это ее белковый фонд. Надежда. Ибо для доходяги нет надежд добраться до мяса, масла, молока или какой-нибудь кеты или горбуши.
43-й год остался в моей памяти какой-то полосой бесконечных отморожений, битья, холода, доплываний на этом целебном витаминном комбинате.
На командировках «щиплют» стланик, рвут иглы из стланика, их пихают в мешок и увозят автомашины на Таскан, там пищевой комбинат, где варят стланик — омерзительный экстракт, который заставляют всех зэка пить в столовой перед обедом. Ставится конвоир, чтобы пили. Омерзительный вкус держится во рту не менее часа. Стало быть, как ни ничтожен обед, он испорчен, вкусовые качества потеряны.
В 37, 38, 39, 40, 41, 42-м цинга хлестала приисковых людей, валила с ног, ноги, десны пухли от цинги и пеллагры. От пеллагры у меня сходили с рук перчатки, с ног — концы ступней, кожа всегда там шелушилась.
Это записано в истории болезни, которая когда-то хранилась в больнице. Кожная моя перчатка была на выставке на врачебной конференции в Магадане. Но все это было позже. А в 1943 году я щипал стланик и опухал от цинги. На «Партизане» в 1938 году я опухал от цинги, зубы шатались, и кровь с гноем натекала в ботинки, или, вернее, в «чуню» — резиновую галошу, ботинок заключенным на приисках не давали в гаранинские времена.
На этих витаминных командировках на моих глазах умер Роман Романович Романов — бывший комендант на прииске «Партизан». Я часто наблюдал, — заключенные ведь не могут оторвать глаз от продуктов на вахте, когда раздают посылки. Романов управлялся с этим делом, посылки разбивал, ломал, куски сахара летели на пол, табак просыпался, сухари смахивались торопливо, якобы неумелой рукой, на пол. После раздачи все эти куски и крохи оставались, очевидно, на долю Романова и его товарищей с вахты. Роман Романович был царем на «Партизане», когда пришел наш этап. Я и не сомневался, что это вольнонаемный, партийный даже человек. И вдруг оказалось, что его арестовали, судили по берзинскому делу. Сейчас он прибыл на витаминку полумертвецом. Он умирал в углу. Начались холода. Топора в палатку, обложенную мхом, не давали, и печку топили с пола тремя стволами, втолкнутыми в печь и горящими по закону трех головней. Вот тут-то и умер Романов, прижался к печке холодной. Я заталкивал эти деревья в печь, поддерживая огонь. Было как-то безразлично — буду я спать или не буду. Едва Романов захрипел, а товарищи уже отматывали его портянки. У Романова были хорошие портянки из одеяла, типичные портянки колымских доходяг, когда одеяло отрезано, но еще греет, если им окутать лицо, а главное, числится по [реестру], а портянки — обменная личная собственность арестанта. Я завел себе котелок жестяной из трехлитровой банки, точно такой же, как у меня был на «Партизане» в 38-м году, который начальник ОЛПа лейтенант Коваленко пробил кайлом собственной своей рукой и растоптал. Уничтожение личной посуды заключенных описано мной в очерке «Посылка».
Наконец пришел и мой час. У меня началась дизентерия. Неудержимый понос сотрясал все тело. Пока я добрел до фельдшера, понос ослаб, температурного термометра у фельдшера не было, но обошлись и без термометра. И я был записан на прием к врачу. Врач вышел со мной на двор.
— Ничего нет?
— Нет.
— Ну, поедешь обратно.
С большим трудом моему кишечнику удалось извергнуть каплю зеленоватой слизи. Врач выписал путевку в больницу Беличью. Вот эта больница Беличья фельдшер Борис Николаевич Лесняк и Нина Владимировна Савоева, главный врач этой больницы, и спасли меня для жизни.
Если жизнь — благо.
Больница Беличья была всего в шести километрах от витаминки и комендантского ОЛПа. Но пройти эти шесть километров законным путем мне удалось за шесть лет.
Беличья
Автомашина — я был в ней единственным грузом — мягко съехала с трассы и сразу сбавила ход, подпрыгивая на выбоинах, петляя по единственно возможным проездам, кое-как выбираясь к ночному, ничем не освещенному дому, бараку. На крыльце зажегся свет, кто-то с «летучей мышью» пошел вдоль барака, потом вернулся.
— Где больной?
Впервые за шесть лет меня назвали больным, а не падлой или доходягой.
— Вот.
Вслед за провожатым я пошел, волоча ноги, спотыкаясь о каждую выбоину пути, обходя какие-то лужи, выбираясь на тропки.
— Вот на это крыльцо.
Мы вошли в огромную брезентовую палатку, старую военную палатку, заставленную кроватями с сетками и деревянными топчанами. Везде дышали, кряхтели, стонали люди.
Провожатый снял бушлат, надел на плечи, выпустил заткнутый за полы белый халат и оказался доктором Лебедевым.
— Сначала сюда. — Он указал на крошечный кабинет.
— Мне в уборную.
— Ну, тогда не сюда. Александр Иванович!
Из мрака возникла огромная фигура, закутанная во множество халатов, в шапке зимней, с какой-то дощечкой в руках.
— Вот запиши его и — каждый час. Утром скажешь.
— Есть, иди сюда, — сказал кто-то с сильным грузинским акцентом.
Александр Иванович оказался бывшим секретарем Закавказского крайкома, которому было доверено дело величайшей важности — разоблачение симулянтов дизентерийников-пеллагрозников.
Александр Иванович должен был проверять стул больных: кто сколько раз сходил, какого цвета стул. Консистенция, цвет и частота стула имели решающее значение для лечения дизентерии. И скобленная многократно фанерная доска была основным [нрзб], обличающим симулянтов документом.
Время от времени больной вскакивал и судорожно мчался, кидался в уборную с закрытым «очком». На «очке» лежала доска. Вот на этой-то доске и должны были оправляться больные и ждать, пока Александр Иванович не посмотрит стул. Фанерная доска Александра Ивановича была разграфлена на несколько вертикалей — цвет, количество, консистенция, запах — и бесконечное количество линеек, на которые вносились фамилии больных.
Александр Иванович записал меня на последнюю линейку, отметил какой-то кружок или параллелепипед внизу доски и осмотрел мой кал. Александр Иванович был удовлетворен осмотром.
— Вот так и будешь, меня толкнешь и покажешь свой стул.
Опрос во врачебном кабинете был недолгим, все ныло у меня, все болело — раны незаживающих отморожений 38-го года. Человек в белом халате отвел меня на место, койку где-то посреди палатки, короткую по моему росту, покрытую одеялом, выношенным до чрезвычайной тонизны, но чистым одеялом, с подушкой, в которую было набито сено, колымское непахнущее сено. Тонкая подушка чуть прикрыла подголовник деревянный, вытянутые ноги свисали с топчана. Но я тотчас же погрузился в сон, в забытье, арестантский сон, которым я много лет спал на Колыме, с трудом отличая его от яви.
Ночью я очнулся мгновенно — не от голосов, от присутствия каких-то людей. Доктор Лебедев показывал на меня кому-то незнакомому, и кто-то незнакомый говорил:
— Да, да. Да. Да, Да. — И потом сказал непонятно: — Из счетоводов?
— Из счетоводов, Петр Семенович.
На следующий лень заведующий первым терапевтическим отделением доктор Петр Семенович Калембет, бывший преподаватель Военно-медицинской академии, осмотрел меня, осмотрел без всякого интереса.
— Только положите его не здесь. Поставьте его койку рядом вон с той, с голубой. Поняли? А лечение — как обычно, стол — первый.
Меня сейчас же перевели рядом с голубой койкой. На ней лежал опухший белой [нрзб] опухолью больной. Следы пальцев оставались на [его] ногах. Но больной не замечал этого — все что-то говорил, говорил, радовался, смеялся.
— Ну, знакомьтесь, — сказал Калембет, — вот вам товарищ-земляк.
Белый, опухший, похожий на утопленника больной был Роман Кривицкий[39] —бывший ответственный секретарь «Известий», автор ряда статей на темы воспитания, да и брошюры у него какие-то были.
— Да вот. — Роман Кривицкий рассказывал о себе, об аресте, о гражданской войне, в которой участвовал комсомольцем, о Бухарине, о газете [нрзб] тех лет.
— Ну, как здоровье?
— Я уже поправляюсь, — со смущенной торопливой улыбкой сказал Роман Кривицкий. — Скоро уже выпишусь. Вот ослаб только — на отметки к Александру Ивановичу не успеваю. Замерзаю только тут. Спасибо Петру Семеновичу, велел выдать одеяло добавочное. Скоро и на выписку.
К вечеру Роман Кривицкий умер.
— Это Петр Семенович хотел отвлечь его, поставив вашу койку рядом с ним. Не вышло.
— А что значит — из счетоводов?
— Из интеллигентов. Это у Петра Семеновича такая поговорка. И вы — счетовод, и я — счетовод, и он сам — счетовод. Для краткости.
Так сказал мне фельдшер Лебедев, которого я поначалу принял за врача. Лебедев же был колымский фельдшер-практик без медицинского образования, преподаватель физики, что ли. Калембет же был преподаватель Военно-медицинской академии по курсу внутренних болезней. Он был осужден в 1937 году на десять лет по 58-й статье.
Я стал немного приходить в себя. В отделение часто приходил молодой фельдшер из хирургического отделения Борис Николаевич Лесняк. Лесняк был арестован студентом последнего курса медицинского института в Москве. Отец его умер, а мать была в ссылке. У Лесняка был срок восемь лет по 58-й. Прекрасный художник, ученик скульптора Жукова. Он лепил, учил стихи, писал стихи и рассказывал. Колымская колесница не раздробила, напротив, закалила и выдрессировала [его] для активного добра. Неисчислимо количество людей, которым помог Лесняк. На общих работах он не был, сразу попал по специальности, но это как бы дополнительный нравственный долг создало — поставило новые задачи. Он был в хороших отношениях с главным врачом Ниной Владимировной Савоевой, полной хозяйкой Беличьей, членом партии. Из партии Нину Владимировну исключили за связь с зэка. Предложили выбор: или партбилет, или Лесняк. Савоева отказалась от партбилета.
Когда Лесняк кончил срок, она вышла за него замуж, но в партии не восстановилась, специализировалась на хирурга и много лет живет в Магадане. У них есть дочка — уже невеста.