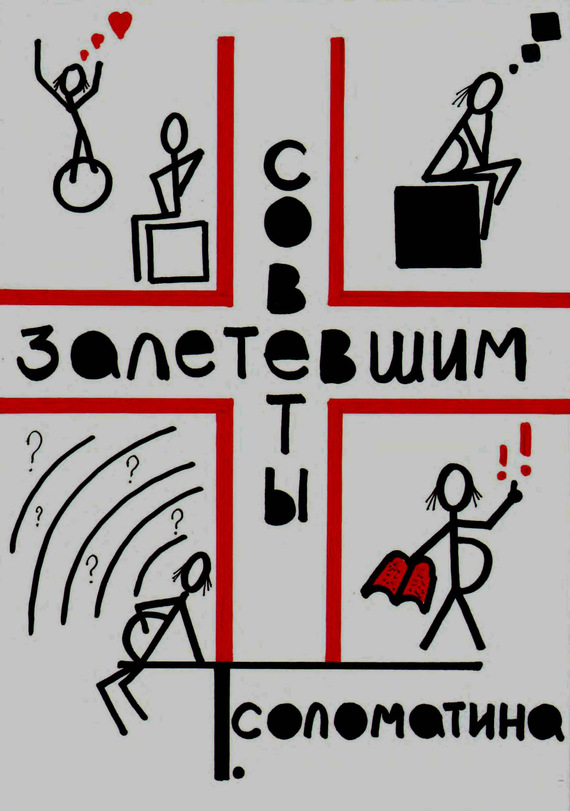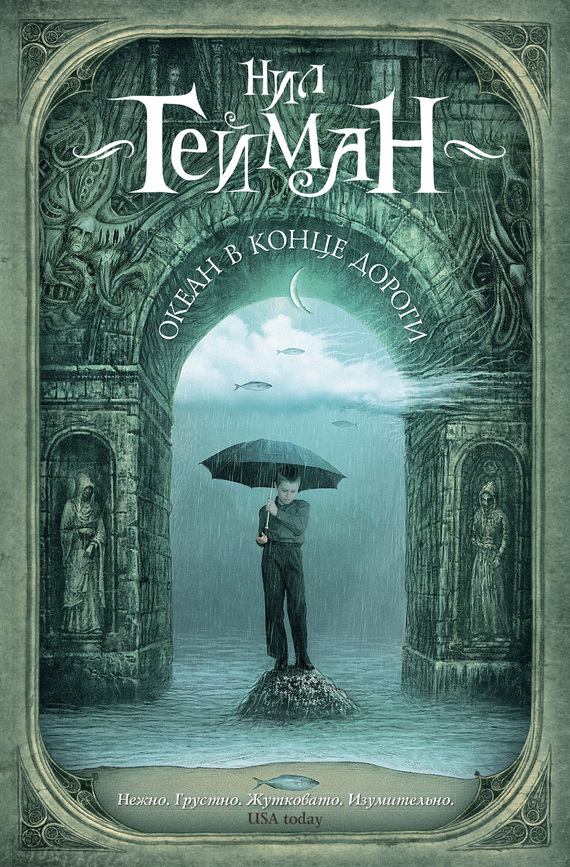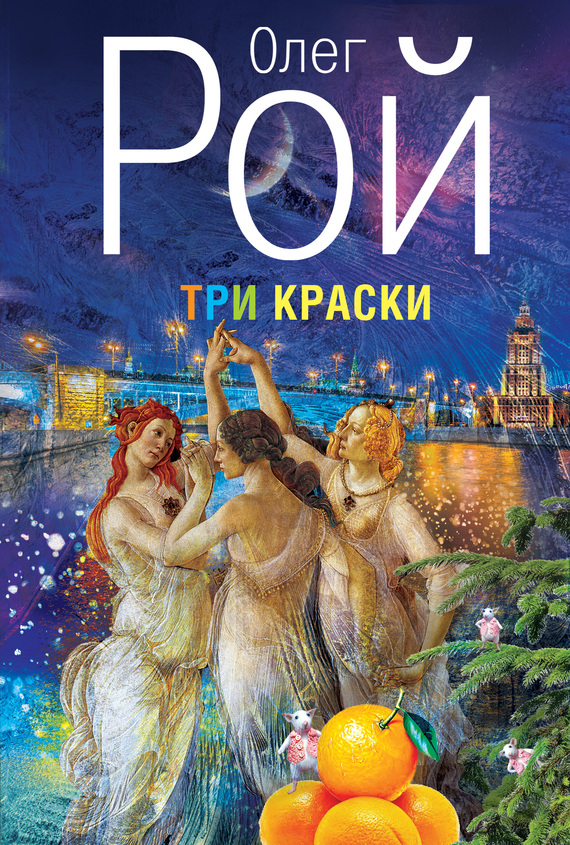5-я волна Янси Рик

Тебе тепло, болезненных ощущений нет. Ты паришь, как будто только что залпом выпила пузырек сиропа от кашля. Белый мир обнимает тебя белыми руками и уносит в белые глубины закоченевшего моря.
И тишина, черт побери, такая, что во всей вселенной есть только один звук — удары твоего сердца. Тихо до того, что твои мысли шуршат в глухом промерзшем воздухе.
По пояс в сугробе под безоблачным небом. Снег удерживает тебя в вертикальном положении, потому что ноги уже не могут.
И начинается: я жива, я умерла, я жива, я умерла.
А еще этот проклятый мишка, который устроился, как на насесте, на твоем рюкзаке, смотрит в пустоту большими карими глазами и заводит шарманку: «Ты ничтожество, слабачка, ты же обещала!»
Холодно так, что слезы превращаются в лед на щеках.
— Я не виновата, — оправдываюсь перед мишкой, — я погоду не заказывала. Не нравится, все претензии к Богу.
Я этим теперь регулярно занимаюсь, то есть предъявляю претензии Богу.
Например:
«Бог, на черта все это?
Уберег меня от «глаза», чтобы я смогла убить солдата с распятием. Спас от глушителя, чтобы моя рана воспалилась и каждый шаг по шоссе превратился в пытку. Давал силы идти, а потом на целых два дня устроил метель, чтобы я увязла по пояс в этом сугробе и умерла наконец от обезвоживания под великолепным синим небом.
Спасибо тебе, Господи».
«Уберег, спас, поддерживал, — говорит мишка. — Спасибо тебе, Господи».
«А толку-то?» — думаю я.
Всю вину я взваливаю на папу. Он с такой подростковой симпатией рассуждал о других и так старался не терять оптимизма. Но я на самом деле вела себя ничуть не лучше. Просто было трудно смириться с тем, что вечером я легла в постель человеком, а утром проснулась тараканом. Признать тот факт, что я мерзкое насекомое с мозгом не больше булавочной головки, да еще разносчик инфекции, не так-то легко. Нужно время, чтобы смириться с подобным положением вещей.
А мишка все не унимается:
«Ты знаешь, что таракан может целую неделю прожить без головы?»
«Ага. Рассказывали на биологии. То есть ты намекаешь, что я не дотягиваю до таракана. Спасибо. Придется теперь выяснять, что я за вредное насекомое».
И тут меня осеняет. Может быть, глушитель поэтому и не добил меня на шоссе. Прыснул спреем на букашку, и шагай дальше. Зачем топтаться рядом и смотреть, как эта букашка вертится на спине и цепляется за воздух тоненькими лапками?
Валяться под «бьюиком» или бежать — какая разница? В любом случае ущерб был нанесен. Моя рана не заживет сама по себе. Первый выстрел был смертным приговором, так зачем тратить на меня патроны?
Метель я переждала на заднем сиденье «форда эксплорера». Опустила спинку переднего кресла и соорудила себе уютную железную хижину, откуда можно наблюдать, как весь мир становится белым. Окна открыть не удалось, так что очень скоро салон провонял кровью и гноем.
Все обезболивающие таблетки я проглотила за первые десять часов.
Съестные припасы доела к концу первого дня во внедорожнике.
Когда хотелось пить, я приоткрывала люк и зачерпывала ладонью снег с крыши. Чтобы не задохнуться, держала крышку люка поднятой, пока зубы не начинали клацать от холода и каждый выдох не превращался в ледяной шар у меня перед носом.
Во второй день снега выпало на три фута, и моя маленькая металлическая хижина уже меньше походила на убежище, скорее на саркофаг. Дни были всего на два ватта светлее ночей, а ночи были абсолютным отрицанием света.
«Ну, понятно, — думала я. — Значит, вот так мертвые видят мир».
Я прекратила задаваться вопросом, почему глушитель оставил меня в живых. Меня больше не тревожило странное ощущение, будто у меня два сердца: одно в груди, а второе, поменьше, в колене. Мне уже было неинтересно, закончится ли снег до того, как оба сердца перестанут биться.
Я даже не спала по-настоящему. Пребывала в каком-то промежуточном состоянии между здесь и там, прижимала к груди мишку, а тот продолжал смотреть на мир открытыми глазами, когда мои глаза закрывались. Этот мишка исполнял обещание, которое дал мне Сэмми. Он был со мной.
«Кстати, про обещания, Кэсси…»
За эти два снежных дня я, наверное, тысячу раз просила у него прощения.
«Прости меня, Сэмс. Я сказала, что приеду, что бы ни случилось, вот только ты слишком мал, чтобы понять, что неправда бывает разной. Есть неправда, и ты знаешь, что это неправда. Есть неправда, о которой ты не знаешь и понимаешь, что не знаешь. А есть такая, про которую ты только думаешь, что знаешь, а на самом деле нет. Давать обещание в разгар операции инопланетян по зачистке Земли от людей — это последняя категория неправды. Прости!»
И вот спустя день окоченевшая Кэсси, по пояс в сугробе, с беретиком из снега на обледеневших волосах, с покрытыми инеем ресницами умирает по дюйму. Но умирает хотя бы стоя, пытаясь выполнить обещание, которое не поможет выполнить ни одна молитва.
«Мне так жаль, Сэмс, так жаль.
Больше никакого вранья.
Я не приду».
33
Я точно не на небесах. Тут не та атмосфера.
Бреду в густом тумане безжизненной белизны. Мертвое пространство. Тишина. Я даже свое дыхание не слышу. — Вообще-то я не уверена, что дышу. А дыхание — это пункт первый в списке «Как узнать, что ты еще жива?».
Я уверена, что в комнате кто-то есть. Не вижу его и не слышу, не прикасаюсь к нему и не чувствую его запаха, но знаю, что он рядом. Не знаю, почему я это знаю, но знаю, что это он и он за мной наблюдает. Он не двигается, пока я пробираюсь сквозь белый туман, но расстояние между нами не меняется. Меня не раздражает его присутствие и то, что он на меня смотрит. Но уютно я себя от этого тоже не чувствую. Он просто данность, такая же, как туман. Есть туман, есть я, которая не дышит, и есть человек, который все время рядом и все время наблюдает.
Но когда туман рассеивается, рядом со мной никого нет. Я на кровати с четырьмя столбиками, лежу под тремя лоскутными одеялами, которые немного пахнут кедром. Белое ничто исчезает, его место занимает теплый желтый свет от керосиновой лампы, которая стоит на столике возле кровати. Чуть приподняв голову, я вижу кресло-качалку, зеркало в человеческий рост и фанерные дверцы шкафа. К моей руке прикреплена пластиковая трубка, она убегает к полиэтиленовому пакету с прозрачной жидкостью, который подвешен на металлическом крючке.
Несколько минут уходит на то, чтобы распознать окружающие предметы, понять, что ниже пояса я ничего не чувствую, и принять совершенно необъяснимый факт: я не умерла.
Тяну руку и нащупываю толстую повязку на колене. Хотелось бы почувствовать икру и пальцы на ноге, но я ничего не чувствую и с тревогой допускаю, что ниже повязки ничего нет, ни икры, ни пальцев. Но чтобы пощупать ногу ниже колена, надо сесть, а сесть я не могу. Кажется, в рабочем состоянии у меня остались только руки. Я откидываю одеяло и открываю свою верхнюю половину прохладному воздуху. На мне хлопчатобумажная пижама в цветочек.
«Чем тебе не нравится пижама?» — спрашиваю я себя.
Под ней ничего нет. Стало быть, какое-то время между снятием с меня одежды и надеванием на меня пижамы я была абсолютно голой, аб-со-лютно.
Я поворачиваю голову влево: комод, стол, лампа. Вправо: окно, стул, стол. А еще мишка, он здесь, сидит рядом со мной, опираясь на подушку, задумчиво смотрит в потолок, и плевать ему на все вокруг.
«Мишка, где мы, черт возьми?»
Внизу хлопает дверь, половицы под кроватью вздрагивают. Я слышу топот тяжелых ботинок по доскам. Потом тишина. Гнетущая такая тишина, если не считать стука моего сердца о ребра, а стучит оно громко, как акустические бомбы Криско, так что не услышать невозможно.
Бумбум-бум. И каждый новый «бум» громче предыдущего.
Кто-то поднимается по лестнице.
Я пытаюсь сесть. Не самое умное решение. У меня получается приподняться на четыре дюйма над подушкой, и это все. Где моя винтовка? «Люгер»? Кто-то уже поднялся по лестнице и сейчас стоит за дверью, а я не могу двигаться, и даже если бы могла, у меня на вооружении только чертова плюшевая игрушка. И что делать? Задушить этого типа в объятиях?
Когда не знаешь, что делать, лучше не делать ничего. Притвориться мертвой. Выбор опоссума.
Прикрыв глаза, сквозь ресницы смотрю, как открывается дверь. Вижу красную рубашку в клетку, широкий коричневый ремень, синие джинсы. Большие сильные руки с аккуратно подстриженными ногтями. Стараюсь дышать ровно, даже когда он становится рядом с кроватным столбиком и, как я догадываюсь, проверяет капельницу. Потом он поворачивается, я вижу его зад, снова поворачивается, и его лицо, когда он садится в кресло-качалку рядом с зеркалом, попадает в поле моего зрения. Я вижу его лицо и свое в зеркале.
«Дыши, Кэсси, дыши. У него хорошее лицо, не похоже, что он желает тебе зла. Иначе вряд ли он притащил бы тебя сюда и поставил капельницу. Простыни такие мягкие и чистые. Он переодел тебя в эту хлопковую ночнушку. Что, по-твоему, он намерен с тобой сделать? Твоя одежда была грязной и вонючей, как и твое тело, а вот теперь кожа пахнет свежестью и немного лилией. Он тебя помыл, представляешь?»
Я стараюсь дышать ровно, но получается не очень.
— Я знаю, что ты не спишь, — говорит парень с хорошим лицом.
Я ничего не отвечаю, и тогда он добавляет:
— И еще, Кэсси, я знаю, что ты за мной наблюдаешь.
— Откуда ты знаешь, как меня зовут? — каркающим голосом спрашиваю я.
Горло у меня как из наждачной бумаги. Открываю глаза и теперь вижу его лучше. Насчет лица я не ошиблась, у него правильные черты, как у Кларка Кента. Парню, наверное, лет восемнадцать-девятнадцать. Плечи широкие, красивые руки и еще эти ухоженные ногти.
«Что ж, — говорю я себе, — все могло быть хуже. Тебя мог подобрать какой-нибудь пятидесятилетний извращенец, который любит развлекаться с покрышками от грузовика и держит на чердаке голову своей маменьки».
— Водительские права, — отвечает он.
Он не встает, сидит в кресле, опершись локтями на колени, и еще он опустил голову, я трактую это не как угрозу, а как признак смущения. Смотрю на кисти его рук и представляю, как он моет ими каждый дюйм моего тела.
— Я Эван, — говорит он. — Уокер.
— Привет, — говорю я.
Он усмехается, как будто в сказанном мной есть что-то смешное.
— Привет.
— И где же я, Эван Уокер?
— В спальне моей сестры.
У него каштановые волосы и глубоко посаженные глаза шоколадного цвета, немного грустные и вопрошающие, как у щенка.
— Она?
Он кивает. Потом медленно потирает ладони.
— Вся семья. А у тебя?
— Все, кроме младшего брата. Это вот его мишка, не мой.
Эван улыбается. Улыбка у него хорошая, как и лицо.
— Очень симпатичный мишка.
— Раньше выглядел получше.
— И все остальное тоже.
Надеюсь, он говорит обо всем вообще, а не только о моем теле.
— Как ты меня нашел? — спрашиваю я.
Эван отводит взгляд, потом снова смотрит на меня. Шоколадные глаза потерявшегося щенка.
— Птицы.
— Что за птицы?
— Грифы. Когда вижу, как они над чем-то кружат, всегда проверяю. Мало ли…
— Понятно, все нормально. — Мне не хочется слышать подробности. — Значит, ты притащил меня сюда, поставил капельницу… Кстати, откуда у тебя капельница? А потом снял с меня всю… помыл…
— Честно сказать, я сначала не верил, что ты жива, и что выживешь, тоже не верилось.
Он трет ладони. Мерзнет? Или нервничает? Сама я и мерзну и нервничаю.
— Капельница у меня давно. Пригодилась еще в чуму. — Наверное, не надо этого говорить, но каждый день, возвращаясь домой, я думал, что живой тебя не застану. Совсем уж ты была плоха.
Эван тянет руку к карману, и я непроизвольно вздрагиваю. Он это замечает и улыбается, чтобы я успокоилась, а потом достает похожий на смятый наперсток комочек металла.
— Если бы это попало не в ногу, ты бы уже была мертва, — говорит Эван, вращая пулю между указательным и большим пальцем. — Откуда прилетела?
Я закатываю глаза, просто не могу сдержаться: вот так вопрос!
— Из винтовки.
Эван качает головой, считает, что я его не поняла. Мой сарказм, кажется, на него не действует. Если это так, у меня проблемы, потому что сарказм — мой обычный способ коммуникации.
— Из чьей винтовки?
— Не знаю. Иных. Их отряд под видом наших солдат уничтожил всех в лагере, и моего отца тоже. Только мне удалось спастись. Ну, если не считать Сэмми и других детей.
Эван смотрит на меня, как будто я брежу.
— А что случилось с детьми?
— Их увезли. В школьных автобусах.
— В школьных автобусах?
Эван трясет головой. Инопланетяне в школьных автобусах? Похоже, он сейчас улыбнется. Эван трет тыльной стороной кисти губы, я, наверное, слишком долго на них смотрю.
— Куда их увезли?
— Не знаю. Нам сказали, что на базу Райт-Паттерсон, но…
— Райт-Паттерсон. База ВВС? Я слышал, там сейчас никого нет.
— Ну, едва ли можно верить тому, что они говорят. Они же враги. — Я замолкаю, у меня пересохло во рту.
— Хочешь попить? — спрашивает Эван Уокер; похоже, он из тех, кто все замечает.
— Не хочу, — вру я.
Вру и сама не понимаю зачем. Чтобы показать, какая я крутая? Или для того, чтобы он не вставал с кресла, ведь это первый человек за много недель, с которым я разговариваю, если не считать плюшевого мишку, а мишка не в счет.
— Зачем они забрали детей?
Теперь у него глаза круглые и большие, как у мишки. Даже трудно сказать, что в его лице привлекает больше: добрые глаза шоколадного цвета или плавная линия подбородка? Или, может, густые волосы, то, как они падают ему на лоб, когда он наклоняется ближе ко мне?
— Я не знаю, какая у них была цель, но наверняка это хорошо для них и плохо для нас.
— Ты думаешь…
Эван не заканчивает фразу, не может или хочет, чтобы я сама ее закончила. Он смотрит на мишку, который лежит, прислонившись к подушке, рядом со мной.
— Что? Что моего брата убили? Нет. Думаю, он жив. Увезти детей, а потом убить всех, кто остался? Не вижу логики. Они весь лагерь уничтожили какой-то зеленой бомбой…
— Подожди. — Эван поднимает руку. — Зеленая бомба?
— Я толком не разглядела.
— Тогда почему зеленая?
— Потому что это цвет денег, травы, листьев и бомб пришельцев. Какого черта? Откуда мне знать, почему она была зеленой?
Эван смеется. Такой тихий сдержанный смех. Когда он улыбается, у него правый уголок рта поднимается чуть выше, чем левый.
А я думаю: «Кэсси, почему ты все время пялишься на его губы?»
Странным образом то, что мне спас жизнь симпатичный парень с кривоватой улыбкой и большими сильными руками, — самое волнующее событие из всех, что случались со мной после прибытия иных.
От воспоминаний о том, что случилось в лагере беженцев, у меня мурашки бегают по коже. Решаю сменить тему. Смотрю вниз, на одеяло. Похоже, оно ручной работы. У меня в голове мелькают картинки, как пожилая женщина шьет одеяло, и почему-то хочется заплакать.
— Давно я здесь? — спрашиваю слабым голосом.
— Завтра будет неделя.
— Тебе пришлось отрезать…
Даже не знаю, как сформулировать вопрос.
К счастью, делать этого не приходится.
— Ампутировать? — уточняет Эван. — Нет. Пуля не попала в колено, так что, думаю, ходить ты сможешь, но есть вероятность, что поврежден нерв.
— А, ну да, ну да… Пора бы мне уже привыкнуть к таким вещам.
34
Эван уходит ненадолго и возвращается с чашкой бульона. Бульон не куриный или там говяжий, но мясной, может из оленины. Я лежу, вцепившись в край одеяла, а он помогает мне сесть. Эван держит чашку двумя руками и смотрит на меня, но не исподтишка, а как на больного, когда самому худо от того, что не знаешь, как все поправить. — Или, думаю я, этот его взгляд — маскировка? Извращенцы — они только потому извращенцы, что не симпатичны тебе? Я называла Криско чокнутым извращенцем за то, что он хотел подарить мне украшения с трупов? За его слова, что я бы приняла кулон, будь он предложен Беном Пэришем?
Воспоминания о Криско портят аппетит. Эван видит, что я тупо уставилась на чашку с бульоном, и аккуратно перемещает ее на прикроватный столик.
— Надо бы допить, — говорю чуть жестче, чем следовало бы.
— Расскажи об этих военных, — просит Эван. — Как ты поняла, что они… не люди?
Я рассказала все по порядку: как мы увидели дроны, как приехали солдаты и увезли детей, потом загнали взрослых в бараки и всех там перебили. Но главное — «глаз». «Глаз» — это точно инопланетное.
— Они люди. — Так решает Эван, когда я заканчиваю рассказ. — Наверняка работают с визитерами.
— Умоляю, не называй их визитерами.
Ненавижу, когда их так называют. Это стиль говорящих голов из ящика в пору Первой волны. Так их называли все ютьюберы, все, кто отписывался в Твиттере, и даже президент так их называл на новостных брифингах.
— А как мне их называть? — спрашивает Эван.
Он улыбается. У меня такое ощущение, что, если я захочу, он назовет их турнепсами.
— Мы с папой называли их иными, ну, чтобы было понятно: они не такие, как люди.
— Я про то же, — говорит очень серьезно Эван. — Просто очень сложно допустить, что они выглядят как мы.
Эван говорит как папа, когда тот разглагольствовал об инопланетянах. Сама не знаю, почему меня это начинает бесить.
— Вот здорово, да? Война на два фронта. Мы против них, и мы против нас и них.
Эван качает головой. Он словно сожалеет о чем-то.
— Люди не в первый раз переходят на другую сторону, когда становится ясно, кто победитель.
— То есть предатели вывезли из лагеря детей, потому что хотели стереть с лица земли всех людей, кроме тех, кому не исполнилось восемнадцати?
Эван только пожимает плечами.
— А ты как думаешь? — спрашивает он.
— Я думаю, что мы облажались по-крупному, когда люди с оружием решили помочь плохим парням.
— Может, я ошибаюсь, — говорит Эван, только я вижу, что он так не думает. — Может, эти визите… эти иные маскируются под людей, или, может, они даже какие-нибудь клоны…
Я согласно киваю. Нечто подобное я уже слышала, когда папа рассуждал о том, как могут выглядеть иные.
Вопрос не в том, что они не смогли это сделать, а в том, почему не стали этого делать. Мы знали об их существовании пять недель. Они знали о нас годы, может, сотни или даже тысячи лет. Достаточно времени, чтобы получить ДНК и вырастить столько наших копий, сколько потребуется. Есть вероятность, что их организмы не способны выжить в условиях нашей планеты. Помните «Войну миров»?
Может, из-за этого я сейчас злюсь? Эван совсем как Оливер Салливан. А Оливер Салливан умер, лежа в грязи у меня на глазах, когда мне хотелось только одного — отвести взгляд.
— Или они как киборги, терминаторы такие, — говорю я.
Это только наполовину шутка. Я вблизи видела одного мертвого, того, которого убила возле ямы с пеплом. Пульс у него не проверяла, но он точно был мертвым, и кровь с виду была настоящая.
От воспоминаний о лагере беженцев и о том, что там произошло, у меня всегда начинается ломка, вот и сейчас накрывает паника.
— Мы не можем здесь оставаться, — говорю я.
Эван смотрит так, будто у меня с головой плохо.
— То есть?
— Они нас найдут!
Я хватаю керосиновую лампу, срываю стеклянную колбу и дую на пляшущий язык огня. Огонь шипит, но не гаснет. Эван забирает у меня колбу и устанавливает ее обратно на основание лампы.
— Снаружи минус тридцать семь, до ближайшего жилища не одна миля, — говорит он. — Спалишь дом, и нам конец.
Нам конец? Это попытка пошутить? Но Эван не улыбается.
— Да и путешественница из тебя пока никакая. На поправку уйдет еще минимум три или четыре недели.
Три или четыре недели? Этот парень, версия мистера Брауни с рекламы полотенец, наверное, шутит? Свет в окнах и дым из трубы, да мы и три дня здесь не продержимся!
Эван улавливает градус моей паники.
— Хорошо. — Он вздыхает и гасит лампу.
Комната погружается в темноту. Я его не вижу, мне вообще ничего не видно. Но я чувствую его запах, он пахнет дымом и еще чем-то вроде детской присыпки. Проходит пара минут, и я чувствую, как он перемещается всего в нескольких дюймах от меня.
— Ты сказал, не одна миля? — спрашиваю я. — Черт, где же ты живешь?
— Это ферма нашей семьи. Миль шестьдесят от Цинциннати.
— А до Райт-Паттерсона сколько?
— Не знаю. Может, семьдесят, может, восемьдесят. А что?
— Я тебе говорила — они забрали моего младшего брата.
— Ты говорила, что они сказали, будто повезут его туда.
Наши голоса сплетаются друг с другом в кромешной темноте и снова отстраняются.
— Ну, я должна откуда-то начать, — говорю я.
— А если его там нет?
— Тогда я пойду еще куда-нибудь.
Я дала обещание. Если не исполню его, этот проклятый мишка никогда мне не простит.
А потом я чувствую запах дыхания Эвана. Шоколад. Шоколад! Мой рот наполняется слюной. Я ощущаю, как набухают слюнные железы. Уже несколько недель я не ела нормальную пищу, и что он мне принес? Какой-то жирный бульон из мяса неизвестного происхождения. Этот фермерский выкормыш на мне экономит.
— Но ты же понимаешь, что их много? — спрашивает он.
— А ты что предлагаешь?
Он не отвечает, поэтому я продолжаю:
— Ты веришь в Бога, Эван?
— Конечно верю.
— А я нет. То есть я не знаю. Верила до того, как появились иные. Или считала, что верю, если вообще думала об этом. А потом пришли они и… — Мне пришлось выдержать паузу, чтобы взять себя в руки. — Может, Бог и есть. Сэмми думал, что есть. Правда, он и в Санта-Клауса верил. А я каждый вечер читала вместе с ним его молитву, но она на меня не действовала. Если бы ты видел, как он взял за руку того поддельного солдата и пошел за ним в автобус…
Тут я теряю самообладание, но это не беда. Плакать всегда легче в темноте. Вдруг теплая рука Эвана накрывает мою холодную руку, его ладонь мягкая и гладкая, как наволочка у меня под щекой.
— Меня это убивает, — говорю я сквозь рыдания. — То, как он верил. Как мы верили, пока не явились они и не взорвали этот проклятый мир. Верили в наступившей темноте, что свет все равно будет. Верили, что, когда захочешь клубничный фрапучино, достаточно усесться в тачку и прокатиться по улице, и ты получишь свой долбаный клубничный фрапучино! Мы верили…
Второй рукой он нащупывает мою щеку и большим пальцем стирает с нее слезы.
Эван наклоняется ко мне, и я утопаю в запахе шоколада.
— Не надо, Кэсси, — шепчет он мне на ухо. — Не надо.
Я обнимаю его за шею и прижимаюсь мокрой щекой к его сухой щеке. Меня трясет как эпилептика, и я впервые ощущаю на ступнях вес одеяла — непроглядная темнота обостряет все чувства.
Я превращаюсь в кипящее рагу из обрывков мыслей и чувств. Волнуюсь, что мои волосы могут плохо пахнуть. Хочу съесть плитку шоколада. Этот парень, который сейчас меня обнимает (ну, вообще-то скорее это я его обнимаю), видел меня во всем моем голом великолепии. Что он подумал о моем теле? Богу действительно не наплевать на обещания? А мне Бог нужен? Чудо — это когда расступаются воды Красного моря или когда Эван Уокер находит меня в снежном заносе посреди белой пустыни?
— Кэсси, все будет хорошо, — шепчет Эван, и я чувствую его шоколадное дыхание.
Когда я просыпаюсь на следующее утро, на столике рядом с кроватью лежат «Херши киссес».
35
Каждый вечер Эван уходит, чтобы осмотреть местность вокруг фермы и поохотиться. Говорит, у него большой запас сухих продуктов, и его мама обожала солить и консервировать, но ему нравится свежее мясо. Поэтому он оставляет меня одну, а сам ищет какое-нибудь съедобное существо, чтобы убить его и подвергнуть кулинарной обработке. На четвертый день он входит в комнату с настоящим бифштексом на горячей домашней булке, да еще с жареной картошкой. Это первая настоящая еда с того дня, как я убежала из лагеря с ямой, наполненной человеческим пеплом. А еще это неправдоподобный бифштекс, который я не пробовала со дня Прибытия и за который, как я уже признавалась, готова была убить.
— Где ты взял хлеб? — спрашиваю я с набитым мясом ртом, и жир стекает по подбородку.
Хлеб я тоже давно не ела. Он мягкий, пышный и сладковатый.
Эван мог выдать кучу язвительных ответов, потому что добыть хлеб он мог только одним способом, но не стал подкалывать меня.
— Я его испек.