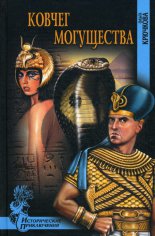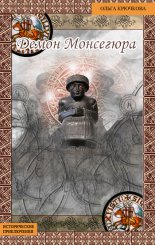Белый Дозор фон Готт Алекс

– Просто, Велеслав. И мы, конечно, на «ты».
– Велеслав, а ваши имена? Всеведа, Навислав, Яромир, ваше имя, странные имена всех остальных, откуда они?
– Здесь всё просто. Когда человек встает на путь Родной веры, начинает жить другой жизнью, он меняется. Наше имя – это наш путь. Имя из прежней жизни категорически не подходит, ибо у родновера его жизненный путь полностью изменяется, а значит, имя должно меняться вместе с ним. Каждый из членов общины проходит обряд посвящения, во время которого и получает новое имя. Бывает и так, что человек объявляет свое имя на общем сборище и его выбор либо поддерживают, либо нет, или просят объяснить, почему он выбрал то или другое имя, ведь каждое имя в родноверии так или иначе указывает на ту или иную склонность человеческой души. Вот Горюн – понятно, что этот парень не большой весельчак, – шутливо улыбнулся Велеслав. – Как видишь, у нас с этим довольно просто.
– Что такое Шуйный путь? Я поняла, что это путь левой руки, то есть путь зла. Возвращаюсь к своему первому вопросу, вы... кто?
– Шуйный путь для тех, кому тесно в рамках канонов мертвой веры. Вера без размышлений – лишь бессмысленный свод правил и ограничений, клетка для души. Шуйный путь для тех, кто привык мыслить широко и смело, для тех, кто находится в постоянном поиске смысла жизни. Для тех, кто озабочен качеством своей души, я повторяю, именно качеством. Душу длжно развивать. Добро кончается там, где перестают действовать его запреты. «Вожделение постыдно», – говорит добро, но вожделение продлевает род, а продление рода – это исполнение долга перед богами. Видишь, как всё легко становится с ног на голову, и наборот? Что же лучше? – пристально глядя прямо ей в очи, спросил Велеслав. – Наслаждение любовью с любимым и сильным мужчиной, чувство удовлетворенности, сопутствующая этому доброта и терпимость и, как следствие, женское счастье или сознательный уход от жизненных наслаждений и замыкание в клетке, которую ты построила для себя сама?
Марина сделалась мрачной, она вспомнила Алексея, подумала, что он, должно быть, невероятно удивился бы, узнав, что с ней произошло. Она лишь хорошо относилась к нему, готова была выйти за него замуж, но она не любила его, не горела к нему страстью. У нее к нему было спокойное отношение прагматичной молодой москвички. Умен, молод, хорош собой, очень успешен: они были замечательной парой, многие с завистью смотрели им вслед, и Марине это нравилось. Она не знала, что ответить Велеславу. Вместо этого спросила:
– Почему я оказалась среди вас?
– Чтобы выполнить свой долг перед родом, – мгновенно, не раздумывая, ответил Велеслав.
– И поэтому я заболела раком? – Марине стало так горько на душе, что она заплакала, но он быстро осушил ее слезы словом:
– Нет, ты заболела совсем по другой причине. Скажи, ведь у тебя был мужчина, с которым ты была близка?
– Конечно. И почему «был»? Он... он есть! – с вызовом ответила она, но Велеслав только покачал головой.
– Что?! – не поняла Марина. – Что всё это значит?
– Это значит, ты заболела неспроста. Ты была большой эгоисткой и всё время думала только о себе, не так ли?
– Нет.
– Скажи правду.
– Да нет же!
– А если совсем честно?
Марина закрыла глаза, всхлипнула.
– Да. Немного. Но разве думать о себе, заботиться о себе, особенно когда ты круглая сирота, – это неестественно и греховно? Так по-вашему?
– Не стоит так увлекаться, – сурово пояснил Велеслав, – ты шла не своим путем, и тебя вернули на путь, тебе предназначенный. Я ничего не делал для этого, поверь мне. Я лишь самый обычный, заурядный колдун людского роду-племени, который может очень немногое.
– Почему же тогда я очутилась среди вас? Куда мы едем? Почему я стала гораздо лучше себя чувствовать? Почему во мне и впрямь словно поселился кто-то еще, и я чувствую и творю такое, о чем раньше даже и мечтать не могла? Вы все говорили о Черной Богине, об этой вашей Маре, и я понимаю, что она для вас то же, что для христиан Мария, так?
Глаза Велеслава округлились от удивления, смешанного с испугом, но с этим он быстро справился, испуг длился только мгновение.
– Не вполне так, вернее, вовсе не так. Как ты можешь сравнивать изначальную Богиню и земную женщину?..
– Она Мать Бога, – перебила его Марина, – пожалуйста, не говори ничего плохого о ней.
Он поднял руки вверх.
– И в мыслях не имел. С чего ты взяла? Я не фанатик, с пеной у рта готовый оскорблять ту, что страдала, видя, как мучается на кресте ее сын. Но пойми: Иисус, Мария – они для нас лишь люди, – он пожал плечами, – хотя, конечно, одни из самых лучших, когда либо живших на Земле. Это к началу разговора, когда ты предположила, что мы сатанисты. Пойми, ни один сатанист никогда не сказал бы такого про Иисуса и Марию, как то, что сказал я.
– Благодарю тебя, я услышала нечто очень важное. И вот что странно, я чувствую себя прекрасно, ничего не болит... Мара относится к моим вопросам совершенно нормально!
– Это потому, что она хочет, чтобы ты про многое узнала, – пояснил Велеслав, у которого, похоже, на всё и всегда имелся полный, исчерпывающий ответ.
– Вы ей поклоняетесь. Почему? – продолжала спрашивать Марина.
– Мара ненавидит в людях их эгоизм и тяжко за него карает. Ее боятся так же, как боятся холодную зиму, тоску, потерю... У нее так много имен, но для нас она мать и само создание. Век людского эгоизма заканчивается. Нынешний мир падет. Таково предание и основная тайна Шуйного пути, то, чем всё закончится, и это время уже совсем близко...
– Рогнарек?
– Ты хорошо образована, теперь я понимаю, почему Мара выбрала именно тебя, – одобрительно кивнул Велеслав. Про Рогнарек, или Апокалипсис, многое предсказано. Предсказано также что Мара придет к людям, ей верным, через плоть обычной женщины, мера эгоизма которой не позволяет забрать ее в Навь или отправить в Правь, то есть ни в ад, ни в рай, покуда она не выполнит свой долг. Как видишь, в тебе поровну тьмы и света, вот и случилось с тобой то, что случилось. Войти же Мара должна через врата души этой женщины в момент, когда их отворит ярость, и стать с той женщиной единой плотью ради смерти человека, против которого ярость той женщины направлена будет. После же Мара в ней приведет ту женщину и тех, кто вокруг нее, в заповедный край, что устоит, словно камень холодный посреди огня. Как видишь, всё сходится. Поэтому ты среди нас, – повторил он. – Ведь, как я понимаю, выбор у тебя был лишь один – свести счеты с жизнью, так что не отказывайся от предоставленной тебе возможности: ни много ни мало – сыграть роль в жизни целого мира. Представь себе, что ты мать, носящая под сердцем дитя.
Марина покачала головой.
– Это непросто... Кстати, насчет детей. Что же происходит с моим здоровьем?
– Ты всё еще больна, бузинный хмель может лишь остановить болезнь на некоторое время. Подлинное и окончательное излечение даст лишь Мара, если сослужишь для нее службу.
– Иными словами, я контейнер для нее, и мне некуда деваться, – пробормотала Марина, – остается только одно: исполнить всё, что ты сказал. Получается, что я обязана тем, что меня оставили жить, тому, во что я даже не верю. Похоже на шантаж, а уж это настоящее злодейство.
– Придется поверить, – отозвался Велеслав, – ты помнишь, как тот маленький человек умер? Мара в тебе остановила его сердце, вложив в твои уста нужные слова зимнего заклятья. Он умер от глубокого инфаркта. Ты одной своей волей можешь такое, о чем тебе стоит лишь задуматься. Мара не всегда проявляется в тебе, она выходит из тебя и возвращается в твое тело, в твой разум тогда, когда в этом есть необходимость.
– Откуда ты знаешь о том мужике? – удивилась Марина. – Ведь я ничего никому не рассказывала.
– После первого же глотка бузинного хмеля твое сознание отключилось, и Мара держала твое тело на ногах своей силой, а ты бредила, как бредят все люди с высокой температурой, говорила шепотом, я подставил ухо, и вот... Теперь мне известно, что случилось возле той больницы. Ты шуйная женщина, и самое время тебе подумать над новым именем, принять Мару, ведь иного выхода у тебя нет, если, конечно, тебя всё еще интересует жизнь.
– Нежuва, – грустно улыбнулась Марина, – самое подходящее для меня имя. Ведь получается, что я и живу и не живу.
– Быть посему! – Велеслав еще больше вырос, он упирался головой в потолок вагона, и в бороде его почти совершенно не осталось белых волос, она на глазах чернела, заливая седину врановым крылом. Глаза его сделались огромными, зрачки поменяли цвет с серого на изумрудный, невыносимо яркий. Змея с шипением сползла с его черепа и, обвившись вокруг шеи, держала свою голову с разверстой пастью возле его уха, словно свидетельствовала при посвящении нового Дозорного общинника. Марина с содроганием смотрела, как то исчезает, то показывается между ядовитыми клыками ее раздвоенный, черный язык. Велеслав протянул к Марине руку, большим пальцем дотронулся до середины ее лба шесть раз и шесть раз произнес ее новое имя: «Нежuва, Нежuва...»
– Да уйдет всё, что было, да свершится всё, чему должно быть, да будет на то воля богов. Да уйдет ложная самость твоя, эгоизмом нареченная, души насильница, да сольешься с силой рода. Прозрей! – И вот, когда он надавил в шестой раз, Марина вдруг стала видеть не только то, что перед ней. С непередаваемым чувством она поняла, что взгляд ее пронзает насквозь всё, на что он обращен: и плоть живую и недвижимую, созданную руками человека и самой природой. Стоит ей только задуматься, и она может читать чужие мысли, видеть все чаяния и поступки человека. И всё это благодаря Маре, живущей в ней!
– Обращена, – завершил обряд Велеслав, и змея громко зашипела в подтверждение его слов. – Наречена ты отныне Нежuвой, и только так станут называть тебя в твоей новой жизни. Веди нас, Нежuва. Используй дар свой, гляди глазами той, что живет в тебе, ждет в тебе своего часа...
...Поезд в этот момент проходил по длинному мосту над рекой. На последнем слове Велеслава вода под мостом вскипела, рыбы начали выбрасываться на берег, и поутру пришедшие на ранний клёв рыбаки долго изумлялись, глядя на усеянные мертвыми рыбинами речные берега. Никогда еще они не видели ничего подобного. И только Серафима, бабка из соседней деревни, которую многие считали полоумной ведьмой, бродила вдоль берега, собирала мертвую рыбу в корзину. А может, и не ведьмой она была, кто знает? Да только никто после этого Серафиму-Симу не видел и нигде ее не нашли. Поговаривали, что варила она рыбу весь день и всю ночь, а потом съела всё, что сварила, пошла обратно на реку, перекинулась громадной щукой да и ушла в воду. Врут, поди, люди. Сказки всё это. Сказки...
...На четвертые сутки пути их поезд прибыл в Красноярск. Сойдя с поезда, нагромоздив на перроне гору походного снаряжения, все с надеждой собрались возле Марины. Та, не сомневаясь в том, куда им нужно, отвела их к дорожным кассам и указала нужный поезд. Небольшой передовой отряд Черного Дозора сделал пересадку и спустя еще двое суток очутился в поселке Магистральный, что неподалеку от реки Киренги, правого притока Лены. В кузове попутного грузовика они добрались до речного порта. Здесь, за пару десятков тысяч рублей, ими было нанято суденышко: буксир «Отважный».
– Не боишься, что угоним? – иронично спросил Навислав у хозяина суденышка – старого «морского волка» в драном тельнике, в сапогах и с синим от самогонки носом. Разило от него этой самогонкой просто смертельно, хотелось закусить или, по крайней мере, занюхать кожаным ремешком часов. – Река большая, разве найдешь нас потом?
– А, дело ваше, угоняйте, – плотоядно облизываясь, пересчитывал бумажки тот, – я таких деньжищ давно не видывал. Ей-богу! Продать вот никак не могу, вроде как государственное имущество. Но вы же сказали на три дня берете, так?
– Да так, так, – успокоил его Навислав. – Сплаваем на острова, ознакомимся с флорой и фауной, так сказать. Да ты не думай, мы не шведская семья. У нас только две женщины в доз... в группе! Ученые мы, из Москвы, – пояснил он, – я ж говорю.
– Эх, ученые, – мечтательно повторил морячок. – Была у меня одна лаборанточка лет тридцать назад, огонь-баба! Во! – показал он сразу два оттопыренных больших пальца. – Кровь с молоком! Блондинка с формами! Не вашим кикиморам чета, – подмигнул он Навиславу.
– Ты бы заткнулся, – Всеведа стояла от них на почтительном расстоянии, но слух у певуньи был отличный, да и морячок не особенно соблюдал тишину. – Не суди по внешнему виду, – она подошла к морячку, склонилась к нему, прошептала: – Посмотри-ка на меня повнимательней, не узнаёшь свою лаборанточку?
Пьянчужка с непониманием уставился на Всеведу, но вдруг заулыбался, потянулся к ней, глаза его увлажнились:
– Катенька, девочка моя, ведь это ты, родненькая! Да куда же ты тогда убежала-то? Я ведь через тебя, вишь? – совсем спился.
– Да какая я тебе Катенька? – рассмеялась Всеведа. – Иди уж, глаза залей получше. Хотел увидеть самое-пресамое свое воспоминание и увидел. Так всегда бывает. Перед смертью, – тихо добавила она, но тот уже топал в магазин, не расслышал ее. В тот же вечер морячок сильно напился, ввалился к себе в избу, лег в холостяцкую постель, всё приговаривая «Катенька, Катенька, что ж ты меня тогда бросила-то, ягодка моя? Вон ты какая осталась, краше прежнего, а я-то, я-то...? Эх-х!» Заснул он с зажженной папиросой в зубах, а ночью сгорел вместе с избой, всего одна труба и осталась, да и та от печки.
В то время Дозор из девяти путешественников, превратившихся в команду корабля, отошел от причала на «Отважном», имея на борту запас солярки и консервов. Впереди был долгий путь. Пройдя пятьсот верст, им предстояло войти в Лену и по ней проплыть еще две с лишним тысячи верст. Марина-Нежuва, закутанная по самые брови в шерстяной платок, одетая в ватник и унты, сидела на носу буксира. Велеслав держал штурвал. Шли кое-как, делая в день, ежели по хорошему течению, то сотню верст, а то и еле тащились, выжимая из старенького двигателя буксира последние вздохи. Впереди были долгие месяцы пути. Нежuва не спала, а всё сидела и смотрела вперед. После разговора с Велеславом в тамбуре спать ей больше не хотелось. Однажды ночью, когда на палубе было тихо, к ней подошла Всеведа, в руках она держала гитару. Девушки особенно не общались, сказывалась извечная женская неприязнь, из которой иногда получается подружество. Так и случилось.
– Хочешь спою? – просто предложила певунья. – Не спится что-то, вот песню новую придумала. Душевную. У меня других, если честно, не бывает.
– Я и просить не смела, – призналась Марина. – Спой, конечно! Твои песни, что золото, их никогда не бывает много, и они никогда не надоедают.
– Да ладно уж, – притворно отмахнулась певунья, которой, конечно же, мнение Марины было очень приятно. Присела рядышком, на корму, перекинула через шею гитарную перевязь, подкрутила колки, проверила струнный строй, и поплыла над сонной рекой задумчивая, печальная песня:
- Вы знаете, мой друг,
- Бывает, как сегодня:
- До странности легко
- Строка целует лист,
- Трепещет в клетке рук,
- Как птичка, ветер поздний,
- И мысли далеко,
- А разум – странно чист.
«И впрямь так, – подумала Марина, глядя на однообразье поросших лесом берегов. – В этой невероятной глуши, погружаясь в нее всё дальше, мозг отказывается перегружать сам себя любыми мыслями, не связанными с тем, что окружает, с тем, что здесь и сейчас. Неужели это навсегда: и эта река, и звезды эти, прежде невиданные? Они, будто глаза ангелов: смотрят на меня в упор, словно ожидают чего-то. Но что я могу? Меня самой почти уже нет, я жива лишь невероятным стечением обстоятельств и демонической волей существа, всё величие которого не дано постичь ни одному из смертных, будь он хоть Ньютоном или Эйнштейном. С моим расслабленным мозгом, который просто отказывается работать даже и в четверть силы, невозможно ответить на вопрос: «Какова моя роль в том, что происходит?» Остается тебе, Нежuва, хоть изредка быть собой и смотреть на воду, столь же незамутненную, как твое сознание теперь...»
- Я вам пишу письмо —
- Зачем мне повод лишний?
- Перо бежит само
- Извивами строки,
- А дома по весне
- Цветет шальная вишня,
- Роняя, будто слезы, лепестки.
- Цветущих вишен обманный рай
- Воспоминаньям сказать «Прощай»
- Я не сумел – скомкал слова
- Сердца усталый бег.
- Их возвращенья не запретить —
- Память, как пряха, выводит нить:
- Лица, слова... Дрогнут едва
- Окна закрытых век.
«Пожалуй, я могу представить себя за столом... Вот я пишу письмо Алёшеньке, старательно высунув язык, как маленькая школьница. У меня выходит только первая строчка с приветствием, а дальше мне становится ясно, что он не поймет того языка, на котором я хочу ему написать. По этому языку нет пособий и учебников, ему никто не учит. Я и сама не могу на нем говорить, я не знаю слов. Они звучат в моем сердце, но не преобразуются в речь. И алфавита тоже нет. И вот вокруг меня весь пол усеян скомканными листами… – Марина усмехнулась, – муки собственного творчества. Как в давно ушедшем времени, когда я писала, вернее, пробовала писать свои первые, неуклюжие стихи. Как хорошо, что они же стали и последними. Мне никогда не написать так, как Всеведа...»
- Поймете ли меня,
- Решите ль удивиться —
- Мне, право, всё равно —
- Я нынче – свой двойник...
- Но вы, тоску кляня,
- Способны хоть напиться,
- А я уже давно
- От этого отвык!
- Что холод, что жара —
- От вас вестей не слышно;
- Шпионы нагло врут,
- Не зная ничего,
- А в комнатах с утра
- До ночи пахнет вишней —
- Надолго ли – спросить бы у кого...
- Цветущих вишен густая тень —
- Неразличимы и ночь, и день;
- Я не сказал всё, что хотел —
- Кончен запас чернил.
- Следом за вами лететь вперед...
- Время жестоко, но хоть не врет:
- Короток век мелочных дел
- И человечьих сил.
«О как точно, как верно! Крошечная жизнь, наполненная мелочной суетой, когда тебе некогда даже поднять глаза в звездное небо, не говоря уже о том, чтобы поговорить с собою о себе самой. Задуматься о своем пути в этом мире, а не выполнять каждодневное расписание, словно ты не живой человек, а бездушный автомат, который включили лет на 70—80, а потом списали в утиль, ввиду отказа блока управления. Могу ли я вспомнить хоть одно свое «не мелочное» дело? Свой большой, настоящий поступок? Пожалуй, только свой уход от Лёши – вот то, что подняло меня над толпой слабаков и нытиков, цепляющихся за любую возможность продолжить свою жизнь, пусть и наполненную подлинным гниением не только тела, но и души. Ибо рак жрет душу так же, как жрет тело: знаю, о чем говорю. Если ты болен смертельной болезнью, то лучше уйти из жизни по собственной воле, и уйти здоровым и полным сил. Пусть тебя запомнят таким», – сжав губы, подумала Марина.
- Вы знаете, мой друг,
- Я извожу чернила,
- Чтоб просто в цель попасть,
- Как свойственно друзьям.
- Похоже, всех вокруг
- Изрядно утомила
- И ваша страсть,
- И холодность моя.
- Огонь свечи дрожит
- И саламандрой пляшет,
- А помыслы мои
- Заключены в слова:
- Не дай вам Бог дожить,
- Когда победы ваши
- Усталостью на плечи лягут вам.
«Победы... Над чем? Над кем? Над собой? Пожалуй... Ах, с каким наслаждением я положила бы эту свою победу к ногам Алексея... и...» – у нее перехватило дыхание от подступивших к горлу рыданий.
- Цветущих вишен влекущий яд,
- Воспоминаний зовущий ряд,
- Я не сказал всё, что хотел, —
- Краток подлунный срок.
- Сонная ночь залита вином —
- То, что не завтра, всегда потом...
- То, что сказать я не посмел,
- Увидите между строк.
Марина плакала. Песня вызвала в ней воспоминания о Лёше, и вдруг она так сильно захотела его увидеть, прижаться к нему всем телом, попросить прощения за свою неискренность, сказать, что именно теперь она поняла, как любит его, как хочет быть с ним вместе, но... Вода кругом, а любовь ее далеко-далеко. Свидятся ли они когда-нибудь? Это навряд ли. Она умерла, умерла! Она футляр для переноски черной силы, поддерживающей ее тело и дух, она ведет Черный Дозор туда, на самый край Земли, и наступает уже над рекой заря нового дня, из воды встает солнце, тянут его волы, запряженные в небесную колесницу. Кто знает, сколько раз еще встанет оно, сколько еще идти Дозору Черному к цели своей?..
Часть II
Пролог
За черной-черной рекой есть черный-черный лес.
Посреди того черного-черного леса стоит черный мертвый дуб.
Под тем черным мертвым дубом лежит мертвая сухая голова, и молвит та мертвая сухая голова:
«Зарыт подо мной во черной неплодной земле черный копченый котел.
В том черном копченом котле сварено в черную глухую полночь черное лютое зелье.
Кто черную-черную реку переплывет,
Черный-черный лес перейдет,
Черный мертвый дуб найдет,
Мертвой сухой голове поклон сотворит,
Черную неплодную землю разворошит,
Черный копченый котел обретет да в черную глухую полночь черного лютого зелья изопьет, тот станет с Марой говорить Ее словом, Ее речами, Ее языком, Ее устами, у Ее ног, у Ее лона, у Ее грудей, у Ее уст!
И желаемое свершится с ним».
Но обретя от Нее желаемое и оттуда возвратившись,
Не забудь в черную глухую полночь сварить в черном копченом котле черное лютое зелье,
Зарыть его в черную неплодную землю под черным мертвым дубом
И водрузить на том месте
Свою
Отрубленную
Голову!
Узрите же, как покровы иссохнут и распадутся, как обратится голова черепом смердящим, как вырастет из черепа смердящего благоуханный цветок.
Так из смерти рождается новая жизнь.
Так Сила становится Мудростью,
А Мудрость становится Силой.
И плывет по небу Велесова ладья, совершая великое обращение душ, на Восход ушедших,
Чтобы к Закату обратно быть...
В том извечный порядок.
Нарушится он – и падет мир.
Сгинет бесследно.
И воцарится повсюду мрак,
Ужас,
Холод,
И лютая Смерть.
Глава 4
Человек с жабьей фамилией – Кто тут главный? – Театр кукол – Вербовка – Любая болезнь – это лишь бизнес.
1
Был у Спивакова заместитель по фамилии Квак. Саша Квак. Хотя уже, конечно, никакой не «Саша» – Александр Кириллович. И, казалось, была в несоответствии аристократического имени-отчества и жабьей фамилии заключена сама сущность этого человека. Внешне очень холеный, весь какой-то лакированный, лучащийся голливудской улыбкой, предпочитающий дорогих итальянских портных Квак в душе был завистником, интриганом, но это полдела, так как был он большим, прямо-таки безграничным подлецом, что тщательно им скрывалось за нарядным фасадом из всего вышеперечисленного, к чему можно добавить манеру очень чисто и грамотно говорить, мастерски играя голосом. Как знать, быть может, именно благодаря голосу Квак и сделал научную карьеру, поскольку умело убаюкивал членов ученого совета во время защиты кандидатской, а после и докторской диссертаций, написанных не им, а за него нищими, но одаренными самородками, подобно шлюхам, продающим свои мозги за неимением того, что им еще продать.
Однако даже на таком надежном топливе, как голос и более чем респектабельная внешность, нельзя ехать бесконечно долго. Когда-нибудь потребуются и реальные, глубокие знания, способность изобретать и экспериментировать, а также умение руководить коллективом порывистых и непосредственных в своих мыслях и делах ученых мужей, чего Квак, по вполне понятным причинам, был начисто лишен. Тем не менее еще задолго до появления на далеком горизонте первого упоминания о Спивакове Квак готовился занять место директора НИИСИ и проделал для этого чрезвычайно тонкую подковерную работенку, разве только блоху не подковал, удалив с поля всех вероятных конкурентов. Начал он с собственного «патрона», как на французский манер он называл тогдашнего директора НИИСИ, академика Агабабова. «Патрон» Агабабов был Кваком подставлен под проверку Счетной палаты, под прокуратуру и еще под что-то такое же, совершенно ужасающе конкретное. Все эти монстры в погонах, набросившись на бедного Агабабова, нашли в его деятельности столько составов преступления, что почтенному академику светил под старость лет тюремный срок лет на девять строгого режима. Узнав от следователя о своих перспективах, Агабабов закашлялся, извинился, заявил, что ему нужно по нужде, вышел из собственного кабинета, где его и допрашивали, и в коридоре ему стало совсем худо. Он упал и умер, чем сильно облегчил жизнь и следовательскому корпусу, и Кваку, который сразу же почувствовал себя новым хозяином.
Кто-то из сотрудников института ушел, написав заявление по собственному желанию: не выдержав характера Квака, его откровенно вампирического поведения, когда он целенаправленно доводил того или иного неугодного ему человека до нервного срыва, а сам при этом словно наполнялся жизненной силой. Кто-то продолжал работать за неимением возможности куда-либо уйти, но поспешил взять самоотвод, заявив о своей непритязательности и вообще резко отрицательному отношению к участию в выборах директора института. Собственно, процедура назначения директора ранее проходила всегда одинаково: тайным голосованием ученого совета. Но времена изменились, и «наверху» выразили свою озабоченность «ненужной» демократией, а равно и тем, что средства, выделяемые из госбюджета на исследовательскую деятельность, расходуются чёрт знает как, даже и попросту разворовываются. И хотя всё удалось списать на покойного Агабабова (ведь «тот, кто отсутствует, тот не прав»), в воздухе всё же запахло нежелательными переменами, и Александр Кириллович заинтриговал пуще прежнего. Он то сидел днями в закрытом кабинете, и телефон его был раскален от бесед с «нужными» людьми, то вовсе отсутствовал на рабочем месте, по всей видимости, встречаясь всё с теми же «нужными» персонами, но... Дело в том, что к успеху вся эта суета его не привела!
К счастью, в таком деле, как выбор директора серьезного научного центра государственного значения, не всё решают интриги, даже самые искусные, и вот, когда Квак уже готовился с триумфом въезжать в директорские апартаменты, состоящие, к слову сказать, из трех помещений: кабинета, библиотеки и комнаты отдыха с диваном, кушеткой и письменным столом, то из Кремля пришла бумага с гербовыми печатями за подписью столь высокой, что было даже страшно эту бумагу и в руки-то взять. В документе было написано, что прежняя процедура выбора директора аннулируется решением «понятно кого» и отныне директор института этим самым «понятно кем» и будет назначаться. Квак, пробежав бумагу глазами, загрустил несказанно. На горизонте внезапно появилась и стала молниеносно приближаться к его мечте некая темная лошадка, которая в ближнем приближении очеловечилась и оказалась молодым ученым Алексеем Спиваковым, чье назначение на вожделенную должность прозвучало для Квака звоном гонга, знаменующего конец раунда, в котором Александр Кириллович всухую проиграл молодому, невесть откуда взявшемуся конкуренту.
То был удар серьезнейший: по самолюбию, по ожиданиям, по вере в себя любимого. Квак долго зализывал раны, на людях стараясь держаться бравым гусаром, которому всё нипочем, а оставаясь наедине с самим собой, он давал волю душившей его злобе: скрежетал зубами, комкал и рвал бумажные листы, стучал кулаком по столу, проклиная «молодого да раннего» Спивакова, которого возненавидел всерьез и навсегда, считая Лёшу своим главным персональным врагом. «Я отомщу. Возможность будет», – лелеял мечту Квак, подписывая рабочие бумаги, где значилась его унизительно-маленькая должность «зама», а сверху красовалась подпись Спивакова: затейливая и, словно нарочно, еще и в обрамлении каллиграфических завитушек. Кваку хотелось плюнуть на эту подпись и растереть ее пальцем, чтобы вместо каллиграфии осталось уродливое пятно, но сделать ничего этого он не мог, поэтому затаился до поры и сидел в засаде, готовый ко всему, что могло бы изменить ситуацию в его пользу.
Что называется, «на людях» со Спиваковым Квак был подчеркнуто вежлив, даже подобострастен. Словно насилуя свои амбиции, Александр Кириллович кланялся Лёше, называл его только по имени-отчеству, несмотря на протесты Спивакова и постоянные предложения перейти на «ты».
– Увольте, Алексей Викторович, дорогой. Даже после брудершафта на «ты» с вами быть не смогу. Слишком уважаю вас, умницу. А нас всех вам и не пересчитать! Таких, как я, много, и мы просто серая научная масса, а вы яркая индивидуальность, штучный ученый, Ломоносов! Говорю искренне, без иронии, – иезуитски прижимал Квак руки к груди, – поэтому уж позвольте старику почудачить. Я так воспитан, чтобы уж непременно на «вы».
– Напрасно вы, Александр Кириллович, – смущенно улыбался Лёша, испытывая легкое чувство вины перед этим человеком, который так долго ждал директорского кресла и в результате остался ни с чем, – я очень вас ценю и как заметного ученого, и как прекрасного человека. Может, мы просто еще не приработались друг к другу? Притремся, так сказать, глядишь, и наладимся «тыкать»? Это важно, поверьте.
– Может быть, – уклончиво отвечал Квак и заводил зрачки вверх, обнажая нездоровые, все в красной сетке сосудов белки глаз пьющего человека. Он и впрямь стал довольно часто прикладываться к бутылке. Почти каждый вечер. Снимал таким образом стресс. Лёша, чувствуя свою вину (!) перед Кваком, которого он считал более достойным, нежели он сам, для этой должности человеком, старался всячески Кваку угодить: выписывал внеурочные премии, поощрял по другим каналам, часто отправлял его в заграничные командировки. И с командировочными, между прочим, также не скупился... Всё напрасно! Квак еще пуще ненавидел Спивакова и еще елейней был с ним на людях, лицемеря с постоянной ремаркой, что это он «от чистой души». От науки он совершенно отстранился и занимался разнообразными хозяйственными проблемами института, проявив при этом известную для всякого снабженца смекалку и увеличив собственное материальное благополучие за счет откатной мзды и прочими традиционными методами.
2
Не менее чем Квак, был переменами в руководстве НИИСИ ошарашен фармацевтический магнат Михаил Петрович Глинкин. Его интерес был иным, но назначение неизвестного ему молодого и, по слухам, совершенно неподкупного человека на место директора заставило Глинкина изрядно понервничать.
НИИСИ давно представлял для магната чрезвычайный интерес. Если при Агабабове он смотрел на институт сквозь пальцы, поскольку никаких особенно серьезных и опасных для его бизнеса исследований там не проводилось, то теперь «генерал Аспиринов», как звали его за глаза некотороые злопыхатели, всерьез насторожился. О! Этот человек дорого бы дал, провались институт в тартарары, исчезни его здание с лица Земли. Ведь Глинкин боялся! НИИСИ был ему, что называется, костью в горле, грозил его бизнесу. Благодаря положению и связям хозяина фармацевтические предприятия Глинкина обеспечивали государственные потребности в различных лекарствах, в том числе предназначенных и для лечения онкологических заболеваний. Сфера деятельности института была бизнесмену хорошо известна. Перспектива появления лекарства от большинства форм рака, над которой трудился коллектив института во главе со Спиваковым, равно как появления средств лечения множества других болезней, заставляла Глинкина смущаться, истерить и ставила под угрозу всё, на чем этот человек наживал огромные капиталы. Ведь если не будет болезней, то не будет и больных, а значит, потребность в лекарствах уменьшится, и это очень простая и очень доходчивая арифметика потери прибыли, с чем никто из деловых людей никогда не согласится. И всё же, зная о том, над чем работает институт, Глинкин не мог знать о нюансах, о подробностях этой деятельности, а значит, не мог и действовать, не мог предупредить опасность и нанести удар первым. Заполучить «своего» человека в НИИСИ у Глинкина, к его удивлению, не получалось. Он привык, что всё продается и всё покупается, но разглашение сведений о работе института приравнивалось к государственной измене, каралось соответствующим образом, да и люди в институте работали проверенные и, выражаясь модерновым языком, «старого формата», то есть честные, неподкупные, увлеченные своей работой и ни на что другое не желавшие отвлекаться. Ко всему этому стоит прибавить, что стараниями Спивакова и его куратора со стороны Кремля, того самого генерала, зарплата в институте стала очень и очень приличной, и люди перестали уходить, наоборот! – в НИИСИ был конкурс по двести человек на место, как в старые добрые времена в какой-нибудь «Внешторг», куда особенно и не попадешь, как бы ни хотелось. Так что не было, решительно не появлялось желающих поставлять информацию для Глинкина, а через него, опосредованно, и для международного синдиката производителей лекарств, вполне официально объединенных в «Международную ассоциацию производителей лекарственных и медицинских препаратов» – «IAFMP».
3
Этот мир давно уже представляет собой театр кукол, в котором почти нет зрителей. Есть только марионетки и кукловоды. Тех, что дергают за ниточки, – меньшинство, а в роли марионеток выступает почти всё население Шарика, несущегося Божьей волей в пространстве и времени.
Кукловодов совсем немного, но они давно уже мнят себя равными богам и не верят ни во что, кроме собственной власти, которая кажется им почти безграничной. Кукловодам не нужны боги, не нужны дьяволы, не нужен никто, чье первенство они вынуждены были бы признать. Люди-кукловоды считают, что вера в Бога хорошо подходит для их послушных марионеток, отвлекая последних от желания задрать головы повыше и поглядеть, разобраться, кто же там всё-таки дергает за ниточки. Слепая, бездумная вера («просто верь, и всё») отвлекает от потребности попытаться понять разницу между марионетками и кукловодами и, уяснив, что разницы никакой нет и те, что дергают за ниточки, точно такие же люди, стереть кукловодов с лица Земли раз и навсегда, окончательно установив равенство всех перед всеми. А уж после этого, сняв с собственных конечностей ниточки, превратиться в свободных людей. Такова идеальная мечта! Но человечество недостойно свободы.
Оно просто не знает, что с нею делать, и спустя недолгое время кукловоды появятся вновь. «Ведь куда лучше, – на подсознательном уровне решает типичный человечек-марионетка, – впрячься в ярмо и тянуть его, вспахивая чужую землю, ради гарантированной охапки сена по вечерам».
Этот мир слишком увяз в собственных пороках, слишком много шагов он сделал к пропасти, в которую вот-вот сорвется, и ничто уже не остановит его падение. Некоторые марионетки глупы и решительно отказываются признавать себя лишь подневольными куклами в многоопытных руках кукловодов. Журналисты-марионетки насмешливо опровергают «теории заговоров» и «околомасонские басни», заявляя об «исторических спекуляциях» и «профанации вопроса». Культура выдает на-гора качественный быдло-продукт. Молодежь не знает, что обозначает глагол «думать» и что это за действие такое – напрягать мозговые извилины. Марионетки несчастны, но не хотят понять, отчего. В чем причина их депрессий, уныния, постоянного желания убежать от проблем и забыться в компании бутылки или шприца. А между тем, несмотря на оплаченный скепсис, а порой и откровенную тупость журналистов-марионеток, на все их насмешки и «авторитетные опровержения», всё на Шарике обстоит следующим образом:
Есть теневое правительство Земли, состоящее из двух десятков наиболее влиятельных и богатых семей. Финансовая аристократия, ведущая свою родословную от венецианских черных гвельфов, и ростовщики, из числа наследников каннибала Шейлока, воспетого Шекспиром, – вот два прародителя нынешних кукловодов. Это немногочисленное сообщество небожителей стоит на высшей ступени эволюции человеческой алчности – чувства, не ведающего берегов и границ, того, что не помещается уже ни в один из мутных сосудов одряхлевшей герцогини де Мораль, ныне окончательно разорившейся, вышедшей в тираж, стреляющей подачки у благотворительных фондов и готовой смолчать даже в случае явного преступления, когда речь заходит о гранте от Конгресса или Британского совета – плате за отсутствие морали в делах кукловодов. Бабка де Мораль – старая шлюха, совершенно деградировала и выжила из ума. Мораль и нравственность давно уже несовместимы с ценностями современного общества: нажить, потратить, получить кратковременное наслаждение, почувствовать себя несчастным, снова нажить, снова потратить и так далее, по нескончаемому кругу, на котором теряется совесть, рассудок и сама жизнь.
А превыше всего марионетки почитают собственный эгоизм, благодаря которому люди – уже давно не единое целое, а всяк сам по себе и всяк мнит себя... Богом! Да! Марионетки тоже хотят думать, что от них многое зависит! И нужно, нужно, как говорил злобный калмык Ленин, «положительно необходимо» уничтожить этот мир, ибо как исправить его уже не получится, слишком сильный в нем процент коррозии, разъевшей каркас человеческой сущности до необратимого предела. Скоро всё рухнет, и тогда молчаливые зрители театра кукол тихо встанут со своих мест, стараясь не хлопать стульями, выйдут из зрительного зала и отправятся творить новый, совсем свежий мир. Они умеют делать это, ведь зрители и есть боги.
Будущее окончание спектакля угадывалось, и оно уже не за горами. А пока гигантская космическая стрелка отсчитывала этому миру последние дни, и положение вещей оставалось прежним:
Союз фармацевтических королей находился у финансистов мирового значения в прямом подчинении и занимал вторую после них позицию всё в той же таблице грехов, наряду с оружейными королями и королями нефтяными. «Ассоциация производителей лекарств» имеет свои правила, свой кодекс, свои секреты, основным из которых является их заповедь: «Лечение не может быть дешевым и окончательным». Здоровые люди – враги «Ассоциации», ведь им не нужно покупать лекарства, а значит, по мнению этой благочестивой организации, люди здоровые крадут у нее деньги. Как же может быть иначе, если на них, на этих людях, нельзя заработать? Есть выход из положения. Здоровых людей можно заразить.
Итак, чем больше будет здоровых людей, тем меньше прибыли получат фармацевтические короли. А поскольку настроена «Ассоциция» на цель, прямо противоположную, она охотно финансирует не столько поиски новых вакцин, сколько создание новых вирусов – возбудителей болезней, волнами накатывающих на человечество каждый год, и носящих у членов «Ассоциации» предельно циничное название «проекты».
Из наиболее удачных проектов последних лет приходит на память проект «СПИД», поддерживающая терапия которого стоит весьма серьезных денег, проект «атипичная пневмония», во время которой только марлевых повязок было продано по всему миру на три с половиной миллиарда долларов, проект «птичий грипп» – вакциной против которого основательно запаслись напуганные страны, после чего выяснилось, что вакцинацию против этой формы гриппа лучше вовсе не проводить, так как толку от нее никакого нет, а, наоборот, происходит только вред. Сумма, истраченная на вакцину от птичьего гриппа, так же отличается от суммы, истраченной на грошовые марлевые повязки, как маленькое и одинокое гречишное зернышко – от персиковой косточки. Здесь сумма исчислялась в половину триллиона, из которых пятьдесят процентов составила прибыль «Ассоциации».
Подобных проектов у «Ассоциации» достаточно для того, чтобы, по крайней мере, ежегодно пугать мир новой «эпидемией». В разработках проектов принимает участие большое количество передовых ученых-биологов, и покойный Саи, поплатившийся за свою честность и совестливость, также был одним из них. Самым долгим проектом «Ассоциации», от которого она никогда бы не отказалась, являлся проект «Cancer», или «Рак».
Глинкину, до которого информация о том, что происходило в НИИСИ, доходила только в виде неподтвержденных слухов о разработке универсального суперпрепарата для лечения всех форм онкологических заболеваний, как воздух был необходим серьезный осведомитель. Будучи человеком с тонким аналитическим мышлением, Глинкин увидел в несостоявшемся назначении Квака несомненный шанс воплотить мечту о платном стукаче. И тогда он поручил начальнику своей службы безопасности, одной из мощнейших в стране, следить за каждым шагом Квака.
– Докладывать мне лично о том, в какую сторону прыгает или собирается прыгнуть этот жаба-Квак! – потребовал Глинкин от своего «безопасника». Круглосуточно! Даже когда я сплю, сижу в туалете, смотрю футбольный матч, даже тогда!
Спустя четыре дня Глинкин получил сведения о том, что Квак собирается в командировку в Венгрию, и распорядился забронировать для себя билет рядом с местом Квака, что и было тотчас исполнено в соответствии с его указанием. На личном самолете Глинкина в Будапешт срочно вылетели шестеро детективов из его службы безопасности, чьей задачей было прикрывать шефа и его визави от возможного наблюдения Службы внешней разведки. Опасения были напрасными, на Квака ничего такого не было и следить за ним никто не собирался, но, как рассудил Глинкин, «лучше перестраховаться», поэтому на рейсе Москва – Будапешт вместе с ним летели еще двое детективов.
4
Знакомство Глинкина и Квака состоялось в самолете, причем Квак сам всё упростил, первым обратившись к магнату со словами:
– Вот уж никогда бы не подумал, что сильные мира сего путешествуют наравне с нами, мелкими сошками. Видимо, что-то изменилось в окружающей среде, если вы оказались здесь.
– Кризис, – улыбнулся Михаил Петрович, – кризис, дорогой Александр Кириллович, велит экономить буквально на всём. А потом ведь, когда гора не идет к Магомету, то Магомет особенно не комплексует по этому поводу, а берет билет и летит куда нужно и не сетует на отсутствие комфорта, к которому привык, летая в собственном джете с кожаным салоном и поваром...
– Японцем? – с улыбкой, играющей на тонких губах, предположил Квак.
– Мимо. Грузином, – ответно улыбнулся Глинкин, и оба рассмеялись получившейся удачной шутке.
Они говорили на общие темы, и во время недолгого перелета Глинкин сознательно оттягивал разговор о главном. «Сразу брать быка за рога было бы дурным тоном, – рассудил Михаил Петрович. – Ведь я, фактически, хочу предложить ему работать на меня, стать моим, так сказать, сотрудником. Надо поближе узнать человека, в конце-то концов, а то вдруг окажется таким «г» на палочке, что даже в качестве суперосведомителя не пригодится. Всякое бывает...»
Более тесное их общение продолжилось уже после посадки самолета в Ферихеде, во время неспешных прогулок в золотых садах острова Маргит и по набережным величественного Дуная, несущего свои воды вдоль берегов, на которых раскинулся красивейший из городов земных – Будапешт.
Вигадо, Грешэм, Будайская крепость – все жемчужины этого города, при осмотре которых от великолепия архитектуры слегка кружится голова и становится невероятно легко на сердце, город, воспетый Ремарком в нескольких словах, но так, что было это сделано в миллион раз лучше, чем в любом, самом представительном туристическом проспекте, стал прекрасной декорацией к спектаклю под названием «Вербовка», сыгранному Глинкиным прекрасно.
Магнату было легко общаться с обиженным на жизнь ученым. Кроме всего прочего, их сближал сходный возраст (Кваку было неполных 46, а Глинкину не так давно исполнилось 50 лет), и что самое главное – особенно удавалось это общение благодаря наличию у Квака нереализованных амбиций, которые тот и не думал скрывать. Квак дал понять, что он считает себя несправедливо обманутым, о чем с горечью сообщил своему новому знакомому:
– Я так много сделал для становления этого института, я имею вес в научном мире, а все лавры достаются какому-то смазливому юнцу! Еще неизвестно, через какое место он получил это место! – запальчиво вскричал Квак.
– Считаете, что «там» пристраивают своих, гм, постельных и однополых протеже? – с задумчивым вниманием спросил Глинкин и тут же сам себе ответил: – Хотя, возможно, вы правы. Этот бывший министр, с бородкой... Понимаете, о ком я?
Квак только рукой махнул в ответ. Кто ж этого не знает...
Со своей стороны, умный и хитрый Квак отлично знал, кто такой Глинкин, и прекрасно понимал, зачем тот придумал весь этот спектакль с якобы случайной встречей в самолете. Желание Квака отомстить системе, которая его, как он считал, отвергла, и лично Спивакову быстро нашло согласие с намерением Глинкина щедро платить за интересующую его информацию.
– Мне известно, – говорил Глинкин, задумчиво вертя в пальцах багровый черенок золотого кленового листа, подобранного им прямо на мостовой, – что вы работаете над созданием препаратов нового поколения. Видите ли, кое-что просочилось ко мне и сквозь ваши стены. И я хотел бы знать, как продвигается такая работа, на каком она находится этапе, насколько велика вероятность ее успешного, подчеркиваю, именно успешного завершения. Прогнозы неудач меня интересуют в меньшей степени, так как неудачи временны, а успехи и большие победы – это навсегда. Вот, скажем, онкология. Я слышал, что перед вашим институтом поставлена задача разработки целой семьи противораковых средств. Разумеется, любые подробности в этом деле, как говорится, на вес золота.
– Эти исследования ведет лаборатория под личным руководством Спивакова, там очень высокий уровень секретности, – неохотно ответил Квак, считавший, что даже и эти сведения уже стоят денег. И всё же он продолжил: – Они ковыряются в функциях гипоталамуса, используя его как отправную точку для дальнейших поисков. Парнишка, говорят, достиг на этом поприще больших высот, раз уж его назначили руководить институтом вместо меня. – Квак немного помедлил. – Чёрт, до сих пор не верится, что так произошло. Хотя у меня, конечно же, есть уровень допуска, я вхож в лабораторию, ведь я, чёрт побери, как-никак заместитель директора... Знаете... Простите, я запамятовал ваше отчество?
– Не стоит, – отмахнулся Глинкин, выпустив кленовый лист из пальцев, и тот, подхваченный порывом ветра, взмыл в воздух. – Какое там еще отчество? Прекратите! Давайте уж просто – Миша.
– Ладно, Миша, тогда просто Саша. А то всё «вы» да «вы». Долой протокольную церемонность! – рассмеялся Квак. – О чем же я хотел спросить? Впрочем, всё и так понятно.
– Ты имел в виду, зачем мне всё это? Бизнес, что же тут еще может быть? Только бизнес, – поджал губы Глинкин, что случалось с ним всегда, когда приходилось говорить о сокровенном.
В парке Маргит было, как всегда, много публики: чинно прогуливались под вековыми деревьями старички, попадались супружеские пары, разменявшие вместе не один десяток лет, стайки подростков щебетали повсюду, перелетая с места на место, словно воробьи, малыши топали по разноцветным коврам, вытканным из листьев сестрой Мары – Осенью, проносились сосредоточенные велосипедисты в разноцветной, в обтяжку, форме и с крошечными наушниками, в которых звучал последний шлягер Кэтти Пэрри. Воздух был легок, насыщен негой и спокойствием старушки-Европы. Дышалось легко. Квак, умиротворенно глядевший на картину всеобщей человеческой идиллии и решивший, что самое время перевести разговор в сугубо деловое русло, притворно вздохнул:
– Знаешь, конечно, жаль, что так вышло и я остался на втором месте, но мне нравится то, чем занимается мой институт. Я всё равно был и останусь его, не побоюсь этого громкого слова, – патриотом. Я ученый, а не мизантроп, не чокнутый профессор, так сказать. Посмотрите на всех этих людей вокруг. Что вы видите? Они ведь счастливы! Разве они не заслужили здоровой и долгой жизни? Разве мало было войн, выкосивших, например, у нас в стране почти весь генофонд мужского населения? Рак уносит миллионы жизней, так пусть он уйдет в историю, как когда-то ушли чума и холера. Естественная продолжительность человеческой жизни – сто двадцать лет, так учит Библия и теперь уже наука. Почему бы не дать человеку возможность жить долго?
«Плохой артист, – холодно подумал Глинкин. – Набивает себе цену. Видно по всему, что он честолюбивый негодяй, а ведет себя так, будто он невинный агнец. Но это как раз и неплохо, вполне соответствует моим ожиданиям. Гораздо хуже, если бы мне попался зануда с принципами, а среди яйцеголовых такие нередкость, отлично это знаю. Но лучшего варианта у меня нет, да и деньги здесь никакой роли не играют. Дам, сколько попросит. Деньги – это важно, но все-таки этим к себе не привяжешь, верность не покупается, скорее наоборот, чем больше платишь человеку, тем больше он ненавидит тебя, ведь ты постоянно поднимаешь планку его мечты о том, что он мог бы купить за деньги, а мечта всегда стоит выше, чем доход. Надо посулить ему помимо денег еще кое-что». Глинкин подвигал бровями с шутливым видом, но тут же упрямо поджал губы.
– Позволю себе с вами не согласиться. Болезни способствуют естественному отбору! С ними, безусловно, необходимо бороться, так как никто никогда не согласится взять да и умереть, скажем, от насморка или в результате отравления салакой пряного посола. Но кому-то суждено, – сделал ударение Глинкин, – умереть от насморка, и ничего с этим не поделаешь. Природа – творец, она сама регулирует численность населения, и болезни, особенно массовые, смертельные, приходят в этот мир в нужное время.
– Ты мистик? – усмехнулся Квак, с каким-то особым, новым интересом поглядывая на Глинкина. – Вот уж никогда бы не подумал. Природа – творец... Бог, которого никто никогда не видел, Бог единый во многих лицах... Или, быть может, правы были предки, веря во многих богов? Основной вопрос философии, черт возьми. Он волнует меня с детства, и я все бы отдал, чтобы узнать точный ответ.
– В какой-то степени я мистик, – утвердительно кивнул Глинкин, – как и всякий век поживший и много чего повидавший человек. Я с деньгами имею дело, дорогой Саша, с очень большими деньгами. А что же еще, по-твоему, обладает более мистической силой и притягательостью, чем деньги?
– Ах, ну да... – растерянно промямлил Квак. – Без денег сейчас никуда. Ты знаешь, я в Будапеште в командировке, прилетел посетить тут один... завод медицинского оборудования. У них качественное стекло, у этих венгров: колбы, пробирки, реторты, дюары... Мне здесь работы на несколько дней. Потом вот хотел еще слетать в Италию на день-два, купить разные вещички и пару костюмов, – он жалко усмехнулся, и Глинкин, отлично мимикрирующий под любую человеческую натуру, эту его улыбочку зеркально повторил.
– Так в чем же дело? Слетай. У меня там есть парочка знакомых портных. Один, кажется, прострачивает для «Gucci», а второй обметывает петли для «Zegna», – изображая непонимание, ответил он Кваку, а тот всё мялся, не решаясь сказать первое слово, после которого уже всё становится понятно.
– Слетать, конечно, можно, – наконец отозвался он, видя, что Глинкин нем, как рыба. – Вот только боюсь, хватит ли у меня свободного времени и...
– Слушай, а зачем тебе регулярный рейс, Саша? Знаешь, я, вообще-то, не летаю на рейсовых машинах, у меня свой самолет, довольно резвый «Гольфстрим», очень комфортабельный. Никогда в таком не путешествовал?
– Ну что ты, откуда, – вновь эта жалкая улыбочка Квака. – Не мой уровень.
– Не твой уровень? – усмехнулся Глинкин, вложив в эту фразу солидарность к Кваку против всех обидчиков и молодых выскочек, считавших, что путешествовать на частном самолете – это для Квака слишком. – А чей еще тогда уровень? Этого вашего... Как там его фамилия? Напомни-ка? Нового вашего директора, того самого, молодого, который тебя так лихо срезал на самом подъеме. Как его зовут, этого негодяя?
– Прекрати, прошу тебя, – Квак зарделся, но не от стеснения, а от ярости. Он сипло задышал носом, и Глинкин даже испугался, что сейчас с его собеседником случится инфаркт или еще какая-нибудь не менее серьезная штука. Но обошлось...
– Прекратить? О! Это я могу. Пожалуйста, в любой момент! Просто скажи мне: «Миша, я ни в чем не нуждаюсь, и у меня всё хорошо в этой жизни», и тогда я умываю руки! Мне горько видеть, как такого большого ученого, как ты, надежду российской науки, первоклассного биолога, задвинули в темный угол, дав, как говаривал Пушкин, «унизительное звание камер-пажа». Нет, заместитель – это, конечно, почетно, слов нет. Но всё же как-то...
– Довольно, – Квак сказал, будто отрезал. – Довольно, – повторил он. – Что ты мне предлагаешь? Ты можешь мне конкретно обозначить?
– Слетать в Милан, в Рим, да куда угодно на моем самолете. – Глинкин взглянул на часы. – Он должен скоро приземлиться, его послали за мной, но я подожду, а если позволишь, то с большим удовольствием прошвырнусь в Миланишко вместе с тобой. Модные дома, новые коллекции, длинноногие молодые, накокаиненные телочки – тебе там будет очень интересно. Уверяю! А я просто куплю себе пару рубашек с запонками и тебе помогу с выбором. Покажу свой любимый магазинчик и познакомлю с Луиджи, так зовут моего портного из «Gucci». Вернее, он не портной, конечно, а главный дизайнер там, но так ли это важно? Ты, безусловно, останешься доволен. И знаешь, ты, пожалуйста, не беспокойся насчет цены всех этих модных одежек. Просто считай, что ты у меня отныне на беспроцентном и бессрочном кредите. Трать, сколько хочешь, а отдавать необязательно. Как тебе мое деловое предложение?
– Иными словами, ты меня подкупаешь, – напряженно констатировал Квак, вертя головой по сторонам, явно высматривая что-то. Или кого-то. Глинкин ободряюще похлопал его по плечу.
– Здесь нет соглядатаев, расслабься. Мы абсолютно одни.
– Смотря чьих соглядатаев ты имеешь в виду, – нервно огрызнулся Квак. – Русская СВР всё еще работает отменно, к твоему сведению. Где гарантия того, что наш разговор не пишет сейчас какой-нибудь контрразведчик, сидящий в кустах?
Глинкин в голос расхохотался, у него даже слезы от смеха выступили.
– Знаешь, вот точно говорят: «У страха глаза велики». Да о чем ты?! И какая, к чёрту, контрразведка?! В конце концов, не считай себя фигурой, равной начальнику генштаба. В кустах никого нет, я здесь даже без охраны, – солгал он. – Да, я тебе предлагаю на меня работать. Так это называется у приличных людей, а «подкуп» оставь для классической литературы, где царят разумное, доброе, вечное и всякие прочие утопии. Меня интересует информация о деятельности НИИСИ в обмен на всё, что ты пожелаешь.
– А потом суд и тюрьма лет на пятнадцать по статье «шпионаж»? Нет уж, благодарю покорно, – продолжал выделываться Квак, понимая, что вот-вот, и они ударят по рукам.
– Работая на меня, ты в этой жизни защищен абсолютно от всего, – веско произнес магнат, – тебя будут охранять и днем, и ночью. И охрана будет очень надежной. Еще, по твоему желанию, возьмут под охрану всех твоих родных и близких. Встречаться станешь только со мной и только в обстановке строжайшей секретности. Я привык заботиться о своих людях, дорогой Саша. Но и это еще не всё. У меня также есть исследовательский центр, свой собственный. Я понимаю, что, начав работать на меня, ты, рано или поздно, перестанешь быть полезным в качестве источника информации, – Глинкин развел руками, мол, всякое случается, и продолжил: – Так вот, я предлагаю тебе возглавить мое предприятие в качестве вице-президента по науке. Это не сейчас, позже, когда ты поможешь мне и тем самым подготовишь для нас с тобой благоприятную почву, например, не допустив изобретения лекарства против рака. А этого, поверь мне, допустить никак нельзя. Это всё равно, что идти против природы! Это, чёрт меня возьми, если я не прав, то же самое, что осушение торфяников, поворот рек вспять и прочие глобально идиотические инициативы. А потом, ты только представь себе, сколько народу потеряет работу! А какой удар по науке! И что самое немаловажное, – Глинкин сделал торжественную паузу перед главным ударом, – не забывай, что при твоем несогласии честь изобретения лекарства всех времен и народов будет принадлежать, конечно же, не тебе, а твоему, так сказать, молодому коллеге. Не слишком ли много ему чести в столь юные годы? Гении обычно недолго живут, – недвусмысленно намекнул магнат.
Квак ссутулился, втянул голову в плечи, прикрыл глаза, чтобы показать, что, дескать, вот он, сильный человек, совестливый; он долго боролся с искушением, но честолюбие, тщеславие, зависть взяли верх. Что ж теперь поделаешь? Слаб человечишка под влиянием обстоятельств.
– Я согласен, – коротко бросил Квак, – но боже тебя упаси обнадеживаться, если ты меня обманываешь. Поверь, я найду способ с тобой поквитаться. Вирусология – обширная и тайная наука, и я кое-что в ней смыслю. Теоретических знаний мне хватит, чтобы...
Михаил Петрович ошарашенно посмотрел на Квака, вдруг осознав, что этот человек – скорее всего помешанный. Но тут же его изумление улетучилось, он обратил все в шутку, поднял руки, мол, сдаюсь, испуган.
– Довольно, ну что ты?! Хватит! – Глинкин, обезоруживающе улыбаясь, похлопал по плечу своего очередного раба. – Самолет ждет, у меня такие стюардессы, м-м-м... ты таких красоток никогда и в руках-то не держал. Забудь ты о мести, отравитель ты этакий, лучше начни получать подлинное удовольстие от жизни, начиная с этой минуты, я тебе берусь это обеспечить, – тут Глинкин шутливо погрозил ему пальцем, – но вкушать пищу после твоих обещаний я теперь буду с осторожностью. Кто предупрежден, тот вооружен...
5
Спиваков ликовал. Еще бы! После возвращения из командировки Александра Кирилловича словно подменили! Он сделался дружелюбен, рукопожатие его из вялого превратилось в настоящее, крепкое, и если раньше он вообще не интересовался исследованиями своего молодого «патрона», то теперь заявил, что уверовал. Так и сказал:
– Знаете, Алексей, Будапешт повлиял на меня благотворно, я вдруг понял, что был кругом не прав, представляете? Нет, нет, даже и не протестуйте, я говорю вам от чистого сердца. Ведь я прежде всего ученый, а не завхоз, которого посылают на стекольный завод за пробирками. Я понимаю, что вы таким образом стараетесь меня поощрить... Спасибо вам огромное, но... Я хотел бы, с вашего позволения, вплотную вернуться к научной работе. Это мне ближе и родней. И с вашей теорией влияния гипоталамуса на развитие злокачественных опухолей я, пожалуй, соглашусь.
– У меня нет возражений, дорогой Александр Кириллович, – широко улыбнулся простак Лёша, не научившийся еще видеть в людях их подлинную «начинку». – Работа как раз выходит на стадию опытных изысканий. Начнем пытаться лечить несчастных зверушек. Кстати, виварий уже укомплектован под завязку, – Лёша горестно вздохнул, – жаль их, конечно, придется заражать, но ведь это ради жизни людей...
– Малые жертвы, – кивнул Квак, – без них не обойтись. Вы позволите мне ознакомиться с материалом?
– Разумеется. Всё, что сделано, в вашем распоряжении. Всё в защищенных файлах, таковы требования, – извиняющимся тоном пояснил Лёша. – Так что в вашем распоряжении мой кабинет и мой компьютер, пользуйтесь столько, сколько вам нужно. Я не хочу указывать вам, что делать, не имею на это морального права, ведь вы и старше меня, и гораздо опытней, так что вы уж, пожалуйста, решайте сами, на каком этапе подключиться, какое из направлений вам покажется наиболее, так сказать, симпатичным. Карцинома, саркома... – Алексей начал перечислять ужасные названия раковых опухолей. – При любом вашем выборе вы автоматически возглавите ту научную группу, которая занимается выбранным вами направлением.
– А вот этого не надо, – Квак энергично замотал головой, – это будет неверно, люди не поймут, произойдет конфликт. Дайте мне место лаборанта в своей группе, я буду доволен и этим.
Лёша рассмеялся, он ценил нормальный юмор.
– Александр Кириллович, какой же вы все-таки замечательный человек! Ах, как жаль, что мы только теперь с вами вот так хорошо поговорили. Столько времени упущено! Но ничего, наверстаем. Предлагаю вам войти в состав группы Кирьянова, он ведет параллельные исследования, независимые от моих. Соблюдаю принцип интеллектуальной конкуренции, – пояснил Лёша, – при одинаковых вводных, группы идут каждая своим путем. Кто знает, быть может, я окажусь неправ, так Кирьянов всегда сможет показать мне, в чем именно я ошибался и, соответственно, наоборот.
– Разумно, – чуть ли не искренне похвалил Лёшу Квак и подумал: «Умн придумано, талантливо. Неновый подход, но он в исследовательской работе самый верный. Чем больше у задачи предварительных решений, тем более полным и красивым станет основное. Тактика мозгового штурма вполне себя оправдывает».
– Я бы присоединился к вам, если вы, дорогой Алексей, не возражаете, – глядя Спивакову прямо в глаза, чтобы уж наверняка, и зная, что тот ему не откажет, заявил Квак, – у нас с вами одинаковое безграничное стремление к триумфу во имя науки, так давайте пройдем этот путь вместе. Говорю совершенно искренне, не имея за пазухой камня. Ваш выбор, разумеется, но я бы с превеликой радостью встал к вам под крыло. Как вы на это смотрите?
– Как я смотрю? – задумчиво пробормотал Лёша и пожал плечами. – Да, в сущности, неплохо я на это смотрю. Почему бы и нет? Заодно все эти дурацкие слухи о нашем конфликте сразу сойдут на нет. Знаете, они меня как-то угнетали.
– Понимаю, – кивнул Квак.
– В таком случае приступайте немедленно. Но как же ваша хозяйственная деятельность? Ведь надо ее перепоручить кому-нибудь?
– Пустое, – шутливо отмахнулся Квак. – Там множство незаконченных процессов! Только я и в состоянии что-то понять. Буду время от времени продолжать курировать, если не возражаете, а то если начать кому-то сдавать дела, то всё полетит в тартарары, честное слово. Еще попадется какой-нибудь жулик, не дай бог.
– Ну что ж... Пусть будет так, – неуверенно согласился Лёша. – Я вам доверяю всецело, Александр Кириллович.
– Ценю, – поклонился Квак, – отплачу вам той же монетой.
...Глинкин, после первого обстоятельного доклада Квака, впал в замешательство. «Чем они там занимаются в своем НИИСИ? – раздраженно думал он, прогуливаясь в одиночестве в одном из своих подмосковных имений. – Какая еще первичная частица? Это же бред, сказки! Правильно сказал Квак, что Спиваков этот занимается лженаукой. Так и есть! Пытаться создать препарат для лечения онкологии всех типов на основе компонента, которого нет, которого никто в глаза не видел! Я далек от науки, мое дело – бизнес, но даже я понимаю, что это полнейший бред и пустота». Глинкин вошел в дубовую аллею, посаженную еще фабрикантом Гольдманом в конце XIX века. Гольдман исстари слыл чернокнижником и еретиком, и в то время слухи о нем ходили самые ужасные. Рассказывали, что он заживо варил некрещеных младенцев, которых покупал у цыган, поклонялся дьяволу, насылал порчу на конкурентов и якобы даже летал по воздуху. Впрочем, в революцию фабрикант куда-то сгинул, может быть, эмигрировал, и остались от него полустертые воспоминания да вот эта аллея вековых дубов, среди которых один был настоящим великаном. Таким, что и вдесятером не обхватишь. Не дуб, а подлинный баобаб.
Глинкин особенно любил гулять здесь и пользовался всякой возможностью побыть в одиночестве среди столетних деревьев. Сентябрь был еще ласковым, стояло бабье лето, дубы роняли желуди, и магнат, всё чаще замечая их, вдруг задумался: «Желудь, такая маленькая штука, ерунда, пустяк, а из него, тем не менее, вырастает огромное дерево. Из малого происходит великое...» Он остановился, поднял с земли желудь, подошел к самому большому из дубов, прикоснулся к могучему стволу, задрал голову, всматриваясь в раскидистую крону, словно желая убедиться, что это не ошибка, а Божий промысел, и действительно из маленького семечка вырастает за десятки лет настоящий великан.
– А может, это никакая и не пустота, – вслух произнес Михаил Петрович, – в жизни, в бизнесе, нет ничего случайного, всё цепляется одно за другое. Не зря я наткнулся на этот желудь. А вдруг парень прав? Послушать Квака, так того давно пора гнать из науки за шарлатанство, но Квак, конечно, никто, ноль, и с его мотивацией всё понятно: завистливая сволочь, мечтает сплясать на чужих костях. А парень решил повторить божественное деяние, пойдя путем естественного развития. Ведь если дуб получается из желудя, а любой живой организм из семени, то и весь этот мир когда-то кто-то сделал именно так, оплодотворив безжизненную Землю. Из чего родилась вся жизнь на Шарике? Что за первый организм появился на планете? Кто это знает, кому это ведомо? Но ведь было же что-то изначальное...
Глинкин впал в состояние глубочайшей задумчивости. В своих мыслях он несколько раз подходил к порогу, за которым (он это чувствовал) находилась истина, но переступить порог ему мешало его собственное «не может быть». Но нельзя недооценивать большого бизнесмена, который за свою жизнь прекрасно научился разрушать или обходить преграды, мешавшие ему на пути к цели. Вот и со своим скепсисом Глинкину удалось справиться. Он вошел в аллею, будучи согласен с Кваком и считая путь Спивакова несерьезной тратой времени и средств, а вышел из аллеи убедившись в Лёшиной правоте, уверовав в его идею, и лица на Глинкине не было, – он понял, что теперь в любой момент и он, и вся «Ассоциация» могут оказаться в провальном проигрыше. Ведь если этот юнец найдет... «Как бы поправильнее назвать? – продолжал размышлять Глинкин. – Атом? Элемент? Частица? Да. Пожалуй, частица. Частица Бога, в которой не может быть болезни, так как изначальная жизнь – здорова, вот и человечишка, если в идеале, то рождается абсолютно здоровым. Это потом, позже, к нему цепляются болячки. Да... А парень-то, оказывается, и впрямь гений. Нужно с ним кончать, иначе мы все по миру пойдем».
Глинкину представилась вдруг ужасная картина бытия, в котором никто не болеет, все живут до ста двадцати библейских лет, все довольны и счастливы. «Золотой век как он есть. Раз уж больше некому, то мне придется не допустить его начала. В Золотой век все равны друг перед другом, нет ни богатых, ни бедных, просто коммунизм какой-то получается», – думал Глинкин, покусывая нервно губы, словно неуравновешенная институтка. И вдруг его осенило, всё разом встало на свои места:
– Ну конечно! Как же я раньше не допер! Ведь это тот япошка, которого мои парни взорвали по просьбе старого лукавого беса Урикэ! Да ведь он прилетел на Камчатку за каким-то редким растением! И ниточка от него тянется к Спивакову! Дубина ты, Миша, – обругал сам себя Глинкин. Да ведь это настоящий заговор яйцеголового молодняка! Они все небось в одной организации, все там коммунисты-идеалисты. Да если бы мне раньше немного подумать и всё сопоставить, тогда бы я захватил того япошку, живым доставил его в Москву и тут бы всё из него вытянул! О, черт, черт, черт! Как же я поспешил! Никогда не стоит сначала взрывать, а потом думать. Надо всё делать наоборот, а виной всему – моя привычка родом из лихих девяностых. Там времени на размышления не было: либо ты, либо тебя. Стреляли все и во всех без разбору. Ну да ладно. – Машинально Глинкин подумал, что неплохо бы сейчас хлопнуть водочки, успокоить нервы.
– Надо с ним кончать, – повторил он, вернувшись в особняк, – чем скорее, тем лучше. И так, чтобы это ни в коем случае не выглядело как насильственная смерть. Парень вхож на самый верх, начнут копать, а они умеют искать, когда им это нужно. Придется много заплатить, причем всем и сразу, они там любят денежки. Ай да Квак, ай да пригодился! Положительно, в стукачах есть большая польза, пытаться измерить которую деньгами – напрасный труд, стукачи бесценны, как бесценна в наше быстрое время нужная информация. Прости, парень, прости, Алексей Спиваков – светоч российской науки, но я тебя только что приговорил к смерти. – Глинкин потер руки, достал бутылку и стакан, налил себе. На стекле отпечатались все пять его сильных пальцев.
Глава 5
Ешьте больше, молодой человек – «Salvarevitum» – Случайный пациент – Повязка для генерала – Что бывает, если разговаривать с деревьями – Против жизни.
1
Отставной генерал-лейтенант Петр Никитич Войтов занимал большой кабинет с адъютантским «предбанником» в доме, стоящем в первой линии со стороны Александровского сада, неподалеку от Кутафьи башни и Боровицких ворот. В этом доме, как свидетельствовали многочисленные мемориальные доски на стенах, в разное время проживало множество важного при советской власти народа. И даже известная большевистская Мессалина и любовница злобного калмыка Ленина, Инесса Арманд, вставала здесь на постой, принимая лысого своего любовника в будуаре, раскинувшись на подушках по-турецки (гламур того времени) и облаченная в пеньюар парижской работы, украшенный брабантскими кружевами. Ленин тайком пробирался к ней, пил чаек вприкуску и рассказывал о мировой революции. Было им удобно и томно...