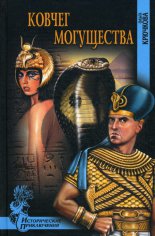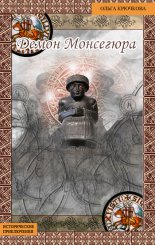Белый Дозор фон Готт Алекс

– Заткнись, на меня твои дешевые наговоры не действуют. Я жил задолго до того парня, который их придумал, – презрительно цыкнул на него Глинкин и разжал кисть. Квак рухнул на пол и лежал, не подавая признаков жизни, лишь правое плечо его чуть поднималось-опускалось, указывая на то, что продажный заместитель директора жив и дышит. Глинкин продолжал сидеть, словно курица на насесте, и смотрел на Квака с тяжелой ненавистью.
– Ладно, хватит ломать комедию. Поднимайся, здесь тебе не гостиница. Вот так-то будет лучше, – удовлетворенно констатировал Михаил Петрович, видя, что Квак пытается медленно встать, держась обеими руками за стул. Наконец ему это удалось, и Квак сел. Он избегал смотреть на своего преобразившегося явно не в лучшую сторону благодетеля, судорожно и неровно дышал, периодически то прижимая правую ладонь к левой половине груди, то, наоборот, левой проверяя пульс на правом запястье.
– Что? Сердечко шалит? Крепчать надо, вот и не будешь в штаны дуть, – насмешливо посоветовал Глинкин и снова по-прежнему закаркал.
– Простите меня ради бо... – Квак, сообразив, что чуть не сболтнул лишнего, осекся.
– Нормально, валяй! – разрешил Глинкин. – Ты хотел сказать «ради Бога»? Так в чем же дело?
– Я подумал... С вами что-то произошло... Вы стали такой, такой...
– Ага, – кивнул Михаил Петрович, – стал. Дальше что?
– Просто я подумал, что вы разозлитесь, если я Бога помяну, – набравшись храбрости, сказал Квак и опасливо втянул голову в плечи.
– Бог, Саша, тебе неведом. Для тебя это просто слово. А всё же скажи, тебе какой Бог ближе: с рогами или без?
– Да что вы, Михаил? С рогами-то – это вовсе и не Бог, это чёрт – с рогами-то, – вновь судорожно сглотнув, произнес Квак.
– Чё-ерт, – нараспев произнес Глинкин, – дурак ты, Квакушка. Бог с рогами в цепях, в Навьей темнице томится, и я, его верный слуга, сделаю всё, чтобы приблизить его свободу. За это награду получу самую высшую, буду вечно жить. Не веришь глазам своим, дурачок? Так посмотри на меня еще раз. Что видишь?
Квак несмело поглядел, встретился с Глинкиным взглядами и, в ужасе закрыв глаза ладонью, простонал:
– Не могу, жжет всего морозом, сердце стынет...
– Как думаешь, просто так это со мной свершилось?
– Н-не знаю.
– Плохой ответ.
– Думаю, не просто так.
– Думаешь, я тебя стану упрашивать, чтобы ты всё сделал, как я тебе велю? А может, я просто убью тебя? – Глинкин раздулся, превратился в шар, костюм на нем затрещал по швам.
Квак задрожал, как маленькая озябшая левретка, лишенная своего стеганого пальтишка.
– Простите, простите меня. Я все сделаю, конечно!
Глинкин на глазах вернулся в прежние свои размеры, ловко перекатился по спине назад, уселся за стол, довольно потер руки.
– Славно, что ты все-таки не совсем кретин. Хотя я не встречал ни одного кретина, который не любил бы свою жалкую, никчемную жизнь. Знал бы столько, сколько теперь знаю я, так не боялся бы. Человек продолжает жить после смерти, умирает лишь тело его, и память ему стирают там, – он ткнул пальцем в небо. Хочешь продолжать жить в своем теле, не стареть, всё помнить и бесконечно наслаждаться, тогда выполнишь службу, которую требуют от нас рогатый бог и его Черная Супруга, великая Мара-Мать, в Смерти Владычица.
– Да, да, – затряс головой Квак, – я всё сделаю, всё.
– Тогда слушай. Мне нужно, чтобы ты временно испортил в криохранилище терморегулятор. Думаю, это несложно. Давай-ка подумаем вместе, как это лучше сделать.
Глава 6
Чекушка – Уснувший милиционер – Криохранилище – Жаба-вредитель – Благими намерениями вымощена дорога в Ад – Откуда в Атлантиде... таблица Менделеева – Стена огня и Черная рать.
1
НИИСИ пустовал. Алексей, который до этого, в течение нескольких месяцев, сутки напролет проводил на работе и того же требовал от остальных, своим указом вновь ввел пятидневную рабочую неделю и строго-настрого в шутливой, разумеется, форме запретил кому-либо показываться в институте раньше понедельника:
– Идите и прильните к женам и мужьям своим, и к детям своим, и к бабкам, и к дедкам, и к тварям домашним, ибо так говорю я, ваш директор, и глас мой да услышан будет всеми, – стараясь сохранять серьезную мину, сказал он в конце своей поздравительной речи перед сотрудниками НИИСИ на итоговом заседании, посвященном созданию прототипа.
– Да будет воля твоя, Моисей, – хором ответили ему его умные и начитанные сотрудники.
Потом был фуршет и много веселья, и все были очень довольны, обнимались, пили вино, смеялись, поздравляли друг друга и, конечно, особенное внимание уделяли любимому директору. Но Алексей, по своему обыкновению, только руками разводил:
– Рано нам с вами радоваться, товарищи дорогие. Ведь готов еще только прототип, еще недоработан препарат. Нельзя останавливаться, необходимо срочно идти вперед. Сейчас месяц отдыха по выходным, а потом готовьтесь. Я вас вскоре ненадолго покину, подлечу нервишки, а вернусь из отпуска – и здравствуйте, бессонные ночи на работе.
– Куда собрались, Алексей Викторович? В Ниццу? – шутливо спросил кто-то.
– Да куда там! – улыбнулся Лёша. – На Волхов, к дядьке, папиному брату младшему, порыбачить хочу, пока не совсем еще похолодало. Он меня каждый год зовет, а я все отнекиваюсь. Пора уважить старика.
Разошлись около полуночи. Лёша отпустил машину за несколько кварталов до дома, захотелось пройти, подышать прохладным сентябрьским воздухом.
– Так что, Алексей Викторович, действительно, до понедельника, что ли? – недоверчиво спросил его шофер.
– Да, Виктор, до понедельника. Пролетариат желает гулять с гармошкой и наяривать на балалайках водевили и мазурки господина Камаринского, – отшутился Лёша.
– Не переусердствуйте, Алексей Викторович, – напутствовал Лёшу шофер и укатил. Ему тоже надоело постоянно спать в автомобиле. Супруга ворчала, что он-де, старый черт, нашел себе зазнобу, и успокаивать ее всякий раз было длительным и напряженным процессом.
– С кем усердствовать-то? – пробормотал Лёша, глядя, как в темноте уменьшаются красные диодные фары «Ауди». «Лучше бы мне было, Мариночка, ничего не знать. «Меньше знаешь, крепче спишь», как это правильно в данном случае! Думал бы я себе, что ты с кем-нибудь счастлива теперь, ждешь ребенка... Хотя, разве мне было бы тогда легче? Пожалуй, да. Легче думать, что ты жива и здорова, и счастлива, хоть и не со мной».
Маме Лёша решил ничего не говорить. Пусть думает, что у сына просто не сложились отношения «с той девочкой». Мама хорошая, она просто перестала вспоминать Марину при сыне. Неторопливым прогулочным шагом идя к дому, Лёша подумал, что обязательно должен разыскать могилу любимой.
«После возвращения, всё после моего возвращения, – остановил он сам себя. – Больно, тяжело, обидно, но ее я уже не спасу, а миллионы жизней зависят сейчас только от меня. Как там у Стругацких? «Трудно быть Богом?» А когда ты не Бог, а тебя заставляют выполнять его задачу, то это каково? Легко? Что-то ты, Спиваков, стал в бабу превращаться, – одернул себя Лёша. – Соберись. Для дела, что я задумал, такие мысли – никчемный балласт. Как ведет себя Бог? Наверное, он просто идет туда, куда задумал, и не обращает внимания на обстоятельства. Да и могут ли у Бога вообще быть какие-то там обстоятельства? Может ли Бог зависеть от обстоятельств? Или он настолько совершенен, что всё, каждую мелочь, предвидит наперед? Какая ерунда! Да ведь Бог сам и создает обстоятельства, как всё, что он создал в этом мире. В том числе и камчатский мох – это его промысел. Никто не знает,что я лечу на место гибели Саи, ни одна живая душа, если, конечно, не считать авиакомпанию и программу бронирования билетов, благодаря которой из моего плана ничего секретного так до конца и не выйдет. Но я всё равно никому не скажу, пожалуй, кроме генерала Войтова и Александра Кирилловича Квака, а уж потом, когда вернусь и удастся превратить прототип в настоящий эликсир жизни, то в тайнах не будет никакого смысла: вещество из этого мха войдет в формулу препарата и придется доказывать комиссии, что это природный компонент, а не случайно полученное в результате научной ошибки химическое соединение. Такое «случайно» не бывает. Только бы мне найти. Я очень надеюсь найти этот мох. Ведь не может быть так, чтобы рос, рос, и весь его разом засыпало. Одно дело – исчезновение после ядерного взрыва, но ведь простой оползень – это сущая ерунда в сравнении с этим», – подбадривал себя Лёша, проходя через соседний двор. Он предвкушал уже чай и любимую кровать, но тут вдруг сами собой вспомнились слова той песни (знал бы он, кто такая эта певица и с кем сейчас она сидит рядом, греясь у костра!):
- – Дворами, что потемней,
- Я просто иду домой...
«Ничего нельзя забыть. Нельзя смириться с тем, что твой любимый человек ушел, и это навсегда, и ты никогда-никогда его больше не встретишь, даже случайно. Не пересекаются друг с другом мир смерти и мир жизни», – горестно подумал Лёша и завернул в ночной магазин, где, отстояв небольшую очередь из трех помятых личностей, купил чекушку водки, и только тогда пошел домой, думая, что мама, должно быть, посолила, как и обещала, огурцы. Будут ему в самый раз на закуску. Ведь, если теперь не выпить, точно не уснешь...
Он пришел домой, сбросил обувь, прошел сразу в кухню, поставил на стол бутылку, открыл холодильник. Так и есть: банка малосольных огурцов ожидала своего часа. Не завтрак у генерала, конечно, но в самый раз и «в охотку». Лёша пошел в ванную мыть руки, а когда вышел, то в кухне обнаружил маму, которая, как бы не обращая внимания на Лёшины приготовления к застолью в одиночестве, мыла и без того чистую посуду.
– Привет, мамуль, – Лёша чмокнул мать в щеку, – а ты чего это? Встала вот...
– Да так, – мать сноровисто протерла тарелку, убрала в сушку, откуда совсем недавно достала ее же абсолютно чистую, – посуду вот надо помыть, тебя ждала, не ложилась.
– Иди спать, мамочка, я немножко посижу, – попросил Лёша, – мне одному побыть надо.
– Что так? – Валентина Сергеевна наконец отложила тарелку и пристально посмотрела на сына. – Расскажи о своей печали.
– Мам, – теряя остатки терпения, начал было закипать Лёша, – нет у меня никакой печали! Я просто хочу посидеть один, на кухне, выпить чёртову водку в знак окончания некоего этапа в своей жизни, а равно и начала этапа нового.
– А я могу составить тебе компанию? – очень мягко поинтересовалась она. – И ты на меня, пожалуйста, не кричи, я как-никак твоя мама.
– Прости. Прости, пожалуйста, – он обнял ее, – иногда бывают такие моменты...
– Ты видел Марину? – спокойно, без обиняков, спросила мать, и Лёша словно оступился, потерял равновесие, растерянно отошел назад, наткнулся на угол кухонного стола, неловко повернулся и сел, в замешательстве глядя в одну точку.
– Вот и все твои секреты, сынок, – с легкой укоризной констатировала мать. – Тебе незачем пытаться мне лгать, мы с тобой одно целое, я тебя понимаю без слов и всегда чувствую, что у тебя на душе.
– Марина... – Он помедлил, из последних сил цепляясь за дилемму – говорить ей правду или нет, но сорвался и полетел в пучину откровенности: – Мам, Марины больше нет.
– Что? – встрепенулась мать, всплеснула мокрыми руками, и капля воды попала Лёше на щеку, он машинально смахнул ее.
– Да, мамочка, она умерла. У нее был рак. Она никому ничего не сказала.
– Господи, господи! – запричитала мать. – Да как же такое? А что ж мы раньше-то? Откуда же ты узнал?
– Не важно уже, – Лёша плеснул себе водки, выпил, не закусывая, закашлялся, смахнул выступившие от кашля (от кашля ли?) слезы. – Просто позволь мне, я прошу, побыть одному. Я тебя умоляю. Мне еще твоих причитаний не хватало. Тяжело мне, мамочка! Мы сегодня праздновали в институте, я вроде отвлекся, а по дороге домой накатило так, что теперь никак не отпустит. Иди, пожалуйста, спать. Не усугубляй...
– Хорошо, я тут, я рядом, – мать с обиженным видом вышла. Лёше стало очень стыдно, он хотел догнать ее, попросить прощения и уже готов был крикнуть, чтобы она вернулась, но в последний миг передумал. Завтра утром он извинится, а сейчас остаток ночи он проведет с Мариной.
Он принес из своей комнаты ее фотографию, прислонил к стене, налил себе еще раз.
– Пусть тебе земля будет пухом, любимая. – Выпил, зажевал огурцом, стало еще тяжелей. Спиваков, несмотря на свою фамилию, был с алкоголем и не на «ты», и не на «вы», он почти и не пил вовсе и поэтому быстро запьянел, почувствовал, что всегдашняя его сдержанность покидает его и хочется пойти «в разнос». В чекушке еще оставалось больше половины, он налил третью, выпил залпом, затем четвертую. Опьянел, его развезло, и Алексей приоткрыл окно, вдохнул свежего воздуха, посмотрел на ровный, угольный лесной горизонт Лосиного острова и острый месяц в черном сентябрьском небе.
– Как будто лодка плывет, – прошептал Лёша. – Вот только куда? Как бы я хотел знать, куда она плывет!
На подоконнике стоял маленький приёмник, Лёша машинально нажал кнопку, кухня наполнилась музыкой и дивным голосом Ирэн Богушевской. Уже не сдерживая слез, выступивших на втором куплете, Лёша смотрел на остроконечную, плывущую в небе Велесову ладью, не зная, что та, чью смерть он оплакивал, в тот же самый миг, глядя на небо, вспоминала о нем.
- Ждать не надо лета, чтоб узнать, что счастье есть.
- Ждать не буду лета, чтоб сказать, что счастье здесь.
- Я узнала тайну: для надежды, для мечты
- Мне никто не нужен. Даже ты.
- Апрель у нас в раю с золотыми лучами.
- Сентябрь у нас в раю – с серебристым дождём.
- Здесь счастье нам дано и в любви, и в печали.
- Оно со мной в тот миг, что я плачу о нём.
- Будь благословенным, детский смех у нас в раю,
- Вешнее цветенье – и первый снег у нас в раю.
- Верность и измена, боль и страсть, и тьма, и свет —
- Всё здесь есть. Вот только говорят, что смерти нет.
- Июль у нас в раю сыплет звёзды ночами.
- Ноябрь у нас в раю плачет ночью и днём.
- Здесь счастье нам дано и в любви, и в печали.
- Оно со мной в тот миг, что я плачу о нём.
- Молча смотрит бездна на летящие огни.
- Ах, Отец небесный, Ты спаси, Ты сохрани.
- У черты последней, жизни вечной на краю,
- Я скажу: Оставь меня в раю, у нас в раю.
- Ведь там опять весна расплескалась ручьями.
- Ведь там опять зима с этим белым огнём.
- Оставь меня в раю, средь любви и печали.
- Я всё тебе спою, что узнаю о нём[2].
– Смерти нет. Я сделаю так, чтобы ее не было, а потом поплыву к тебе по небу в этой золотой лодке. – Спивакова стало неудержимо клонить в сон, голова кружилась и мутило от выпитого. Он попытался еще что-то сказать, но его сильно качнуло, он чуть не упал, если бы не мама, которая всё это время «караулила» поблизости. Все они одинаковые, настоящие-то мамы. И славно, и хорошо. У материнской любви нет дна, нет берегов, она чиста, словно утреннее небо, она честна, как пенье соловья. Мама проводила сына в его комнату, раздела, как когда-то, в далеком детстве, заботливо укрыла одеялом и всю ночь не смыкала глаз. Наутро Лёша чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Он проболел все выходные и не знал, что произошло в институте за эти два дня...
2
Милиционер Гаврилов, недавно служивший и потому не выработавший еще строгости и беспристрастного отношения к своим служебным обязанностям, скучал на дежурстве. Был выходной день, суббота. НИИСИ после давешнего фуршета драматически пустовал, молчали телефоны, в здании не было никого, и Гаврилов, пройдясь по коридорам и проверив, всё ли заперто, с чистой совестью уснул в своей комнатенке с затемненным оконцем, сквозь которое он обычно наблюдал за всеми проходящими мимо сотрудниками и посетителями института. Беспокоиться ему было особенно нечего – электронная система автоматически регистрировала всех, входящих в здание, и всех, его покидавших, а на входе был установлен надежный турникет от пола до потолка, с автоматическим запором. Через турникет невозможно было пройти, не приложив к специальному устройству персональную магнитную карту. Пропускная система НИИСИ была сложной, многоуровневой, и присутствия человека особенно не требовала, всё делая в автоматическом режиме. По выходным дежурный отключал автоматику и последнюю перед входом в НИИСИ дверь, бронированную, с гидравлическими запорами, в будни всегда открытую, держал на замке.
Доверившись электронике, Гаврилов мирно храпел и во сне видел земляничную поляну, а ещё – сержанта Круглову в ситцевом легком сарафане и как будто бы даже без нижнего белья. Сержант манила его пальчиком, убегала, шалунья этакая, задорно смеялась и показывала голые ноги много выше колен, отчего у спящего Гаврилова сладко ныло внутри. Он бегал за Кругловой, и вот, когда он преуспел и почти настиг ее, схватив за край легкомысленного сарафана, то Круглова повернулась к нему и строгим голосом заместителя директора НИИСИ господина Квака Александра Кирилловича сказала:
– Товарищ сторож, что же это вы спите на посту своем? А как же враги и шпионы? Нехорошо вы свою службу исполняете, товарищ милиционер. Придется начальству вашему сообщить, чтобы вас, понимаешь, из органов-то поперли.
Гаврилов очнулся, открыл глаза, несколько секунд в недоумении вертел головой, силясь понять, где он находится, потом, что называется, «включился». За темным стеклом никого не было, а вот в проеме ведущей в комнатенку двери стоял Квак собственной персоной и с явным неодобрением глядел на расхристанного после сна милиционера. В правой руке Квак держал пластмассовый медицинский чемоданчик, с каким ходят обычно врачи «Скорой помощи».
– Что же это вы спите? – повторил он свой вопрос. – Бдеть надо, а вы спать удумали. Нехорошо! Придется мне о вас доложить.
– Александр Кириллович, я вас очень прошу, не говорите никому! – взмолился Гаврилов. – У меня мать больная, сестра безработная и бабка еще... Вы человек уважаемый, большой, если вы на меня пожалуетесь, то вам в угоду меня сразу из милиции уволят. Я вас очень прошу, не говорите, что я уснул на посту! Просто вроде суббота же, мне сказали, что сегодня никого не будет, вот и списка у меня никакого нету, где Алексей Викторович разрешает сотрудникам в выходной день работать. Так я и подумал, что никто не придет, не заметит, входную дверь закрыл на замок. А вы как вошли, Александр Кириллович?
– У меня есть ключ. Я заместитель директора, поэтому у меня есть ключи ото всех дверей, – самодовольно заявил Квак, который для этого мальчишки в форме был непререкаемым авторитетом. – Однако это скверно, что у вас нет списка. Должно быть, его забыли подготовить из-за головокружения от успехов, – саркастически хмыкнул Квак. Он задумчиво помолчал. – Однако мне нужно работать. Откройте-ка мне дверь.
Гаврилов растерялся. Нештатная ситуация была налицо. Нарушение пропускного режима – это нарушение серьезное, но, с другой стороны, перед ним второе лицо в институте, и его слово – закон. В инструкции, однако, было сказано, что только директор вправе отменять пропускной режим, в виде исключения, а вот про такие же полномочия для его заместителя ничего сказано не было. Поэтому Гаврилов, всё взвесив, покачал головой и развел руками.
– Что это значит? – раздраженно спросил Квак. – Что еще за жесты такие?
– Не могу дверь открыть, не положено. Без списка никак не могу, – с извинительной интонацией объяснил Гаврилов.
Квак вспылил:
– Но я заместитель директора! Вы в своем уме?!
– Да я при всем уважении к вам, Александр Кириллович! Нагорит мне! И так уволят, и так тоже уволят, – горестно вздохнул милиционер. – Судьба, блин...
– Ладно, – смягчился Квак, – вообще-то, так и положено. Это я вас проверял, молодой человек, на прочность, так сказать. Но если честно, то мне очень нужно попасть на свое рабочее место. Предлагаю джентльменское соглашение. Вы знаете, что такое джентльменское соглашение?
– В общих чертах, – несмело улыбнулся Гаврилов. – Это вроде как до первой крови драться?
– Хм... Такой вариант мне в голову как-то не приходил. Хотя почему бы и нет? Драться мы с вами, конечно, не станем, а вот предлагаю договориться следующим образом: вы меня пропускаете, а я на вас не донесу. Идет?
– Идет! – радостно согласился довольный «джентльменским соглашением» милиционер и щелкнул кнопкой электрического замка. Тяжелая дверь бесшумно откатилась на шарнирах, путь был открыт. Квак показал Гаврилову оттопыренный большой палец.
– А с вами приятно иметь дело, молодой человек!
– Служу России! – машинально брякнул простофиля-сторож и с облегчением перевел дух: «пронесло».
И Квак вместе с медицинским своим чемоданчиком сделал вид, что поднимается к себе на второй этаж, а вместо этого зашел в «комнату круглосуточного мониторирования» (так косноязычно ее назвал кто-то) и перво-наперво стер факт своего появления в институте. Теперь на видеозаписи был только пустой вестибюль НИИСИ и мелькнул однажды Гаврилов, вышедший из своей комнатенки справить нужду. У Квака и впрямь были ключи от всех дверей!
Затем, не выпуская чемоданчик из рук, он спустился в криохранилище. Набрал шифр на кодовом замке, вошел в специальное помещение, где хранились низкотемпературные скафандры, облачился в один из них и встал в шлюзовую камеру, которая с шипением за ним закрылась, и воздух в ней начал охлаждаться до минус девяноста градусов по Цельсию. По достижении необходимой температуры шлюз открылся, и Квак, невероятно смешной, похожей на гусиную походкой вошел в помещение хранилища, представлявшее собой комнату площадью в несколько квадратных метров, напичканную датчиками температурного контроля. Здесь, в стеклянном шкафу, хранилось то, ради чего целый институт не спал ночами и трудился сутки напролет в течение нескольких последних месяцев: в специальном контейнере с гнездами ждали своего часа двести ампул, содержащих в себе надежду человечества на избавление от одной из самых страшных напастей – онкологии. Квак некоторое время задумчиво смотрел на содержимое шкафа, словно сомневаясь, делать ли ему последний шаг или нет, но вспомнил зеленый, режущий взгляд Глинкина, поежился и быстро распахнул стеклянные дверцы. Дальше он все действия производил очень аккуратно, четко, со знанием дела.
Поставил на пол свой медицинский чемоданчик, раскрыл его. Внутри оказалась миниатюрная нагревательная камера, работающая от мощных элементов питания, не боящихся низких температур. Такие применяют в космической индустрии, и работают они даже при абсолютном нуле. Очень осторожно он взял контейнер с ампулами и поставил его внутрь своего чемоданчика, закрыл его и нажал на расположенную сбоку неприметную, в цвет чемоданчика, кнопку. Принялся считать вслух. Он весь обливался потом: «сорок шесть, сорок семь... сто тридцать семь... двести сорок». На счете «триста» в ампулах, нагретых до шестидесяти градусов, наступил необратимый процесс. Прототип эликсира жизни был загублен.
– Вот так, Лёшенька, – злорадно произнес в своем скафандре подлейший Квак. – Теперь я с радостью посмотрю, как ты будешь юлой крутиться перед ученым советом, докладывая об «успешных» испытаниях этого своего снадобья. С таким же успехом можно пытаться протащить в серийное производство дистиллированную воду, всё равно твой «эликсир жизни» теперь ничуть от нее не отличим.
Закончив, Квак проделал череду обратных действий, покинул крошечное помещение хранилища, снял скафандр. Вся его одежда насквозь промокла от пота, от него несло, как от козла, но его нисколько это не волновало. Он почти визжал от восторга, предвкушая свой доклад Глинкину об успешно проделанной работе.
– Я заслужил себе место в новом мире, – шептал Квак. – Я вытянул счастливый билет. Это непостижимо, а кто-то думает «сказки». Какие там сказки! – Он вновь поежился, вспоминая, как Глинкин шутки ради ползал по совершенно отвесной стене и потолку, а он, Квак, встал перед ним на колени и назвал «хозяином». Глинкину такое обращение пришлось по душе. Вместе они придумали, как погубить прототип, не повышая общую температуру в хранилище, что было бы слишком заметно. Настоящее зло всегда действует исподтишка, с отсрочкой исполнения своих чудовищных замыслов, чтобы в наиболее подходящий момент, когда никто не ждет, нанести самый эффективный, самый сокрушительный удар. Двести никчемных (как думал Квак) доз препарата остались бесполезно (опять же, как думал Квак) стоять на полке. Лёша переживал последствия нервного срыва, лежа дома на кушетке и с головной болью. Квак робко выслушивал похвалы Глинкина и ожидал, когда тот переведет на его, Квака, тайный банковский счет круглую сумму с шестью нулями, ибо риск – не только благородное дело, но дело еще и очень, очень прибыльное. А в комнатенке охраны вновь беззаботно храпел Гаврилов. Он закрыл входную дверь на дополнительный замок, открыть который можно было только изнутри. Что ж, воистину: наша милиция нас бережет...
На следующие сутки после дежурства, когда Гаврилов переходил дорогу в родном подмосковном Подольске, его насмерть сбил какой-то легковой автомобиль без номеров, шедший с огромной скоростью. От страшного удара у милиционера оторвало голову и правую ногу. Глинкин не любил оставлять живых свидетелей.
3
В понедельник утром Войтову стало худо, и его увезли в госпиталь прямо из рабочего кабинета, куда он пришел, по своему обыкновению, ни свет ни заря. Генерала поместили в отдельную палату и, несмотря на его возражения, приставили к палате охрану, поэтому, когда спустя два часа в корпус Центрального военно-клинического госпиталя имени Бурденко ворвался Лёша, его в грубой форме не хотели допускать к Войтову. Всё, впрочем, довольно быстро разрешилось, охранники извинились, мол, «работа такая», а Лёша уже сидел у постели своего благодетеля и как мог успокаивал генерала, который, по его собственным словам, был «всегда готов занять свое место в небесной канцелярии, где для таких, как он, всегда найдется теплое местечко, поскольку генералы с мозгами везде нужны».
– Тем более что у них там, – шутил Войтов, выразительно поглядев в потолок, – забот уж как-нибудь побольше, чем здесь у нас, да и масштаб посолидней. Вот интересно, а как там у них кормят? Что там на завтрак подают?
– Петр Никитич, рано вам про их завтрак знать, честное слово, – уговаривал генерала Лёша, – я вас вылечу. Я привез вам лекарство. Помните? Вы мне обещали, между прочим.
– Получается, я у тебя первый подопытный хомо сапиенс? – с улыбкой спросил генерал.
– Получается, – смущенно ответил Лёша. – Да вы не волнуйтесь, препарат себя показал прекрасно, всё подопытное зверье выздоровело и теперь прекрасно себя чувствует. Я гарантирую, что ошибки быть не может и не будет.
– Ну, дай-то бог, – тихо произнес генерал. – А то ведь знаешь, Лёша, я уж так тебе честно скажу: не хочу я уходить. Честно. Не хочу! Люблю я жизнь, понимаешь, и всегда любил. Никому и никогда не верь, когда кто-то заявляет, что, мол, ему всё равно, что на этом свете, что на том. Это всё пустое бахвальство и трёп. Любой человек к жизни привязан, любит ее, а коли наоборот, то это или помешанный, и тут всё понятно, против ошибок природы не попрешь, даже если ты в танке, или тут другое... Если такое не сумасшедшие говорят, то это совсем страшные люди, а может, и не люди вовсе, – генерал задумался, словно решая, рассказать Лёше что-то особенное или, по своему генеральскому обыкновению, промолчать, но вот, похоже, решился: – Знаешь, Лёша... Какое-то меня в последнее время странное чувство одолело.
– Что за чувство, Петр Никитич?
– А вот ты погоди. Не перебивай старика. Конечно, это всё можно на мою болезнь списать, на настроение, но чувство такое, что скоро случится что-то совершенно ужасное, непоправимое. Роковое предчувствие всеобщей катастрофы. Она всё зрела, зрела, вызрела и вот-вот появится, время ее пришло. Две тысячи лет назад было, наверное, то же самое, но тогда всё разрешилось благополучно. Пришел Христос, спас человечество. А сейчас кто придет? А насчет моего чувства... Знаешь, я же перед самой войной родился, за пару лет до начала, но помню себя рано, помню разговор своей матери с какой-то бабкой из деревни сибирской, куда нас в эвакуацию загнали. Она что-то такое говорила, я дословно не помню, но в целом смысл ею сказанного сводился к тому, что она, мол, чувствовала, что война начнется еще задолго до сорок первого года. «Это, – говорила, – не конец еще. Это перед концом такая проверка, вроде репетиции, что ли. А вот уж настанет век следующий, тогда и совсем конец наступит». А мать-то ее и спрашивает, в шутку так, мол: «А кто ж это репетирует?» Вроде бы деревенская баба, а про репетицию чего-то там такое заворачивает. А та ей на полном серьезе и отвечает: «А боги настоящие, которых на Руси еще до Крещения почитали, а потом в чертей разжаловали – это они затеяли». Какое же она тогда имя назвала? – Генерал вытянул губы трубочкой. – Прум-пум-пум, что-то вспомнить не могу. Еще на имя похоже, прости за напоминание, девушки твоей... Марины. Вот, вспомнил! Мара, она сказала. Мара – Черная Богиня. «Мара сейчас много жизней своим серпом срезала, нажрется досыта, – вот как та бабка сказала, – а потом, как народ про эту войну забывать начнет, как начнет байки травить про то, чего на ней и вовсе не было, так Мара снова к нам из-под земли, с того света поднимется, придет, вот уж тогда и случится конец света». А мать ее спрашивает: «Как же узнать, когда это случится?» «А когда радость настоящая в людях пропадет», – ей бабка ответила и ушла, и с того дня мы с ней никогда не виделись, хоть деревня и не больно большая была. Это я к тому рассказываю, что мне в последнее время кажется: нет в людях настоящей радости. Разучились они, мы то есть, жизни радоваться. А что не бльшая радость, чем сама жизнь? А раз основного нет, то, значит, и не нужно оно, – подвел генерал простой итог, – значит, жди беды. Ладно, Лёша, ты меня не слушай, мне помирать страшно, вот я и несу тут перед тобой всякий бред.
– Да не помрете вы! – запротестовал было Лёша, но генерал поднял руку, показывая, что лишние заверения делать ни к чему: будет, как будет:
– Давай свое лекарство. Хочу верить, что поможет. Долго оно действует, кстати? Когда будет виден результат?
– Сколько действует на людей, точно неизвестно, но когда испытывали на мышах и морских свинках, то лечебный период длился около десяти дней, – честно ответил Лёша и добавил: – Предполагаю, что у людей это займет не больше двух недель. Я вам сделаю введение через капельницу сам, без согласования персоналом госпиталя, а то все же кругом с амбициями, начнут права качать. Я послезавтра, в среду, улетаю, Петр Никитич, – не глядя в проницательные глаза Войтова, сказал Лёша. – В Москву вернусь как раз через две недели и верю, что застану вас живым и здоровым. Ну как, делаем?
– Валяй, – шутливо разрешил генерал. – Только где же ты капельницу возьмешь?
– Это не проблема...
Лёша вышел из палаты в коридор, нашел дежурную медсестру и сунул ей тысячу рублей. Очень быстро после этого в палате Войтова появился штатив с капельницей и с флаконом физраствора. Лёша прикрыл дверь в палату, перевел дух (от волнения пульс зашкаливал, как во время крутого подъема в гору), из портфеля достал термос-дюар, содержащий одну-единственную, взятую им в криохранилище ампулу «Salvarevitum» и шприц. Надломил ампулу, высосал шприцом её содержимое и прямо через пластик «сделал укол» флакону физраствора. Действовал быстро, словно опасаясь, что сейчас в палату нагрянет медицинская комиссия, случится врачебный обход и его прищучат, обвинят в преступлении... Но никто не вошел, до врачебного обхода было еще часа два, и Алексей попросил Войтова «поиграть» правым кулаком, чтобы на руке вздулись вены.
– Красиво ты всё это делаешь, Лёша, – сжимая-разжимая ладонь, признал генерал, – любо-дорого смотреть.
– Ну что вы, на что тут смотреть? – сопя от волнения, ответил Спиваков, вводя в локтевую вену иглу, а через нее мягкий катетер и регулируя колесиком капельницы частоту поступления лекарства в кровь, – вот и всё, Петр Никитич, поставил.
– Буду верить, что поможет, – улыбнулся этот замечательный старик.
– Уверен, что поможет, – твердо пообещал Лёша. – За час все прокапает, и я капельницу уберу от греха подальше, чтобы врачи не возмущались моим самоуправством.
– Сам не вози, – посоветовал генерал, – снова медсестричку попроси, это ее работа. Посидишь со мной еще перед долгой дорогой? Ты далеко летишь? – внезапно спросил Войтов, и Лёша, не успевший отвести взгляд, понял, что раскрыт. Вздохнул:
– На Камчатку, Петр Никитич. Мне нужно закончить мою работу, довести «Salvarevitum» до ума. Саи искал там мох, из которого, как мы с ним предполагали, можно выделить первочастицу, или частицу Бога. Совершенную клетку, способную разрушать злокачественные образования. Я очень рассчитываю найти там то, что нашел Саи. Ведь он звонил мне оттуда по спутниковому телефону, сказал, что видит целое поле этого растения. Уверен, там что-то от этого поля да осталось. Только я вас прошу – никому.
– Лишнее говоришь, парень. Во мне секреты, как в камере хранения, от которой ключ потерялся. Ну что ж... Отговаривать тебя не стану. Ты ученый, значит, увлечен своей идеей, одержим ею, тебе опасности побоку. Там, кстати, на Камчатке, мишки косолапые водятся, проводника возьми с оружием. В любом случае один не ходи, – посоветовал генерал.
– Так и сделаю, – пообещал Лёша.
– У тебя шофер – очень надежный мужик. Я бы с ним в разведку пошел, – как бы невзначай намекнул Войтов.
Поговорили еще, генерал рассказал несколько интересных шпионских историй из своей богатой биографии. Лёша увлеченно слушал, не перебивал. Когда капельница опустела, Войтова стало клонить в сон, что было им расценено как хороший знак («Сон – лучшее лекарство»), и Спиваков поспешил откланяться.
– Столько дел до моего отлета, в основном сплошная бюрократия и почти ноль науки, – посетовал он.
– Буду ждать твоего возвращения, – сонно пробормотал генерал и повернулся к стене.
– До встречи, Петр Никитич, – Лёша постоял немного у двери, посмотрел на прихрапывающего уже генерала, поймал себя на мысли, что и ему передалось тревожное ощущение Войтова.
«Ерунда, – решил про себя Лёша. – Всё будет хорошо. Надо жить».
И ушел, тихо прикрыв за собой дверь в больничную палату. Он хотел как лучше и действовал лишь из самых чистых побуждений.
Чистые побуждения, имеющие также название «благие намерения», – вещь очень противоречивая. С одной стороны, они, безусловно, похвальны, как высокие и жалостливые порывы души, с другой стороны, благие намерения и лучшие побуждения – суть результат деяний слуг Мары – бесов суеты. Они поражают человека, вызывая в нем столь естественное для развитого интеллекта чувство сострадания, но за благими намерениями действующий из чистых побуждений человек не видит последствий своего «доброго» поступка. Милосердный порыв души зачастую так же обманчив, как любовь с первого взгляда, приносящая порой одни несчастья, самым щадящим из которых будет горькое разочарование.
Воистину, «Не делай добра – не получишь зла», и всякое благое намерение – лишь серый камень, один из многих, которыми вымощена Марина дорога в Навь.
4
Невзор настолько подчинил себе Глинкина, что тот даже говорить стал с кажущимися непривычно странными, старинными оборотами. Несколько раз ему заискивающе намекали: «У вас, Михаил Петрович, речь такая интересная стала, вы большой оригинал». На что Глинкин отмалчивался, а на людях стал надевать очки с дымчатыми стеклами, объясняя это «временными проблемами со зрением». Невзор запретил Глинкину рассказывать о нем даже Кваку и держал сознание магната под постоянным контролем, бодрствуя круглые сутки. Глинкину он поначалу также не давал спать, но вскоре, после нескольких бессонных суток, немолодой уже организм Михаила Петровича взбунтовался: стала пошаливать печень, «закололи» почки, повысилось давление, и Невзор, в своей извечной, злобной манере долго выражавший свое отношение ко всему людскому роду «слабаков», что называется, «со скрипом» согласился:
– Попусту время из жизни выкидывать – вот что такое твой сон, – ворчал Невзор, – да еще в самое наилучшее время, ночью!
– Я ж иначе помру, – оправдывался Глинкин, – кто вас тогда носить станет?
– Дерзлив ты! Не был бы так нужен, я б тебя замучил с большим удовольствием за такие речи, червяк.
– Да не лайтесь вы! – вдруг обозлился Глинкин. – Вы без меня просто воздухом с палкой были.
Он тотчас же сильно пожалел о том, что в гневных своих мыслях высказал колдуну. Вдоль позвоночника тело резанула нестерпимая боль, и Глинкин ничком упал на пол, закатив глаза так, что они и вовсе стали какие-то сплошь черные. Дышать ему опять сделалось невмоготу.
– Пощадите, прошу вас, – прохрипел магнат. – Мы с вами, как иголка с ниткой, друг без друга никуда, не убивайте меня...
– Худо-лихо! – ругнулся Невзор. – Ладно. Спи. Только недолго. Еще до солнышка, с петухами стану тебя будить. Учти, червяк.
– Я всё спросить хочу, можно? – вежливо, стараясь не реагировать на постоянные оскорбления, попросил Михаил Петрович.
– Валяй, – нехотя разрешил Невзор.
– Вот вы, прошу прощения, присоветовали, как вы изволили выразиться, снадобье нагреть. Было?
– Ну, – самодовольно ответил Невзор, – было. И дальше что?
– А почему было просто не разбить их или не взорвать, как я с самого начала предлагал?
– Рожденный ползать летать не может, – изрек Невзор неизвестно где подслушанную им цитату из Горького. – Уж кто-кто, а я в снадобьях разбираюсь получше тебя, потому что я ими не торговал, я их делал и ведаю, что ежели зелье, коему надлежит в холоде храниться, нагреть, то зелье это не токмо испортится, но и действие свое, наоборот, поменяет. Понял теперь?
– То есть вы хотите сказать, что лекарство испорчено? Прекрасно! Это же замечательно! Значит, Спивакову не пройти комиссию, и препарат не допустят в серийное производство?! Это – победа! – возбужденно выпалил Глинкин, но Невзор только презрительно хмыкнул в ответ.
– Я н-не прав? – сразу оробел Глинкин.
– Мелкий ты какой человечишка. И подлый. Столь же подлость твоя сильна, сколь и у помощника твоего примерзкого, Кваки (Невзор всегда называл Квака именно так: «Кваки»). Всё бы тебе мелко плавать, точно пескарю. «Комиссию не пройдет», – передразнил колдун магната, – так нет же, всё не то. Увидишь, чем вскорости затея моя обернется. Недолго уже терпеть осталось...
– Чем же? – затаив дыхание в предвкушении его ответа, спросил Глинкин.
– Мор великий будет, – с животным довольным урчанием ответил Невзор. – Велесу Чернобогу и Маре жертва достойная будет, перед концом мира и света белого пригодная. Смердеть будет воздух, отравлены реки, земля будет гнить от плоти людской.
– Как же это случится? Когда? – Глинкина охватил ужас. – А мы-то как же? Я, дети мои?! Неужто умрем?
– Уймись ты, – отмахнулся Невзор. – Умрут те, у кого золота не хватит, чтобы купить у тебя от мора смертного средство. Да ты еще и не всем продавать станешь, а только тем, на кого я тебе укажу. Нам в новый век много людишек тащить без надобности. Кто Шуйной дорогой идет, тот и спасется.
– А где же взять то средство?
– Во-от! Вот он, главный вопрос! И задал ты его потому, что давно тебе охота судьбой человечьей вертеть. Ведь давно не золото для тебя главное, так?
– Вообще-то, да, – признался Глинкин. – Деньги для меня – давно не главное.
– Потому мы и вместе, – засмеялся Невзор тем самым своим каркающим смехом. – Вставай да пошли в твою... как вы ее называете? Где ты снадобья делаешь, которые потом страдальцам втридорога продаешь.
– Я снадобья не делаю, мне это не к лицу, и я в этом ничего не понимаю, – признался Глинкин, – я лишь умею их продавать.
– Да-а, – протянул Невзор, – за двести лет, что я провел внутри дуба, всё тут переставилось с ног на голову. Кудесник и лекарь больше не в чести. Лавочник держит его на привязи, как собаку, и кидает кость, чтобы он не подох от голода, а тот возвращает лавочнику его подачку куском мяса.
– Основа любой экономики, – нашелся Глинкин, – сначала вложил грош, а взамен получил золотой.
– Вот и пора извести весь род людской под корень. – Левое полушарие мозга Глинкина заныло, что случалось всегда, когда Невзор раздражался. – Потому, что всё у вас неправильно. Вы все горбаты, как верблюды, а горбатого только могила распрямит.
Их разговор, традиционно представлявший собой немой обмен мыслями, происходил на территории одного из принадлежащих Глинкину фармацевтических заводов. Единый в двух лицах Глинкин-Невзор на внедорожнике без номеров подкатил к помещению исследовательского центра, который однажды был обещан Кваку в качестве тихой гавани и которым магнат очень гордился. Здесь работали неплохие специалисты, даже был кто-то из НИИСИ – того, старого, еще агабабовского, когда в жизни института наступил скверный период и люди увольнялись, отказываясь существовать на нищенскую зарплату. Выполняя распоряжения Невзора, Глинкин приказал собрать внутри экспериментальной лаборатории всех нужных ему людей. К лаборатории примыкал склад химических компонентов, таким образом всё, что понадобится для работы, было под рукой.
– Всем привет, – высокомерно поздоровался с персоналом барин Михаил Петрович, – необходимо, чтобы вы сделали для меня кое-что, в количестве... В количестве...
– В каком количестве? – спросил он у Невзора.
– Пусть для начала сделают на десять тысяч человек, – уклончиво ответил колдун. – Я буду тобой руководить, ты только ничего лишнего от себя не говори, а то вместо противоядия еще худший яд получится. Кощная отрава тогда у тебя выйдет. Кощный, смертельный яд.
– Почему «кощный», – с недоумением спросил магнат, – что означает это слово?
– Черный, злой, бога рогатого дар, – неохотно и не вполне определенно пояснил Невзор, и тогда все услышали от Глинкина:
– ...в количестве десяти тысяч разовых доз.
Послышались недоуменные вопросы: «Десять тысяч доз? Немало. Куда же столько? Да и что нужно вам, дорогой хозяин?»
– Встаньте все по своим местам, – скомандовал Глинкин, – проведем нечто вроде лабораторной в институте. Надеюсь, вы не забыли, что это такое? Представьте, что я не просто безмозглый мешок с деньгами, а мудрый преподаватель, стою у доски (он действительно стоял возле передвижной доски, на которой удобно писать фломастером, а потом быстро стирать) и записываю длинную формулу вещества, которое нам с вами необходимо получить. Итак, приступим!
Глинкин, к полному изумлению своих сотрудников, очень бодро принялся заполнять пространство доски обозначениями химических элементов, давая каждому своему действию полное, исчерпывающее объяснение. Сотрудники вначале недоуменно переглядывались, потом, уяснив, что это не розыгрыш, что, оказывается, хозяин-то, как минимум, талантливый фармацевт, разделились на рабочие группы и принялись создавать препарат по рецепту магната...
– Откуда ты знаешь таблицу Менделеева? – Глинкин был поражен невероятно обширными, серьезными и глубокими познаниями Невзора. Старинный выговор колдуна, ранее тяжело ложившийся на слух, теперь почти уступил место вполне современной лексике. Глинкин приметил это еще загодя и, не вытерпев, изрек: «Вы и говорить стали как-то по-нашему», – на что Невзор, в присущей ему нахальной и порой откровенно хамской манере заявил: «Вообще-то, я в твоих мозгах проживаю, мне много места не нужно, хе-хе, мысли твои все вокруг меня, а думаешь ты по-русски. Я страсть какой любопытный, да и не дурак, понимаю, что со своими заворотами выгляжу осколком третичной эпохи, так что, считай, я от тебя, как это ни странно звучит, кой-чему учусь. Хотя ты, говоря между нами, – хомо не больно сапиенс…»
Но если словесные преобразования колдуна еще как-то можно было объяснить, то настолько фундаментальное знание Невзором химии произвело на всех присутствовавших, включая самого Глинкина, колоссальное впечатление.
– Таблицу кого? Менделеева таблицу? – Невзор в голове у магната даже присвистнул от возмущения. – Вообще-то, она ему приснилась, а известна была еще за тысячи лет до этого! Да на этой таблице зиждется вся лекарственная магия, чтоб ты знал! К тому же открою тебе секрет: таблица, которой пользуетесь вы, ровно вполовину меньше той, что известна мне. Люди, люди... Ваш недостаток ума в совсем малом знании вашем. Рабочих измерений у вас только три, тогда как их на самом деле пять. Химических элементов вам известно всего-то, почитай, что ничего, а то, как вы «летаете» в своих ревущих ушатах – это же просто смешно! Для того чтобы летать, просто надо уметь выключать земное притяжение.
– Невероятно звучит, – признал Глинкин. – Хотя, если учесть, кому я всё это говорю...
– Вы считаете, что живете на Земле одни. Как кто-то из вас придумал: «Человек – это звучит гордо!» Это звучит, не спорю, но не гордо, а так, как звучит вода в сливном бачке унитаза. Ваш век короток, такова воля богов, вы не чувствуете и не понимаете Вечности. Вам кажется, что есть только «сейчас», а внимания к давним эпохам имеете немного, а верней, и не имеете его вовсе. А всё уже давным-давно было когда-то придумано теми, кто жил задолго до вас. Просто гибли миры их, как вскоре погибнет и ваш, и вместе с мирами гибли открытия. В Атлантиде мы вовсю ездили по рельсам, плавали по морю на кораблях без парусов и летали по воздуху в тысячи раз быстрей, чем самая быстрая птица, и всё это было для нас в порядке вещей.
– Где? В Атлантиде? Так она действительно существовала? – в полнейшем недоумении спросил Глинкин. – А я всегда думал, что это сказки...
– Я, по-твоему, сказка? – огрызнулся Невзор. – С какой стати мне лгать тебе? Я живу так долго, что давно понял – лжи не существует. Ложь – это фантазия, а любая фантазия происходит из чего-то настоящего, значит, и сама фантазия со временем становится реальностью.
– А как там было? В Атлантиде?
– Там по-разному было, – уклончиво ответил Невзор. – Жили рабы, их хозяева, воины, короли... Мы жили, – неопределенно выразился он.
– Кто – вы? – Глинкина охватило любопытство, а поскольку разговор их происходил без помощи слов, то со стороны было странно наблюдать за мимической игрой лица магната. Складывалось впечатление, что его одолел нервный тик. Но никто из сотрудников особенно не разглядывал оказавшегося гениальным химиком хозяина, все в лаборатории были заняты решением интереснейшей, написанной на доске задачи, работа и впрямь кипела. Любой лекарственный препарат – плод долгих поисков и ошибок, но чтобы вот так, с ходу, по готовой формуле, что называется «начисто», создать сложнейшую вакцину – это, как ни крути, было делом неслыханным.
– Ты уверен, что тебе нужно это знать? – с подозрением в голосе спросил Невзор. – За то долгое время, что я провел без тела, внутри дубового саркофага, мой характер сильно испортился, учти это. Не люблю я лишних вопросов от тех, кто не в силах понять и постичь ответ. Ну, скажу я тебе, что мы – души Черного и Белого Дозоров, Шуйного и Десного путей? Разве ты поймешь хоть что-то?
– Я постараюсь, – мужественно настоял Глинкин. – Я хочу знать, кто живет в моей голове, поскольку порой мне кажется, что это просто основной симптом шизофрении и я говорю с тем, кого на самом деле нет и быть не может.
– Как нет и шизофреников, кстати сказать! – воскликнул Невзор. – Видишь ли, шизофрении на самом деле не существует, и это совершенно серьезно.
– Как «не существует»? Эта болезнь стара, как мир, – не поверил колдуну Глинкин. – У меня прямо вот здесь, на этом заводе, производят лекарства для ее лечения.
– Дурень ты, да и все вы дурни. Слабаки... На самом деле то, что вы называете шизофренией – это способность видеть параллельные миры и слышать мысли живых существ. Основной симптом шизофрении, ты говоришь? Но это никакой не симптом. Это потрясающая некоторых до глубины души способность разговаривать с душами, ушедшими за Краду, в Навь. Шизофреник стоит по одну сторону Калинова моста, оставаясь в Яви, а по другую сторону, за мостом, находится душа умершего. Внизу, под мостом, шумят огненные воды Смородины-реки. Они, словно кипящая кровь... Поверь, что я видел всё это не один раз, и это действительно величественная картина. Земными красками ее не изобразить, словами не описать. Ты, быть может, еще увидишь ее, если тебе повезет и Мара не поволочет тебя за ноги. Помнишь, что я тебе говорил? А что касается так называемого «шизофреника», то на самом деле всё совершенно не так, как ты думаешь. Стоя по разные стороны моста, они беседуют друг с другом, чужая душа и человек, но, конечно, не все слова души доносятся до «шизофреника» из-за шума реки. Вот и кажется порой, что он мелет какую-то ерунду, а это вовсе не ерунда, просто он повторяет слова из фразы, которую никак не может расслышать целиком. Язык «сумасшедших» особенный, а вам, земным людям, он кажется просто несвязным бредом. Вовсе и нет! Это те же самые слова, но необычным образом переставленные, имеющие совсем другой смысл, нежели тот, что они носят у вас, в Яви. Вот что такое «шизофрения», истино тебе говорю. – Невзор хмыкнул. – Сейчас в это трудно поверить, а ведь я когда-то был таким же, как ты сейчас. Я был почти обыкновенным человеком, с одним только отличием: я умел говорить с богами и, поверь мне, я говорил с ними. Мой мир погиб из-за того, что говорящие с богами стали использовать этот дар неразумно. Для богов нет понятий «хорошо» и «плохо», боги создали этот мир. Мир, в котором есть нечто под названием «гармония», где примерно поровну того, что плохо для одних – хорошо для других, и наоборот. И те, кто умел говорить с богами, просили их о самых разных вещах. Например, сровнять горы с землей, или осушить море, или заставить звезды падать с неба на Землю. И всё это боги выполняли, ибо для них всякое деяние естественно и ни в какой цвет не окрашено: ни в белый, ни в черный. Если хочешь знать, а я должен сказать тебе это, потому что тебе предстоит жить в мире, которому еще только предстоит родиться, то богам нравится, когда люди их просят о чем-нибудь.
– Хотя это вовсе не означает, что их просьбы будут выполнены, не так ли? – заметил Глинкин.
– Смотря кто именно их просит, – сделал Невзор внушительную ремарку. – Кто и о чем. Если о своем, мелком и суетном, вроде мешка золота, который вы все так хотите отыскать, чтобы с его помощью предаться праздности и разврату, то такая просьба вряд ли когда-нибудь будет исполнена. Ну, если только она не является частью какого-то грандиозного божественного замысла. Вот, например, взять тебя. Тебе же не просто так позволили неправедно разбогатеть. Теперь ты понимаешь, почему тебя не нашли после того, как ты в семнадцать лет ограбил какую-то там товарную лавчонку, я уже и запамятовал, какую именно.
– Хозмаг, – смущенно пояснил Михаил Петрович. – Я не люблю об этом вспоминать.
– Но ведь забыть не получается? – засмеялся-закаркал Невзор. – Тем более что за то ограбление посадили в острог совершенно невиновного человека.
– Вот как? А я и не знал!
– А если бы и знал, то что? Пришел бы с повинной? Не лги самому себе. Да и не переживай сильно. Я же отнюдь не голос твоей совести, которую, замечу, находясь внутри тебя, я не больно-то видел. Какая-то она у тебя получается бесцветная, совесть твоя. Сомневаюсь, что она вообще в тебе квартирует. Может, мне всё это привиделось? Похоже, что вы с ней довольно давно уже расстались. Ладно... Ты не серчай. Просто мне нравится показывать их место людишкам, которые сильно задирают нос, думая, что весь мир у них в кармане.
– Мы совсем ушли от темы былого, – вежливо заметил Глинкин, которому весь этот разговор был неприятен потому, что всё в нем было сущей правдой.
– Да, лучше о том, что было много веков назад, когда эпоха людей шла на смену нашей эпохе. Многие из нас так преуспели в магии, что решили сразиться с богами и вступили с ними в битву. И день начала той самой битвы был днем начала конца Атлантиды. Против нас сражались легионы Навьих демонов, а их сущность куда сильнее человеческой породы, пусть даже речь идет о тех, кто подчинил себе всеобщую магию, и в особенности магию черную. Демоны не имеют тела, всей этой тяжелой, неповоротливой плоти, в этом их великое преимущество. Хотя порой без плоти неловко, – усмехнулся Невзор, – уж я-то знаю. Легионы Нави смяли нас и почти полностью истребили. Из семи племен Атлантиды в живых остались лишь два племени: монголы и арии. Я тогда был человеком из плоти и крови, белым арием, и перешел на большую землю с тонущего острова вместе с остатками народа Атлантиды. С берега новой для нас земли мы видели, как под воду ушел наш прежний мир, и многие рыдали, но не все. Были и такие, кто радовался своему спасению, а особенно тому, что многое еще впереди. Я был именно среди этих и не унывал совершенно. Зачем сожалеть о прошлом, которое прошло? Лучше жить настоящим и приближать будущее, стараясь влиять на него.
– Согласен, – Глинкин немного помедлил, словно решаясь на что-то, и наконец спросил: – Раз вы говорите, что тогда, невесть сколько времени тому назад, были белым арием, то еще раньше вы тоже кем-то «были»? Кто же вы такой?
– Снова ты лезешь куда не следует, – без прежнего раздражения, скорее с грустью посетовал Невзор. – Я не смогу тебе ответить на этот вопрос, ибо ответ на него лежит за гранью людского разума. Ты, чего доброго, и впрямь свихнешься, а это не входит в мои планы, меня твое тело вполне устраивает. А если ты впадешь в безумие, то здесь, помимо меня, начнут шастать все, кому не лень: духи, бесы, демоны и прочая мелочь, соседства с которой я не выношу. Они примитивные и грубые создания, только для убийства и годные, любят селиться в умалишенных целыми колониями. Но, чтобы хоть немного избавить тебя от мучительного любопытства, скажу, что ты не первый человек, в мозг которого я попал таким способом. Тот арий из Атлантиды был великим магом и колдуном, я прожил в его теле тысячи лет, настолько мне подошло всё, что было в нем, смертном. И я жил бы в нем и по сию пору, если бы не Вышата, будь он проклят.
– Это значит, что и во мне ты проживешь не меньше?
– Посмотрим, – уклончиво пробормотал Невзор, – на этот раз у нас всё должно получиться, и Черный Дозор уже в пути.
– Дозор? Что это значит?
– Проклятье! Я думаю, а ты меня слышишь! – взбесился Невзор, и у Глинкина сильно закружилась голова, он чуть не рухнул на глазах у всех прямо посреди лаборатории. – И ничего, к сожалению, с этим не поделаешь, – продолжал Невзор, – приходится терпеть неудобства, связанные с существованием в качестве паразита внутри чужой плоти, раз своей давным-давно нету. Ладно уж, так и быть, расскажу тебе о том, что было тогда, слушай. Мы скитались до тех пор, покуда не вышли на большую равнину, разделенную узким, очень глубоким ущельем, собрали Великое Вече и разделились на два лагеря: одни сели по левую сторону от ущелья, а другие – по правую сторону. Мы должны были населить новый мир, дать всему названия... И те, кто сидел по левую руку, славили Чернобога Рогатого Велеса и Мару – Богиню, жену его. Славили тех, кто владычествует в смерти, тех, которые забрали в Навь так много мятежных братьев наших. И я был среди таких и был ими избран предводителем. Мы говорили, что жизнь произрастает лишь из смерти, и настаивали, что в новом мире должны быть войны, болезни, разруха и поэтому нужна частая смерть – ведь смерть – это всегда обновление! Я был там, среди тех, кто чтит Мару и по сей день, Гой-Ма! О! Что это было за величайшее сборище! Я помню, что мы тогда пели. «Я истово желаю твоей смерти» – вот что это была за песня. Я бы тебе напел, да нынче я не в голосе, хе-хе. Мы решали, каким будет мир, какой быть эпохе, которая закончилась только с падением Египта. И закончилась, замечу, совсем не так, как того хотели мы, оставшиеся на левой стороне. А те, кто собрался по правую сторону, кричали, что жизнь людская и так коротка, что счастья человеку отпущено мало, да он часто его и не ведает, истинного-то счастья. Поэтому они предлагали то, что называли «мирным миром», где смерть если и наступает, то лишь от естественной старости, где все людишки живут по сто двадцать лет и больше. Спорили мы тогда весьма громко, и до такой степени, что все охрипли, да так никто ни с кем ни в чем и не согласился. Тогда вышел от правой стороны Вышата, а от левой стороны я. И начали мы друг с другом словесами куражиться, да только Вышата меня перехитрил. В руках у него был посох, он оторвал со своего посоха росший на нем зеленый лист и бросил его в ущелье: но не жертву Богам принес он, а возмутил повелителей Смерти, бросив им каплю земной жизни, ибо не ущелье то было, но врата в Иное Царство, или в Навь – обитель Кощного Бога, а мне... – Невзор как будто немного замешкался, минуту-две он молчал, видно, переживая в памяти что-то непостижимое. – Мой посох ты держал в руках. Он из мертвого дерева. Такое вырастает только в ноябре, в темных лесных чащобах, и сама Мара, лик Ее, идол Ее, из того дерева только и режется. И стоит он на капищах для поклона Пекельной Богине и жертвы кровавой в Ее честь. Я к тому это сказал, что на моем посохе ничего не растет и никогда не росло, ибо мертвое дерево на дает побегов. И тогда, когда я понял, что, кроме меня самого, у меня ничего нет, я решил принести в жертву Черным Богам самого себя, отказавшись от никчемной жизни собственной плоти. Я прыгнул с обрыва и полетел было вниз, но меня вытолкнуло наружу, обдав раскаленным воздухом. То было пламя Велесовой кузни! И явилась тогда сама Мара – Черная Богиня и воспарила над нами, сидящими по левую сторону. И лик Ее был грозен и ужасен для тех, кто сидел напротив нас. Мара им казалась воплощением Погибели: глаза Ее тогда были навыкате от ярости. На теле Ее проступали знаки тлена, и оно смердело, как труп, а одежды Ее были мокры от крови и гноя. В правой руке у нее были Велесовы вилы, обращенные зубцами вниз, а в левой руке своей она держала чару из черепа человечьего, наполненного кипящей кровью из Смородины-реки. Ее окружали бесчисленные бесы и демоны, привидения и упыри, и стая черных собак бежала за ней, лакая кровь Ее и гной. Под ногами Ее кишели змеи и разлагавшиеся тельца новорожденных младенцев, а земля гудела, и вырывались из Навьих врат языки темно-багрового, пекельного пламени. Вот что видели сидевшие по правую сторону, и ужасались увиденному, и впадали в безумие от ужаса своего!
– А что же вы? – затаив дыхание, задал мысленно свой вопрос магнат, явственно видящий ужасную картину описанных колдуном событий. – Что видели вы? Те, кто остался по левую сторону?
– Мы? А мы видели Мару иной... Она шла к нам в лучах самосиянного света мудрости своей, и одежда Ее сияла, подобно Солнцу, и Месяц был на челе Ее. Руки и грудь Ее были украшены драгоценностями и каменьями самоцветными, и в правой руке, в деснице своей, держала Она красный цветок, и серп был в левой руке Ее, шуйце. Он блистал лунным серебром. Серп Ее означал конец всему живому, был знаком срока, отмеренного всему сущему, он был порогом, отделявшим былое от грядущего, разделом был для тела мертвого и вечно живой души, знаком был начала пути в новый мир и знаком Времени Вечности. Понимая это, мы смотрели на Нее и видели, что нет предела Ее величию. И те, кто был справа, убоялись Мару-Мать и прокляли Ее так же, как проклинают люди всё, что недоступно их пониманию. Нам же, Ее верным слугам, она сказала так: «Когда рухнут своды небесные на землю и прольется дождь каменный, когда сделается земля от засухи железной, а реки и моря возгорятся огнем, когда на месте могучих гор появится пустыня, когда всякая жизнь завершится, то обернется свет белый кромешной тьмою. И тогда оборвет свои цепи супруг мой Чернобог Велес Рогатый, а Великий Волк, слуга его верный, что покой Чернобога до срока стережет, железными зубами своими загрызет белых волов, что воз Ярилы-Солнца волокут по небу. И будет так, что ось Всемирья надломится, и сойдутся тогда боги в последней смертельной битве. Помните о знамениях начала конца этого мира. Уйдет под воду остров, населенный теми, чьи глаза узки, так же, как до этого утонула и ваша земля Атлантида. И треснет черный Алатырь-камень, на котором мир доселе стоял, рухнет Дуб могучий, царь древ, и всплывет кверху брюхом великая Белая Рыба в холодной реке. Увидев то, придете ко мне, ибо я уже буду средь вас, и вы узнаете меня по звукам имени моего, по недугу тела моего, мною избавленного от страданий. Тела, коего прекрасней нет. Придете под груди мои полные и укроетесь от доли смертных. В волосах моих переждете беду. В устах моих сладких забудете обо всем. Сольетесь со мной, как и я с вами, когда весь мир вокруг станет костром погребальным, а тела ваши покрыты будут копотью. И тогда наступит век Кощный, время Велеса Рогатого и Мары. И узрите рассвет черной Луны, в чьем свете явлюсь к вам, и сольемся с вами в объятьях родовых, и буду я жить вечно и вечно править, ибо нет у меня и у смерти конца, а есть лишь начало, дарованное жизнью. Вам же завещаю я идти моим путем, куда укажу вам левым, шуйным перстом своим. И станете отныне радарями пути Шуйного, пути Мариного. За служение ваше дарую вам лишения и потери, которые учат ценить то, что невозможно утерять. Дарую вам болезни и недуги, что учат смотреть на жизнь дальше слабого тела вашего. Дарую вам саму смерть, что научит вас видеть бессмертие. Дары мои – для невежд – кара лютая, для вас же – благословение мое. Завет мой вам таков будет: не отвергайте мира, но и маете его не поддавайтесь, и тогда узрите истину в сердце вашем. Узрите, не поддавшись кривде и ослеплению спесью Бога небесного, который всегда побеждает в малом, но смерть, дар мой вам, он победить бессилен». Вот как сказала Она, та, что Владычествует в Смерти. И слово Ее каждый из нас сохранил в точности у себя в сердце. И так, воодушевившись, поворотили мы против тех, что встали против нас. Но тотчас отверзлись небеса, и к ним, светом Ирийским озарен, спустился с небес по белой лестнице из белоснежных облаков Сварог Изначальный, Белобог-Творитель. Спустился, приняв вид могучего старца. И задумали мы тогда биться за своих богов друг с другом, и с криками бросился брат на брата. Но лишь до края ущелья дошли, как до самого неба поднялась стена огня. С правой стороны пламя было багровым и темным, пекельным, что всякий свет пожирает, вбирая его в себя. И то было пламя Нави подземной, края, где Мара безвременно правит. И ужаснулись тогда все, кто готов был в бой за Сварога идти, а с нашей стороны пламя оказалось светлым, жарким и белым. И стало нам тогда понятно, что не время сейчас разделять целое, коли оно так друг в друга проросло, что в свете есть пекельное пламя, а в ночи есть свет. В том гармония в мире и состоит, понимаешь?
– Всё понимаю. – Перед глазами Глинкина ясно мелькали картины, что описывал ему Невзор. Михаил Петрович почувствовал, что от тела его самого почти уже ничего не осталось, ведь даже воображением его завладел колдун, поработил волю. «Пусть лучше так, – подумал магнат, – пусть жизнь тела без жизни души, и наоборот, но я хочу жить вечно, и эти условия меня не пугают».
– Ты быстро схватываешь, человечек. Еще бы! Ведь мы почти слились с тобой, – пояснил Невзор.
– От меня скоро совсем ничего не останется? – равнодушно поинтересовался Глинкин.
– Не переживай так. Я бы не смог заменить твою душу своей, ведь у меня, пожалуй, больше и нет души, – холодно заметил Невзор, – поэтому кое-что от тебя останется, но способность любить ближнего своего, которая у тебя в зачаточном состоянии всё же присутствует, исчезнет полностью. Это я к тому, что ты перестанешь постоянно вспоминать своих домочадцев и вздорную жену, которая блудом срамным, маханием любовным с одним из твоих слуг уже давным-давно грешит.
– Наплевать мне на это. Даже думать о том не стану. А что у вас было дальше?
– Дальше? А дальше решено было братоубийством не заниматься, а идти всякому своим путем и вести за собой вас, людей. Обычно те, кто идет впереди, называются Дозором. Шуйный путь, он для Десного кажется черным. Что ж, мы не против, если черный цвет – это наш цвет. Видишь ли, Сварожьим прихвостням достался белый цвет. Вот тогда мы и разделились на Черный и Белый Дозоры, и Черный Дозор пошел Шуйным путем, указанным Марой, чью волю храним, а Белый Дозор двинулся по Десному пути, указанному Сварогом. Черный Дозор служит Маре и Велесу, приближая кончину этого мира и великое обновление, без которого немыслимо всё новое на этой Земле, а Белый Дозор пытается спасти то, что хочет разрушить Дозор Черный... Внимание! К тебе проситель! – заметил Невзор заведующего лабораторией, завлаба, вежливо ожидающего своего хозяина неподалеку.
– Ну? – коротко спросил у завлаба Глинкин.