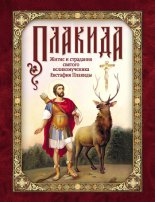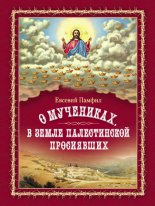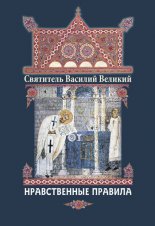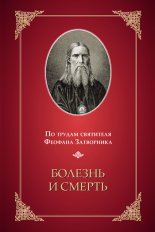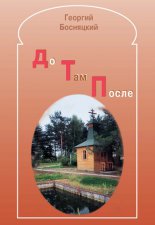Метафора в политической коммуникации Чудинов Анатолий

Читать бесплатно другие книги:
Судьба святого великомученика Евстафия удивительным образом повторяет судьбу другого праведника – ве...
Отец истории, епископ Кесарии Палестинской Евсевий Памфил жил в удивительное время. Современник равн...
«Нравственные правила» представляют собой подборку цитат из Священного Писания на определенную тему ...
Как христианину следует относиться к своему здоровью и к своей болезни, как принять страшный диагноз...
В книгу вошли произведения известных писателей России и начинающих авторов, победителей и лауреатов ...
Книгу избранных стихотворений «До. Там. После» известного поэта, члена Союза писателей России, лауре...