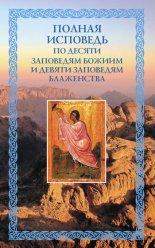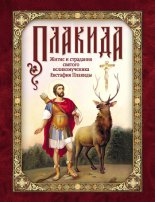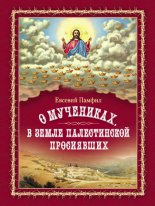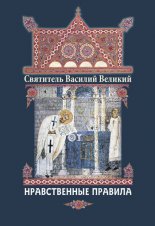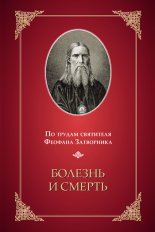Зарубежная политическая лингвистика Чудинов Анатолий

van Dijk T.A., Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press, 1983.
van Leeuwen T., Wodak R. Legitimizing Immigration Control: A Discourse-historical Analysis // Discourse Studies. 1999. Vol. 1(1).
Weiss G., Wodak R. Theory and Interdisciplinarity in Critical Discourse Analysis. An Introduction // Theory and Interdisciplinarity in Critical Discourse Analysis / G. Weiss and R. Wodak (eds). London: Palgrave/Macmillan, 2003.
Wodak R. Language behaviour in Therapy Groups. Los Angeles: University of California Press, 1986.
Wodak R. And Where is the Lebanon? A Socio-psycholinguistic Investigation of Comprehension and Intelligibility of News // Text. 1987.
Vol. 7(4).
Wodak R. Disorders in Discourse. London: Longman, 1996.
Wodak R. What CDA is About: A Summary of its History, Important Concepts and its Developments // Methods of Critical Discourse Analysis / R. Wodak, M. Meyer (eds). London: Sage, 2001.
Wodak R. Critical Discourse Analysis // Qualitative Research Practice / C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium, D. Silverman (eds). London: Sage,
2004a.
Wodak R. Discourses of Silence // Discourse and Silencing / L. Thies-meyer (ed.). Amsterdam: Benjamins, 2004b.
Wodak R. Sprache und Politik. Einige Grenzen diskursanalytischer Vorgangsweisen // Analecta homini universalidicata. Festschrift fur Oswald Panagl zum 65. Geburtstag / T. Krisch, T. Lindner and U. Muller (eds). Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz, 2004c. Band II.
Wodak R., Matouschek B. We are Dealing with People whose Origins one Can Clearly Tell Just by Looking: Critical Discourse Analysis and the Study of Neo-Racism in Contemporary Austria // Discourse & Society. 1993. Vol. 4(2).
Wodak R., Meyer M. (eds). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 2001.
Wodak R., van Dijk T.A. (eds). Racism at the Top. Klagenfurt: Drava, 2000.
Wodak R., Weiss G. Visions, Ideologies and Utopias in the Discursive Construction of European identities: Organizing, Representing and Legitimizing Europe // Communicating Ideologies: Language, Discourse and Social Practice / M. Putz, A. Neff, G. van Artselaer, T.A. van Dijk (eds). Frankfurt a. Main: Peter Lang, 2004.
Wodak R., de Cillia R., Reisigl M., Liebhart K. The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
Wodak R., Pelikan J., Nowak P., Gruber H., de Cillia R., Mitten R. Wir sind alle unschuldige Tater! Diskurshistorische Studien zum Nachkrieg-santisemitismus. Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1990.
Петр Друлак (Petr Drulak)
Петр Друлак получил образование в Пражском институте экономики, Антверпенском университете, Мичиганском университете и Флорентийском университете. Профессор Института политологических исследований и Института международных исследований Карлового университета, директор Пражского института международных отношений, главный редактор ежеквартального журнала «Mezinarodni vztahu» («Международные отношения»). Председатель редакционной коллегии журнала «Perspectives» («Перспективы»).
Сфера интересов – политический дискурс и теория международных отношений. Публикации: Drulak P. Theory of International Relations. Praha: Portal, 2003. Drulak P. (ed.). National and European Identities in EU Enlargement. Praha: Institute of International Relations, 2001. Drulak P. Metaphors and Creativity in International Politics. Research Cluster «Discourse, Politics, Identity», Working Paper No. 3/2005. Lancaster: Institute for Advanced Studies at Lancaster University, 2005. Drulak P. Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15. Drulak P., Drulak R. (ed.). Creating and Analyzing International Politics. Praha: University of Economics, 2000.
Представленная ниже статья специально подготовлена П. Друлаком для русскоязычных читателей.
Метафора как мост между рациональным и художественным (перевод О.А. Ворожцовой)
В западном обществе традиционно проводится четкая граница между рациональным познанием мира и его художественным переживанием. В то время как первое относится исключительно к царству науки, второе проявляется в искусстве. Традиционно точки зрения ученых рассматривались не только как несовместимые с взглядами представителей искусства, но и всегда ставились на первое место и расценивались как единственный источник значимой информации о мире. В отличие от науки искусству в лучшем случае отдавалось должное за способность проникать в суть вещей, но в тоже время оно постоянно критиковались за то, что сбивает с верного пути и наносит вред истинному знанию.
Показательны в этом отношении труды Платона и Аристотеля. Платон критически относился к художественным достижениям своего времени. Он рассматривал их как очень несовершенные попытки копирования чувственной реальности, которая сама является всего лишь плохой копией истинной реальности вещей. По Платону, истинная реальность доступна только на основе рационального абстрагирования, которое дает универсальную истину. С другой стороны, ничто не является настолько далеким от истины, как копия копии, созданная художниками [Plato 595–608]. Этот платонический идеал познания, основанного на рациональном абстрагировании, направленном на универсальное объективное знание, которое несовместимо с особенностями и чувственностью художественного переживания, является еще одним из мифов современной науки и рациональности.
Даже несмотря на то что Аристотель относился к искусству более благосклонно, чем Платон, его подход к художественному остался ограниченным. С одной стороны, он высоко ценил художественное озарение, заявляя, что поэзия ближе к истинному пониманию, чем история (Aristotle). С другой стороны, Аристотель предупреждал против загрязнения рационального познания поэзией, с ее чувствами и образным языком. В этом отношении он развил идею Платона о рациональном познании. Платоническая наука, которая может открыть вневременные причинные законы вселенной, стала оказывать наиболее сильное влияние с началом развития естественных наук в XVII веке. В дальнейшем убеждение в существовании объективного знания о мире распространилось и на социальные науки. Это убеждение отдавало предпочтение объективной точке зрения на общественные науки, сформулированной на основе естественных наук, по сравнению с субъективной точкой зрения гуманитарных наук, углубляя таким образом пропасть между рациональным и художественным.
Тем не менее именно успех естественных наук привел к серьезным сомнениям в возможности существования неизменного знания универсальных законов. Сначала теория относительности Эйнштейна показала, что считавшееся солидным научным знанием в любое время может быть поставлено с ног на голову. Но, что важнее, квантовая теория лишила науку уверенности, которая раньше ассоциировалась с научным знанием, таким образом, привнося концептуальные скрытые смыслы, которые противоречат тому, что обычно считается нормальным или рациональным.
Современная философия науки отреагировала на это и повернулась от платонического варианта определенного вневременного знания к признанию того, что знание обременено временем и социальными условиями. Карл Поппер (1959–2002), ярый критик платонического идеала общества, начал этот поворот, отрицая идею подтверждения гибких универсальных законов и замещая ее идей опровержения гибких гипотез, подтвержденных доказательствами, которые, скорее всего, когда-то будут опровергнуты. С этой точки зрения наука больше не может изрекать вечные истины, она может лишь давать более или менее обоснованные гипотезы об устройстве мира. Последователи Поппера сделали притязания науки на объективность еще более относительными, указав на социальную роль сообщества ученых в определении того, что является истинным, а что – нет, показав, что объективного знания, которым можно абсолютно объективно проверять теории, нет как такового, так как знания всегда зависят от теории [Kuhn 1962, 1993; Lakatos, Musgrave 1970].
Тем не менее среди последователей К. Поппера был Пол Фейерабенд, пришедший к наиболее радикальным выводам. Он утверждал, что научная практика не должна быть ограничена традиционными методологическими объектами, которые основаны на объективистских идеалах, не способных стимулировать плодотворные исследования [Feyerabend 1993/1975]. В этой связи Фейерабенд [2004] также оспорил традиционное деление на науку и искусство, указывая, что фактически они тесно связаны. Он показал, что и наука, и искусство подвергаются трактовке набором несоразмерных подходов, например, романский / готический стили в искусстве или физика Аристотеля / физика Галилея в науке, которые создают свои собственные относительные реальности, различия между которыми нельзя охватить понятиями прогресса, подтверждения или истинности.
Таким образом, П. Фейерабенд отрицает традиционное превосходство платонического абстрактного знания над художественным переживанием частного. Он говорит, что поэзия размышляла над индивидуальной идентичностью и общественными законами задолго до психологии и социологии, которые, как он считает, все еще во многом отстают от поэзии. Похожим образом он показывает, что законы формальной логики были введены классической традицией. Вместо традиционного доминирования абстрактного знания П. Фейерабенд предлагает множество стилей как универсальных, так и частных, полезное знание из которых должно извлекаться демократическим выбором, а не диктатурой абстрактно-рационалистических догм.
П. Фейерабенд проницательно критикует самопровозглашенную объективность и истинность абстрактного рационализма, приходя к выводу, что наука и искусство в действительности не очень отличаются друг от друга. Тем не менее он не предлагает никакого механизма, который бы сделал возможным диалог между этими спорно близкими способами освоения мира. Более того, тот факт, что он настаивает на несоразмерности различных научных и художественных стилей, может привести к выводу, что подобный диалог вообще невозможен, так как каждый стиль ограничен своей реальностью со своим собственным языком. Это ставит под сомнение саму возможность демократического выбора полезного знания, предложенную П. Фейерабендом, так как никакие дебаты не могут состояться между самодостаточными стилями, что должно бы подготовить почву для такого выбора.
Рассмотрев мысли П. Фейерабенда о том, что наука и искусство близки друг к другу, а также его доводы об особенностях различных стилей, мы пришли к выводу, что можно найти общее основание, на базе которого различные стили сходятся и могут быть сравнены. Это общее основание – метафоры, без которых не может обойтись ни один стиль. В то время как значение метафоры в искусстве неоспоримо, ее распространение на рациональное познание, возможно, не настолько очевидно. Отсюда следует, что необходимо краткое обсуждение роли метафоры в науке и, шире, самой теории метафоры.
Метафору традиционно рассматривают как «прием осмысления чего-либо в терминах чего-либо еще» [Burke 1945; 503 цит. по Cameron 1999a: 13]. Она связывает два различных явления, выявляя их сходства и идентичность. Дж. Лакофф и М. Джонсон [1980], чья теория метафоры взята за основу в данном исследовании, трактуют метафору и как фигуру речи, и как фигуру мысли. В их понимании метафоры объединяют две концептуальные сферы – сферу-источник и сферу-мишень, делая возможным осмысление сферы-мишени в терминах сферы-источника. Другими словами, то, что мы знаем о сфере-источнике, также относится и к сфере-мишени, так как метафора устанавливает формальную идентичность между ними, заявляя, что «А – это В». Это определение метафоры также включает в себя аналоговое мышление.
Удивительно высока степень зависимости от метафор глубоко математических теорий естественной науки. Их история полна примеров, когда неожиданные метафоры значительно углубили наши знания о мире и стали частью традиционного образа мыслей [Duhem 1974; цит. по Bourdieu et al. 1991: 194–195]. Например, рассматривая СВЕТ как ЗВУК Х. Гюйгенс создал теорию световых волн, что сделало анализ света более доступным для понимания. Рассматривая ЭЛЕКТРИЧЕСТВО как ТЕПЛО Ом смог приложить детально разработанное знание о последнем для изучения нетронутой области первого. На практике эти метафоры едва заметны, так как научная процедура состоит в использовании набора уравнений, разработанных для анализа сферы-источника (звук, тепло), для анализа сферы-мишени (свет, электричество).
Эта процедура своей кажущейся нейтральностью и объективностью заставляет нас забывать, что сама правомерность перенесения лежит в определенной метафоре. Метафоры не только предлагают новые идеи, которые вводятся в теории, иллюстрируя, таким образом, мощнейший механизм ars inveniendi [Bourdieu et al. 1991: 5], но и предоставляют материал для логических построений теорий, а также дают объяснения. Таким образом, эти «научные метафоры» [Bourdieu et al. 1991: 55] – сердце теорий, их суть, «без которой теории были бы абсолютно бесполезны и не заслуживали бы своего гордого имени» [Campbell 1967; цит. по Bourdieu et al. 1991: 196].
Что истинно в абстрактном мире естествознания, еще более истинно в области социальных наук. Базовые концепты, используемые в рациональном познании общества, неизбежно метафоричны [Lambourn 2001]. Даже сами концепты государство и общество, как правило, метафорически представляются как ЛЮДИ, которые принимают решения, обладают органами, вступают в отношения, переносят болезни, имеют свое настроение. По сравнению с другими, метафор общества намного больше, общество часто рассматривается как ОБЪЕКТ, движимый силами, основанными на физических законах, как СЕМЬЯ или как БОКСЕРСКИЙ ПОЕДИНОК.
Важно, что едва ли какое-либо определение такого запутанного концепта как общество может обойтись без метафорической связи с менее запутанным и более знакомым единством. В этой связи, П. Де Ман (1978/ 1984) удачно указывает на неизбежность метафорического языка, продемонстрировав, что Дж. Локк, несмотря на его низкую оценку образного языка, сам зависит от метафор. П. Де Ман также показывает неотъемлемую и непризнанную роль метафор в работах К. Кондильяка и И. Канта. Аналогично Платон, несмотря на его резкую критику образного языка поэтов сам использует метафору, вводя образ пещеры, для того чтобы выразить одну из своих важнейших идей [Lakoff, Johnson 1980].
Над повсеместностью метафоры и в рационалистском, и в поэтическом дискурсе размышляют многие ученые [Ricoeur 1975; Lakoff, Johnson 1980]. В этой связи особенно важна революционная работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Они не только рассматривают метафору как центральное явление нашего мышления и поведения, но также предлагают когнитивный метод образной рациональности [Lakoff, Johnson 1980: 210]. Предполагается, что этот метод разрешит противоречия между тем, что они называют объективизмом и субъективизмом. В то время как объективизм относится к научному рациональному познанию, которое доминирует в западном мышлении, субъективизм представляет индивидуальный опыт, состоящий из чувств, эмоций и воображения, которым романтизм уделяет особое внимание и которые чаще всего представлены в искусстве [Lakoff, Johnson 1980: 202–206].
Дж. Лакофф и М. Джонсон говорят, что образно-рациональный метод, основанный на метафоре, может связать сущностные свойства и некоторые радикальные требования объективизма и субъективизма. С субъективистской точки зрения метафоры отражают субъективное эмоциональное переживание мира, чем дают беспристрастное отражение, они часто являются средством индивидуального воображения, связывая отдельные концепты неожиданным образом. С точки зрения объективизма, чтобы быть понятыми, метафоры и язык в целом должны быть связаны с общественным опытом, который социален и, таким образом, в некоторой степени объективен, хотя это и не абсолютно универсальная объективность, а объективность, связанная с определенным культурным целым.
Более того, конкретные метафоры могут быть рациональным путем выведены из более абстрактных концептуальных связей. Например, из абстрактной метафоры ОБЩЕСТВО – это ЧЕЛОВЕК можно вывести следующие (перечислим лишь несколько) метафоры: «Европа больна», «Россия чувствует себя униженной» или «Польшу подвели». Подведем итоги. Несмотря на то что метафоры могут быть субъективны и эмоциональны, они являются частью квазиобъективного общественного опыта и могут быть рационально выведены из высоко абстрактных моделей.
Таким образом, образная рациональность метафор представляет идеальную общую основу для сведения воедино рационального познания и художественного переживания. В настоящее время метафоры обычно рассматриваются либо применительно к науке [Lakoff, Nunez 2000], либо применительно к искусству [Lakoff, Turner 1989]. Тем не менее редко рассматриваются метафоры и научных текстов, и художественных работ с целью изучения того, как эти два способа нашего познания мира могут быть соединены в рамках одного метода. Именно такая попытка предпринимается в данной работе. Во-первых, работа показывает, что научное осмысление европейской интеграции основано по большому счету на трех абстрактных концептуальных метафорах. На следующем этапе эти метафоры сравниваются с метафорическими образами на плакатах об европейской идентичности, выполненных студентами, изучающими прикладное искусство. Во-вторых, в работе анализируются метафоры войны в работах Э. Юнгера в сравнении с современными исследованиями по войне.
Европейскую интеграцию, которая в настоящее время ассоциируется с ЕС, изучают с разнообразных точек зрения [Rosamond 2000]. Неизбежно каждый из ракурсов рассмотрения основывается на абстрактных метафорах, которые определяют институциональные основания ЕС. Удивительно, но, несмотря на разнообразие, большинство теорий европейской интеграции можно представить лишь тремя метафорами: ЕС – это КОНТЕЙНЕР, ЕС – это РАВНОВЕСИЕ КОНТЕЙНЕРОВ, ЕС – это ДВИЖЕНИЕ [Drulak 2004]. Каждая из этих трех метафор представляет устоявшееся течение в осмыслении ЕС.
Метафора КОНТЕЙНЕРА подразумевает, что ЕС как единство – это зафиксированное целое, которое функционирует как государство. Это предполагает фундаментальную схожесть или даже идентичность между внутренним порядком одного государства и внутренним порядком ЕС. В этом случае говорят о «европейском доме» или «европейской независимости». Несколько школ осмысления ЕС основываются на метафоре КОНТЕЙНЕРА. Федералисты утверждают, что в целях предотвращения еще одной войны и достижения высоких результатов экономического и технологического развития Европа стремится стать европейским государством, которое заменит существующую межгосударственную систему [e.g. Burgess 1989; Rosamond 2000: 20–31]. Похожая точка зрения предлагается в сравнительной политике, согласно которой политика ЕС развилась в систему, которая скорее сравнима с внутренней политикой демократического государства, чем с системой международных отношений, следовательно, более продуктивно изучать ЕС посредством теорий и концептов сравнительной политики, чем с точки зрения международных отношений [Hix 1994, 1996]. Наконец, европейский конституционализм полагает, что система законов ЕС ближе к системе законов федерального государства, чем к международному законодательству.
Метафора РАВНОВЕСИЯ КОНТЕЙНЕРОВ дает нам понять, что ЕС – это взаимодействие между зафиксированными целыми, которые постоянно ищут взаимные компромиссы. Это привлекает традиционную метафору – баланса силы, которая формирует международное сознание с XVI века [Sheehan 1996]. В этой связи говорят о «балансе силы» или «соревнующихся национальных интересах» внутри ЕС. В настоящее время метафора РАВНОВЕСИЯ лучше всего выражена в работах Андрю Моравшика, представителя течения либерального международного правления [Moravcsik 1998]. Можно поспорить с тем, что в основных понятиях этого течения легко обнаруживаются ключевые концепты мышления, связанные с метафорой «баланса силы». Вместе с тем эта метафора подчеркивает приобретенную мудрость европейских дипломатов, которые рассматривают ЕС как арену для борьбы соревнующихся национальных интересов.
Метафора ДВИЖЕНИЯ не предполагает наличия зафиксированных постоянных деятелей. ЕС в этом случае понимается текучим, его главной чертой является постоянное изменение. Таким образом, часто говорят о «постоянном заключении договоров» или о «торможении поезда». Эта идея лежит в основе неофункционального подхода [e.g. Haas 1958; Schmitter 1996], который концентрирует внимание на процессе интеграции, а не на его результатах. Несмотря на то что неофункционализм больше не является доминирующим течением в осмыслении Европы, некоторые современные влиятельные теории основаны на наследии неофункционализма. Подходы в рамках течения европейского правительства [Christiansen 1997; Jachtenfuchs 1997; Joergenssen 1997; Joerges 2002; Kelstrup 1998; Marks, Hooghe, Blank 1996] концептуализируют ЕС как ДВИЖЕНИЕ, говоря либо о форме децентрализованного самоанализирующего правления, либо о процессе европейской конституции. Институциалистские подходы также внедряют метафору ДВИЖЕНИЯ [Armstrong, Bulmer 1998; Checkel 1999; Pierson 1998]: исторический институциализм пытается предложить «скорее движущуюся картинку, чем фотографию» процесса интеграции [Pierson 1998: 30], социологический институциализм изучает когнитивные и нормативные изменения [Checkel 1999]. И наконец, конструктивисты основываются на предположении, что «социальные сущности по своей природе подвержены изменениям» [Christiansen et al. 1999: 538] и, таким образом, признают «трансформационный аспект» неофункционализма.
Даже несмотря на то что метафоры КОНТЕЙНЕРА, РАВНОВЕСИЯ и ДВИЖЕНИЯ были рассмотрены на примере теорий европейской интеграции, они с таким же успехом относятся к художественному осмыслению Европы. Хорошим примером художественного осмысления Европы является недавняя выставка плакатов на тему европейской идентичности [Drulak 2006]. Выставка, организованная Чешским Советом по международным отношениям весной 2006 года, проделала путь из Праги в Варшаву и Брюссель и собрала около 170 плакатов молодых художников из 8 стран ЕС.
Каждый плакат пытался показать европейскую идентичность наиболее убедительным образом. Интересно, что большинство плакатов можно понять через три описанные выше метафоры.
Большая часть плакатов основана на метафоре КОНТЕЙНЕРА. Европейская идентичность изображается как кувшин, фигура человека, отпечаток человеческого тела (обычно отпечаток пальца или стопы), разноцветный клубок или дерево, вершина которого представляет собой карту Европы. Именно посредством различных видов карт Европа представлена как единое целое, имеющее одну форму и один цвет, то есть то, что чаще всего выражает метафора КОНТЕЙНЕРА. С другой стороны, о хрупкости европейской конструкции говорит изображение Европы как песчаного замка.
Все же хрупкость чаще ассоциируется с метафорой РАВНОВЕСИЯ. На самом деле многие плакаты, относящиеся к этой метафоре, изображают Европу действительно хрупкой: стопка тарелок, стаканов, карточный домик. Эта метафора также реализуется посредством отпечатков пальцев и стоп. То есть в то время как метафора КОНТЕЙНЕРА подчеркивает, что это один отпечаток, метафора РАВНОВЕСИЯ приводит несколько отпечатков, количество которых часто соответствует количеству членов ЕС. Похожим образом метафора РАВНОВЕСИЯ выражается посредством карты, но в отличие от карт, используемых в метафоре КОНТЕЙНЕРА, эти плакаты показывают разнообразие цвета и форм карт, представляя таким образом членов ЕС. РАВНОВЕСИЕ также может быть выражено семантически; когда знаки различных знаковых систем составляют надписи, относящиеся к Европе и европейской идентичности, как в случае с победившим плакатом с надписью «evf0pean identity», где различные части Европы символически представлены знаками различных алфавитов, а их равновесие представлено четким значением надписи «европейская идентичность».
Даже несмотря на то что метафору ДВИЖЕНИЯ нелегко запечатлеть на статичной картинке, некоторые плакаты преуспели в этом. Движение было представлено пружиной, надписью «Европа» на отъезжающей машине, руками, указывающими в определенном направлении, или пальцами, сходящимися в одну точку вдали. Движение также может быть выражено контрастирующими политическими и культурными символами. Так, один плакат показывает, как оливковая ветвь изменяется в свастику, которая затем превращается в серп и молот и в конце концов преобразуется в золотые звезды Европы. Похожим образом другой плакат показывает, как символы ЕС разъедают и уничтожают коммунистические символы.
Но все же ряд плакатов не подпадает ни под одну из этих трех метафор. В этом отношении они обогащают наше понимание, приводя альтернативные метафоры, которые среди прочего проводят ассоциативные связи между ЕС и ПОТРЕБЛЕНИЕМ, ОТНОШЕНИЯМИ С ТУРЦИЕЙ или ПУСТОТОЙ. Плакаты, относящиеся к ПОТРЕБЛЕНИЮ, по большей части играют со словом «Европа», представляя его как логотип Coca Cola, или помещая его на вывеску рядом с китайским рестораном, или составляя его из букв логотипов модных продуктов. Отношения с Турцией обычно выражаются посредством игры между европейскими звездами и турецким полумесяцем. И в заключение идея пустоты выражается через изображение людей с закрытыми лицами или без лица.
Война – это один из ключевых вопросов, который изучается в рамках дисциплины «Международные отношения». В действительности этот предмет традиционно определяется как изучение войны и мира между государствами. Следовательно, недостатка в теоретическом осмыслении войны в литературе нет. Большая часть этого рационального познания войны концентрируется на возможных причинах, пытаясь ответить на вопрос, почему начинаются войны. Сделав обзор современной литературы [Diehl 2005], мы пришли к выводу, что большая часть этих объяснений может быть представлена одной из следующих пяти метафор войны: ВОЙНА – это ИГРА, УРОЖАЙ, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, КЛЕЙ, ЗАКОН.
Метафора ИГРЫ объясняет войну как намеренное столкновение государств, которые ведут себя как рациональные субъекты. Каждый из них точно определился со своей ставкой в конфликте и старается увеличить ее за счет других. Эта очень влиятельная точка зрения типична для реалистической традиции международного мышления от Фукидида до К. фон Клаузевица и К. Волца [Waltz 1979]. Эти теории концентрируют внимание на стратегическом взаимодействии между государствами, которое часто моделируется посредством математической теории игры [Fearon 2005], еще больше основывающей войну на рациональности.
Метафора УРОЖАЯ представляет войну источником материальной наживы отдельных людей или правящих групп. В отличие от предыдущей метафоры, эта метафора не обращается к взаимодействию с другими, они концентрируется на материальной выгоде. С этой точки зрения государства вступают в войну, так как ожидают от нее выгоды [Bueno de Mesquita 2005]. Похожим образом элита может стратегически выстроить союзы, которые бы провоцировали войны, которые приносят им материальную выгоду [Fearon, Laitin 2005].
Очень противоречивая группа основана на метафоре НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, согласно которой войны – результат случайных неудач и непонимания. Таким образом, богатая литература по ошибкам восприятия показывает неспособность тех, кто принимает решения, правильно оценивать угрозы и возможности, что впоследствии ошибочно приводит их к войне. Такие ошибки восприятия возникают из-за психологических факторов, институциональных факторов или нехватки информации. Кроме того, несчастные случаи могут происходить из-за такого институционального устройства, которое склонно к совершению таких ошибок как на внутреннем уровне, как, например, неуклюжие стандартные официальные процедуры, которые порождают бюрократическую инертность, что также отметили студенты [Allison 2005], так и на международном уровне, например, секретная дипломатия, которую идеалисты обвиняют в развязывании Первой мировой войны.
Согласно метафоре СКЛЕИВАНИЯ, войны усиливают международные связи воюющих сторон. Дж. Леви говорит о «гипотезе козла отпущения», которая лежит в основе «отвлекающих внимание» теорий войны [Levy 2005b]. Мотивы для того, чтобы найти «козла отпущения», противоречивы и разнообразны. Марксисты находят эти мотивы в экономической эксплуатации, социологи говорят о предотвращении внутренних политических конфликтов, культурные антропологи рассуждают о стремлении к культурной однородности.
В заключение, метафора ЗАКОНА подразумевает, что война – неизбежная часть человеческого существования. Это может быть либо закон природы, согласно которому люди сражаются за природные ресурсы [Homer-Dixon 2005], такие как еда, вода, стратегические ресурсы, либо закон культуры, согласно которому культурные нормы делают ожесточенный конфликт неизбежным. Культурологи расходятся по вопросу об онтологическом статусе культурных норм. В то время как некоторые приписывают им ту же объективность, которой обладают законы природы, конструктивисты указывают на то, что эти нормы состоят из дискурсов, а следовательно, нормы изменчивы [Fearon, Laitin 2005]. Тем не менее сторонники обоих подходов сходятся во мнении, что культурные нормы оказывают решающее влияние на личности и могут привести к войнам.
Несмотря на то что количество попыток рационального познания войны велико, еще более многочисленны попытки ее художественного осмысления. Война становилась сюжетом эпосов, стихов, романов, симфоний и живописных полотен с незапамятных времен, собирая таким образом сокровищницу военных метафор. Обзор этих метафор не уместится и в целой книге, не говоря уже об этом кратком эссе. Таким образом, мы концентрируем внимание только на одном авторе, чье литературное изучение войны очень значимо.
Эрнст Юнгер – один из величайших немецких писателей XX века. Он пережил Первую мировую войну солдатом и размышления о своем опыте выразил в ряде известных книг. Э. Юнгер не пытался изучать причины войны рациональными методами. Вместо этого он стремился донести до читателей то, что ему пришлось пережить на войне. Несмотря на это, его метафоры войны, по существу, такие же, как и описанные выше, но он развил их в таких направлениях, которые довольно неожиданны с рационалисткой точки зрения. Недавнее исследование выделило группу абстрактных метафор, на которых основано его повествование о войне [Verboven 2003]. Э. Юнгер метафорически представлял войну как ПРИРОДУ, СПЕКТАКЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСФОРМАЦИЮ, СВЯЗЬ и ИГРУ.
Метафора ПРИРОДЫ внедряет в повествование, описывающее войну, слова, обозначающие природные явления, такие как природные условия (дождь, гроза, ветер), движение воды (течет, волны), катастрофы (землетрясения, извержение вулкана, ураган). Это метафора соответствует теоретической метафоре ЗАКОНА, точнее, ЗАКОНА ПРИРОДЫ. Обе подразумевают одинаковую безразличную и неизбежную природу войны.
Метафора СПЕКТАКЛЯ представляет войну как концерт или драму, которая ставится в театре. Таким образом Э. Юнгер говорит о мелодии войны, танце огня; пейзаж описывается как сцена, которая занята актерами, играющими роли солдат. Авторы, композиторы и режиссеры спектакля невидимы, они vis major (Бог, император, судьба), они не подвластны ни одному участнику спектакля. Снова пробуждается идея неизбежности, но в этот раз она скорее культурная, чем природная. Следовательно, метафора ЗАКОНА опять применима здесь, но теперь это ЗАКОН КУЛЬТУРЫ.
Метафора ПРОИЗВОДСТВА выражается в словах, обозначающих экономические процессы, промышленные и сельскохозяйственные реалии. Таким образом, битвы представлены как железоделательные заводы, шлемы растут из вспаханной огнем земли, военные операции стоят много крови. Эта метафора в значительной степени пересекается с описанной выше метафорой УРОЖАЯ, так как обе представляют войну как процесс, который создает добавленную стоимость.
Метафора ТРАНСФОРМАЦИИ указывает на коренные изменения солдат, материала и пейзажа, особенно солдат, которые превращаются в отравленных зверей, одичавших от войны. Солдаты описываются как пчелы, влетающие в улей, как варвары, которыми управляют только инстинкты и которые теряют над собой контроль вместе со здравым смыслом. В некоторой степени эта метафора пересекается с теоретической метафорой СКЛЕИВАНИЯ. В обеих метафорах человеческая индивидуальность утрачена, она растворяется в массе, которой можно манипулировать. Таким образом, формируется нечто новое – «новая раса» борцов.
Метафора СВЯЗИ концептуализирует войну как обмен информацией. Таким образом, перестрелки сравниваются со спором, а солдаты посылают врагу железные приветы. Метафора СВЯЗИ хорошо входит в описанную выше метафору ИГРЫ, так как она связана с подачей сигналов, что является частью игры.
Метафора ИГРЫ связывает войну с играми и спортом, в которые играют и которыми занимаются солдаты. Солдаты либо играют в какую-либо неопределенную игру, где есть враг, либо они испытывают удачу, играя в кости, либо жонглируют. Существует очевидная связь между этой метафорой и теоретической метафорой ИГРЫ, даже несмотря на то что последняя в некотором роде уже, так как она говорит только о стратегическом взаимодействии между рациональными актерами.
С незапамятных времен в западной культуре царит противоречие между разумом и чувствами, наукой и искусствами, объективным и субъективным. Даже несмотря на то что каждый полюс этих дихотомий представил нам важные знания как о природе, так и об обществе, что запечатлено в великих произведениях искусства и научных работах, полюса этих дихотомий традиционно рассматриваются как непримиримые и несоразмерные.
Изучив недавние достижения научной теории познания, мы считаем, что это не совсем так. Ни научный дискурс, ни художественный опыт не могут обойтись без метафор. Более того, как показывает наше исследование европейской интеграции и войны, одни и те же метафоры лежат в основе обоих видов мышления. Метафоры, полученные из теоретического осмысления Европы и войны, можно использовать для понимания художественного осмысления Европы и войны. Так же как и наоборот. Метафоры, лежащие в основе художественных работ о войне и Европе, могут обогатить наше теоретическое понимание этих явлений.
Существуют, по крайней мере, два способа, которыми художественные метафоры могут внести вклад в рациональное познание. Во-первых, они часто показывают нам неожиданные скрытые смыслы метафор, которые до этого были установлены теоретически. Например, художественное переживание намного успешнее выражает идею хрупкости Европы, понимаемой как РАВНОВЕСИЕ, по сравнению с рационалистским развитием этой метафоры. Таким же образом художественное переживание войны как игры напоминает нам, что концепт игры намного шире, чем просто стратегическое взаимодействие рациональных актеров, на которое ссылаются большинство рационалистических пользователей метафоры ИГРЫ.
Во-вторых, художественные метафоры позволяют выражать идеи, которые еще не вошли в рационалистическое мышление. Так, легко всплывающее в памяти представление об ЕС как о ПУСТОТЕ еще не подвергнуто тщательному теоретическому анализу. Мы еще мало знаем о рациональном изучении представления о ЕС как об ограниченном пространстве, об отношениях ЕС с «чужими», например, с Турцией. В то же время художественному переживанию войны, ее психологическому и социальному воздействию на людей не хватает рациональной проработанности.
Подведем итоги: возможно, есть веские причины сохранить рационалистские и художественные работы как два различных способа освоения мира. Тем не менее нет причин рассматривать их абсолютно несоразмерными, неспособными на диалог. Наоборот, примеры по европейской интеграции и по войне подтверждают, что такой диалог возможен, что обогащает при этом оба способа освоения мира.
Allison G. Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis // War /
Diehl P. F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005.
Aristotle. Poetics. Praha: Svoboda, Czech translation.
Bueno de Mesquita B. An Expected Utility Theory of International Conflict // War / Diehl P. F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005.
Bourdieu P., Chamboredon J. – C., Passeron J. – C. The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991.
Burgess M. Federalism and European Union: Political Ideas, Influences and Strategies in the European Community, 1972–1987. London: Routledge, 1989.
Cameron L. Operationalising «metaphor» for applied linguistic research // Researching and Applying Metaphor / Cameron L., Low G. (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Campbell N.R. Foundations of Science: The Philosophy of Theory and Experiment. New York: Dover Publications, 1967.
Checkel J.T. Social construction and integration // Journal of European Public Policy. 1999. Vol. 6(4), special issue.
Christiansen T. Reconstructing European Space: From Territorial Politics to Multilevel Governance // Reflective Approaches to European Governance / Joergenssen K.E. (ed.). London: MACMILLAN, 1997.
De Man P. The Epistemology of Metaphor // Language and Politics / Shapiro M. J. (ed.). Oxford: Basil Blackwell, 1978/1984.
Diehl P.F. (ed.). War, Vol. I–III. London: Sage, 2005.
Druldk P. Metaforicke plakaty Evropy // Mezinarodni politika. 2006. № 4.
Druldk P. Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper, Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15.
Duhem P. The Aim and Structure of Physical Theory. New York: Atheneum, 1974.
Fearon J.D. Rationalist Explanations for War // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. II. London: Sage, 2005.
Fearon J.D., Laitin D.D. Violence and the Social Construction of Ethnic Identity // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. II. London: Sage, 2005.
Feyerabend P. Against Method. London: Verso, 1993/1975.
Feyerabend P. Wissenschaft als Kunst / Czech translation. Praha: Jezek, 2004.
Haas E. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950–1957. Stanford, CA: Stanford University Press, 1958.
Homer-Dixon T.F. On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005.
Jachtenfuchs M. The Governance Approach to European Integration // Journal of Common Market Studies. 2001. Vol. 39(2).
Joergenssen K.E. Introduction: Approaching European Governance. // Reflective Approaches to European Governance. Joergenssen, Knud Erik (ed.). London: MACMILLAN, 1997.
Joerges C. The Law in the Process of Constitutionalizing Europe. EUI Working Paper LAW, 2002/4, San Domenico: European University Institute, 2002.
Kelstrup M. Integration Theories: History, Competing Approaches and New Perspectives // Explaining European Integration / Wivel A. (ed.). Copenhagen: Copenhagen Political Studies Press, 1998.
Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
Kuhn T.S. Metaphor in science // Metaphor and Thought / Ortony, Andrew (ed.). Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Lakatos I., Musgrave A. (ed.) Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press, 1980.
Lakoff G., Turner M. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: Chicago University Press, 1989.
Lakoff G., Nunez R. Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. New York: Basic Books, 2000.
Lambourn D. Metaphor and its Role in Social Thought // International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences. Elsevier Science Ltd., 2001.
Levy J. Misperception and the Causes of War: Theoretical Linkages and Analytical Problems // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005a.
Levy J. The Diversionary Theory of War: A Critique // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005b.
Marks G., Hooghe L., Blank K. European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multilevel Goverenance // Journal of Common Market Studies. 1996. Vol. 34(3).
Moravcsik An. The Choice for Europe: Social Purpose & State Power from Messina to Maastricht. London: UCL Press, 1998.
Pierson P. The Path to European Integration: A Historical-Institutiona-list Analysis // European Integration and Supranational Governance / Wayne S., Sweet A.S. (eds). Oxford: Oxford University Press, 1998.
Popper K. The Logic of Scientific Discover. 14th Printing. London: Routledge, 1959/2002.
Plato. Republic / Czech translation. Praha: Svoboda. Ricoeur P. La metaphore vive. Paris: Editions du Seuil, 1975. Rosamond B. Theories of European Integration. London: MACMILLAN, 2000.
Schmitter P.C. Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories. // Governance in the European Union / Marks G. et al. (ed.). London: Sage, 1996.
Sheehan M. The Balance of Power: History and Theory. London: Routledge, 1996.
Verboven H. Die Metapher als Ideologie: Eine kognitiv-semantische Analyse der Kriegsmetaphorik im Fruhwerk Ernst Jungers. Heidelberg: Universitatsverlag WINTER, 2003.
Waltz K. Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979.
Weiler J.H.H. The Constitution of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
А. Мусолфф (A. Musolff)
Андреас Мусолфф – профессор Даремского университета (Великобритания). Автор ряда монографий, посвященных анализу политического дискурса Германии и Великобритании: «Krieg gegen die Offentlichkeit. Terrorismus und politischer Sprachgebrauch» (Opladen, 1996), «Mirror Images of Europe. The iry used in the public debate about European Politics in Britain and Germany» (Munchen, 2000), «Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe» (Basingstoke, 2004). Представленная ниже работа является частью исследовательского проекта по изучению нацистского политического дискурса и специально подготовлена автором для данного издания.
Политическая «терапия» посредством геноцида: антисемитские концептуальные образы в книге Гитлера «Майн кампф» (перевод Ю.А. Ольховиковой)
Сейчас, когда «опровержение Холокоста» снова стало предметом политических споров, особенно в форме заявлений о том, что Гитлер ничего о нем не знал, так как по мнению таких ревизионистских историков, как Дэвид Ирвинг, не существует никаких письменных документов автора [Lipstadt 1995, Evans 2001, Guttenplan 2001, Ingram 2006], обращение к его образам может показаться странным.
Конечно, метафоры Гитлера известны своей жестокостью и исключительным расизмом – но в какое сравнение они идут с его реальными акциями геноцида? Кроме того, более 40 лет назад Алан Буллок утверждал, что метафоры эти были не новы, а лишь являлись «отражением антисемитских изданий и памфлетов, которые он читал в Вене до 1914 года» [Bullock 1962: 39]. Однако если они были такими избитыми и клишированными, почему так много людей подверглось убеждению? Этот вопрос мы и будем исследовать, взяв за основу предположение, разработанное в когнитивной семантике, о том, что метафора не является лишь фигурой для украшения речи, а, обладая способностью концептуализации, может создавать общественную «реальность».
Идеологическая функция и пропагандистский эффект образов, использовавшихся Гитлером и другими нацистами в соответствующих текстах, не раз подвергались анализу как усилиями историков и исследователей общественного дискурса [Hilberg 2003, vol.1: 2—19; Fest 1974: 292–304, Jackel 1981: 57–59, 89–91; Burrin 1994: 27–28, 31–36; Friedlander 1998: 87–88; Kershaw 1999: 244], так и усилиями лингвистов [Burke 1939; Klemperer 1946; Sternberger, Storz and Suskind 1986; Steiner 1979: 136–151; Seidel, Seidel-Slotty 1961; Ehlich 1989; Schmitz-Berning 1998; Polenz 1999: 541–554; Rash 2005]. Детально изученные примеры сложились в следующие метафорические образы: «Пробуждение» Германии под властью нацистов, предположительный «очищающий» эффект «кровавой бани» войны и болезнетворный паразитический статус евреев, славян, цыган и других народов, не принадлежащих к арийской расе. Теоретической парадигмой таких исследований стало представление о метафоре исключительно как фигуре речи, основанной на имплицитном переносе значения, что противоречит современным представлением о метафоре как особой форме коммуникации [Lakoff, Johnson 1980; Johnson 1981; Musolff 2005].
Хотя главная цель такого подхода (критика демагогического использования образов) видится безупречной в моральном плане, мы можем задать вопрос о том, помогает ли традиционный подход выявлять наиболее существенные аспекты политической метафоры. Когнитивный подход к изучению метафоры, развивавшийся на протяжении трех десятилетий [Lakoff, Johnson 1980; Kovecses 2002; Fauconnier, Turner 2002], показал, что было бы ошибкой считать метафору признаком лишь высокохудожественной речи, поскольку в действительности метафоры важны и частотны в любом дискурсе. Методы когнитивного анализа метафоры сосредотачивают внимание не столько на стилистической, сколько на концептуальной роли метафоры. Задача такого анализа – показать, как различные сферы знания и опыта («domains») смешиваются и понятия одной сферы трактуются в понятиях другой. Метафорический перенос из сферы-источника («source domain») в сферу-мишень («target domain») формирует наше представление о мире с точки зрения того, как мы категоризируем собственный опыт в общественной практике. В метафорической аргументации концепты сферы-источника без труда дают возможность сделать предположительный вывод о концептах сферы-мишени. Они функционируют как часть сценария [Mussolf 2004, 2005], который обеспечивает внутреннюю логичность и обоснованность переноса значения. Настоящее исследование призвано свидетельствовать о том, что метафоры, использованные Гитлером для описания своего мировоззрения, и в особенности своих антисемитских взглядов, были не просто украшением речи, а сформировали концептуальную систему, послужившую оправданием и образцом для каждого серьезного последователя и требующую претворения в жизнь путем осуществления программы Холокоста.
Основой для политических взглядов Гитлера было представление о немецкой нации как о (человеческом) теле, которое нужно было оградить, а в случае заболевания вылечить от болезни. Все «евреи», которых Гитлер относил к одной суперкатегории, являлись главной причиной, а точнее, самой болезнью в форме «паразита». Избавление от этой «угрозы жизни нации» находилось в руках самого Гитлера и его партии как единственных компетентных «целителей». Модель «политическая структура – это человеческое тело» отнюдь не является изобретением ни Гитлера, ни нацистов, ни даже антисемитов или расистов. Она была и остается частью огромной системы метафор, известных как «Великая цепь бытия». Эта центральная для западной философской традиции система метафор наиболее рельефно проявилась в «Истории идей» (Lovejoy 1936, Tillyard 1982, Kantorovicz 1997, Hale 1971; Sontag 1978) и достигла расцвета в политической философии в эпоху Ренессанса, когда их использовали такие выдающиеся мыслители, как Н. Макиавелли, Т. Мор, Ф. Бэкон и Т. Гоббс. Однако, как показывают современные когнитивные исследования, традиция переноса значений из области тела, жизни и здоровья на область государства и общества продолжается по сегодняшний день и находит частое применение в политическом дискурсе [Johnson 1987; Lakoff, Turner 1989; Hawkins 2001: 27–50; Musolff 2003: 327–352].
Эти выводы не претендуют на то, чтобы считать все заимствованные из этого комплекса метафоры идентичными в когнитивном плане. Если бы Гитлер использовал в своих работах лишь образы эпохи Ренессанса, он бы выставил себя на посмешище, а не привлек те огромные массы последователей, которые помогли ему прийти к власти и осуществить на практике план геноцида. Для того чтобы понять, что отличает «диагноз» национального кризиса Германии, поставленный Гитлером, от других концептуальных образов государства как «тела», нам нужно более детально рассмотреть соответствующие политико-метафорические словоупотребления. С этой целью был проведен анализ таких словоупотреблений на материале «Майн Кампф». Базу данных составляют около 380 000 слов немецкого текста [Hitler 1933] и его перевода на английский язык, сделанного Р. Манхаймом в 1943 г. [Hitler 1992]. В анализируемом материале были обнаружены 207 (93 немецких и 114 английских) выражений из следующих концептуальных областей: (1) общие биологические категории, (2) части тела и его органы, (3) физиологические функции, (4) болезни и другие патологические явления, (5) возбудители болезней, (6) лечение и выздоровление. В ходе анализа мы сосредоточим внимание на ключевых высказываниях, отражающих главную линию в построении аналогии тело – государство в произведении «Майн кампф». Первую группу цитат можно обнаружить в рассуждениях Гитлера о факторах, по его утверждению, вызвавших падение Германской империи в 1918 году:
(1) [Этот военный крах] был первым катастрофическим и очевидным для всех следствием нравственного и морального отравления [einer sittlichen und moralischen Vergiftung], ослабления инстинкта самосохранения, которые на протяжении многих лет подрывали стабильность Рейха. [Hitler 1933: 252; 1992: 210].
(2) Этот яд [еврейской прессы] сумел беспрепятственно проникнуть в кровь нашего народа [Blutlauf unseres Volkes] и сделать свое дело, а государство не было сильно настолько, чтобы справиться с болезнью [Krankheit] [Hitler 1933: 268; 1992: 224].
(3) Почти удачей для граждан Германии можно считать то, что период медленного развития болезни [schleichende Erkrankung] был внезапно прерван такой ужасной катастрофой [крахом 1918 года], так как иначе падение нации было бы более медленным, но, тем не менее неизбежным. […] Не случайно человек скорее справился с чумой, чем с туберкулезом. […] Это справедливо и по отношению к заболеваниям тела нации [Erkrankungen von Volkskorpern]. Если болезнь не проявляет форму катастрофы с самого начала, человек постепенно начинает к ней привыкать и в конце концов, хоть на это и может потребоваться какое-то время, неизбежно погибает [Hitler 1933: 252–254; 1992: 211–212].
(4) [Еврейсто] есть и будет типичным паразитом, который распространяется подобно заразной бацилле [der typische Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schadlicher Bazillus sich immer ausbreitet], как только попадает в благоприятную среду. Да и само его существование подобно существованию паразитов: где бы оно ни появилось, народ-хозяин рано или поздно вымирает [Hitler 1933: 334; 1992: 277].
Из этих цитат можно выделить предварительное представление Гитлера на предмет перспективы состояния здоровья немецкой нации. Ведь еще до Первой мировой войны тело нации страдало от болезни, что и привело к военному краху, и было следствием заражения «крови тела» евреями, в особенности их прессой. Гитлер также утверждает, что он является более авторитетным в постановке «диагноза» болезни Германии, чем довоенные политики, которые в лучшем случае могли идентифицировать какие-то общие симптомы, игнорируя при этом скрытую причину [Hitler 1933: 360; 1992: 298]. Гитлер не дает воображению читателя возможности подумать о том, кто в действительности способен сразиться с этой смертельной угрозой в борьбе за «жизнь» «тела нации». В одном из самых пресловутых заявлений он четко указывает на себя и того, чьим командам он подчиняется:
(5) […] сегодня я верю, что действую в соответствии с волей Всемогущего Создателя: борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божье [Indem ich mich des Juden erwehre, kampfe ich fur das Werk des Herrn]. [Hitler 1993: 70; 1992: 60]
При первой же попытке проанализировать концептуальное поле вышеперечисленных примеров нам удалось выделить следующие модели:
(6.1) НЕМЕЦКАЯ НАЦИЯ – ЭТО ТЕЛО.
(6.2) ОСЛАБЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИНКТА САМОСОХРАНЕНИЯ – ЭТО ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ.
(6.3) ВОЕННЫЙ КРАХ 1918 ГОДА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ – ЭТО СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ.
(6.4) ВЛИЯНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ – ЭТО ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОСОБЕННО ЗАРАЖЕНИЯ).
(6.5) «ЕВРЕИ» – ЭТО ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАРАЗЫ (т. е. МИКРОБ, ВИРУС, ПАРАЗИТ).
(6.6) «ЗАЩИТА» ПРОТИВ (= ПОЛНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ) «ЕВРЕЕВ» – ЭТО ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ БОЛЕЗНИ.
Все вышеперечисленные модели определяют основные параллели сопоставлений, но едва ли передают их систематические значения. Такая группа понятий из сферы-источника, как ТЕЛО – БОЛЕЗНЬ – ЛЕЧЕНИЕ, использованных в идеологии Гитлера, формирует сложный и неоднозначный сценарий, мини-историю, дополненную изложением мотивов и выводами о ее исходе, а именно: историю о ТЕЛЕ, СТРАДАЮЩЕМ ОТ БОЛЕЗНИ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАРАЖЕНИЯ И ПОЭТОМУ
НУЖДАЮЩЕМСЯ В ЛЕЧЕНИИ. Такой сценарий содержит «структуру событий» для соответствующего построения различного рода предположений о причинах и следствии, предполагаемых и прогнозируемых событиях. Именно перенос такого сценария целиком на «сферу-мишень» приводит читателя к ряду умозаключений, например, к ожиданию того, что ПОЯВИТСЯ ЦЕЛИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ИЗЛЕЧИТ БОЛЕЗНЬ НАЦИИ.
Выражение основных политических идей Гитлера зависит от параллелей, обусловленных сценарием сферы-источника.
Единственным политически релевантным «фактом», на который мог ссылаться Гитлер, стал кризис Германии после Первой мировой войны. Метафорическая интерпретация этого кризиса как «болезни» позволяет говорить о двух логически обоснованных видах сценария с обязательным наличием эквивалентных событий в сфере-источнике:
(7) Сценарий-источник
A) ЗАРАЖЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫМ ТЕЛОМ (БАЦИЛЛОЙ, ВИРУСОМ, ПАРАЗИТОМ) – ЭТО ПРИЧИНА
B) ТЯЖЕЛОЙ СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ (ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ) ТЕЛА НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ, КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ
C) ЛЕЧЕНИЕМ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ, СОСТОЯЩЕМ В УНИЧТОЖЕНИИ ЕЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ.
(8) Сценарий-цель I
A') ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ И ВЛИЯНИЕ ЕВРЕЕВ НА НЕМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
B') НАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ГЕРМАНИИ,
КАК УЖЕ ПОКАЗАЛ ВОЕННЫЙ КРИЗИС 1918 ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИЙ УПАДОК, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ЛИШЬ
C') ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЕВРЕЕВ НА ГЕРМАНИЮ.
Для того чтобы прийти к таким антисемитским выводам, Гитлер тщательно подбирает слова в соответствии со сценарием-источником. Рассматривая причину заболевания, он пользуется термином «заражение». В итоге такое сопоставление вызывает мысль о том, что влияние «евреев» на немецкую нацию подобно влиянию исключительно опасного возбудителя заболевания. И это, в свою очередь, подталкивает к соответствующему выводу, а именно необходимости радикального избавления от заразы. Гитлер вновь прибегает к уловкам, основанным на простом человеческом опыте: болезнь требует вмешательства квалифицированного врача. Таким образом ему удается прийти к желаемому выводу о том, что он является единственным компетентным «целителем» «пациента» в лице Германии. Этот вывод влечет за собой ряд дальнейших предположений: болезнь, в общем-то, излечима, и цель оправдывает средства, применяемые врачом, само лечение является вполне целесообразным и т. д. На уровне сферы-источника (медицинской практики) такие умозаключения казались относительно простыми, тогда как применимо к сфере-мишени (обществу) они были по меньшей мере проблематичными и требовали серьезного подкрепления в ходе обсуждения. Однако, являясь частями общего сценария-модели, такие предположения являются приукрашенными, но тем не менее принимаются как должное. Предположительный интерес человека к теме болезней и ожидание излечения еще на уровне сферы-источника исключительно важны для идей Гитлера в силу своей яркой очевидности. И только если БОЛЕЗНЬ принимается в качестве подходящего сценария для описания политической системы Германии после Первой мировой войны, то и необходимость найти подходящее лечение, и сам врачеватель принимаются как само собой разумеющееся. Без всего этого модель НЕМЕЦКАЯ НАЦИЯ – ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО стала бы лишь упражнением в перераспределении категорий. Но она, напротив, выступает в качестве самостоятельного прогноза: нация становится пациентом, которому срочно требуется лечение; есть и целитель, и точный диагноз: правильность курса лечения не подлежит сомнению.
Такой сценарий можно применить при описании идеологии Гитлера как особой «избавительной», «истребляющей» и «устраняющей» формы антисемитизма, о чем свидетельствуют и недавние исследования (Browning 1992a, b, 2004; Goldhagen 1996; Freilander 1998; Bauer 2001). Все эти характеристики относятся к прогнозируемому исходу Холокоста как «терапии», которую Гитлер планировал предпринять в отношении «тела немецкой нации». Определение антисемитизма Гитлера как истребляющего и устраняющего больше применимо к описанию конечного результата геноцида, тогда как понятие «избавительный» характерно для представления Гитлером самого себя и своих действий. Оно также организует концепты в систему, находящую свое продолжение в следующем разделе. Идея «избавления» относится не просто к национальному кризису, а к всемирной катастрофе, для преодоления которой и требуется предполагаемый спаситель.
Попытку Гитлера дать божественное подкрепление своему сценарию «болезнь – лечение» можно обнаружить в 11 главе «Майн кампф» «Народ и раса» («Volk und Rasse»). Если бы неподготовленный и неискушенный в вопросах истории читатель открыл книгу наугад и начал читать с этой главы, он бы мог подумать, что читает суперупрощенную теорию о передаче наследственности в «царстве зверей», а не политический трактат. Начало главы представлено звучащим очень по-детски предисловием к процессу размножения среди животных:
(9) На свете есть много истин, казалось бы, совершенно очевидных, но в силу их очевидности обычные люди их не замечают или, во всяком случае, не понимают их значения. […] все без исключения люди каждый день так или иначе общаются с природой; они воображают, что им понятно почти все, а между тем за редким исключением люди совершенно слепо проходят мимо одного из важнейших явлений: строгого разделения на виды всего живущего на земле. […] Синичка идет к синичке, зяблик к зяблику, аист к аисту […] (Hitler 1933: 311; 1992: 258).
Даже самый неискушенный читатель будет удивлен заявлению Гитлера о том, что эти «истины» неизвестны «простым людям», которые «бродят по садам мироздания» – ведь, в конце концов, его наблюдения за жизнью синичек и зябликов далеко не оригинальны. Быстро расправившись с некоторыми заведомо ложными исключениями из вселенского закона, Гитлер возвращается к своей основной идее. Людям, принадлежащим к разным расам, как и животным разных видов, недопустимо скрещиваться между собой:
(10) Исторический опыт […] c ужасающей ясностью доказывает, что каждое смешение крови арийцев с кровью более низко стоящих народов неизбежно приводило к тому, что арийцы теряли свою роль носителей культуры. […] Таким образом, можно сказать, что результатом каждого скрещивания рас является:
а) снижение уровня более высокой расы;
б) физический и умственный регресс и, как следствие, медленный, но верный процесс вырождения.
Содействовать такому развитию не означает ничего иного, как грешить против воли всевышнего Творца [Sunde treiben wider den Willen des ewigen Schopfers].
(Hitler 1933: 313; 1992: 260).
Помимо отвращения к такому сочетанию расизма и богохульства любой более или менее разборчивый читатель стал бы противиться двум совершенно нелогичным выводам в этом месте: сопоставление «видов» и «рас» и отождествление эволюции культурной с эволюцией биологической. Даже такой историк, как Е. Еккель (Jackel 1981: 89), пытавшийся со всей серьезностью отнестись к мировоззрению Гитлера, находил совершенно гнусным смешивание биологии и культуры в гитлеровском понятии «человеческие расы»: «Нет никакой нужды в комментировании нелепости таких доводов». Однако логическая или научная нелепость его теории рас не имеет ни малейшего отношения к ее убедительности в плане предположений посредством метафор/ аналогий. Объединяя, хоть и абсурдно с научной точки зрения, представление наций в виде тел в единый концепт человеческих рас, Гитлеру удалось усилить внутренние связи в основном сценарии и соотнести его с псевдорелигиозной теорией. Может показаться, что такая интерпретация недооценивает «натуралистическое», научное обращение к понятию «нация», что привело к множеству толкований нацистского антисемитизма как формы социального дарвинизма. (Zmarzlik 1963; Kelly 1981; Weindling 1989, Evans 1997, Weikart 2004). Тем не менее, даже если Гитлер считал свое видение «рас» совместимым с генетикой и евгеникой того времени, оно имело слишком мало общего с идеей эволюционного развития, чтобы его можно было поставить в один ряд с научным дарвинизмом.
В действительности Гитлер не имел понятия об эволюции в дарвиновском представлении, а именно, что «виды изменились и все еще изменяются, сохраняя и накапливая благоприятные признаки» (Darwin 1901: 646). Напротив, он имел целью прямо противоположное такой теории, т. е. подчеркивание контраста между человеческими расами и представление их как можно более разобщенными. С его точки зрения, расы – коллективные существа с постоянными характеристиками и предназначением согласно замыслу Творца фундаментально отличны друг от друга (как задумал Гитлер). Автор «Майн кампф» не оставил сомнения о том, что он думал по поводу родства «Человека» и животных:
(11) Народное государство […] должно начать с того, что поднимет брак с уровня непрерывного осквернения расы и придаст ему должный статус, призванный являть людей в образе Господа [Ebenbilder des Herrn], а не помесь человека и обезьяны [MiBgeburten zwischen Mensch und Affe] [Hitler 1933: 444–445; 1992: 365–366].
В противовес научному дарвинизму даже малейшая возможность посредничества, связи или скрещивания среди представителей разных рас являлась отвратительной в глазах Гитлера. Он считал результаты такого смешения уродством и нарушением замысла «всевышнего Творца». Этого нельзя было допустить, а если в результате какой-то жуткой случайности они все-таки появлялись на свет, то долгом каждого, «кто радел за дело Божье» (см. выше примеры 5 и 10), было их уничтожение. Заявляя, что он лишь выполняет свой долг, Гитлер не подвергает сомнению то, что он осознал принципы, лежащие в основе всего мироздания. И в этой серьезной ситуации национальная БОЛЕЗНЬ Германии – это лишь пробный случай перед вселенским кризисом мироздания. В этой грандиозной версии основного сценария БОЛЕЗНЬ/ЗДОРОВЬЕ все группы существ пытаются сохранить и улучшить здоровье, чтобы усилить и укрепить видовую ценность своей расы в иерархии творения. И наоборот, «любое смешение высокой расы с более низкой» ведет к деградации и ставит под вопрос работу Творца над созданием «человека более высокой породы» [Hitler 1933: 313; 1992: 60]. Гитлер даже допускал возможность полного провала этого важного замысла:
(12) Если еврейство при помощи своей марксистской веры одержит победу над другими нациями мира, то корона его станет погребальным венком всего человечества, и эта планета, как и тысячи лет назад, уйдет в небытие, лишившись людей [Hitler 1933: 70; 1992: 60].
Учитывая такое апокалипсическое видение прошлого и будущего человечества, необходимо выделить третью группу в базовом сценарии болезни и лечения, где и концентрируются основные антисемитские концептуальные метафоры, использованные Гитлером в «Майн кампф». Эта группа может быть представлена в виде сценарных моделей второго порядка на уровне «сферы-мишени».
(13) Сценарий-мишень II
A'') ДЬЯВОЛЬСКИЕ СИЛЫ СПОБОБСТВУЮТ
НЕЕСТЕСТВЕННОМУ СМЕШЕНИЮ РАС И ПОТОМУ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
B'') УГРОЗУ ПЛАНУ ТВОРЦА ПО НЕПРЕРЫВНОМУ УЛУЧШЕНИИ РАС, И ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТО МОЖЕТ ЛИШЬ
«) ВМЕШАТЕЛЬСТВО СПАСИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ЗАМЫСЛА.
По сравнению с моделями первого порядка, опиравшимися на жизненный опыт человека, сценарий-мишень II является совершенной экстраполяцией даже в системе концептов Гитлера, сравнивая национальный кризис со всемирной драмой. Тем не менее логичность его метафор при сопоставлении, даже в таком фантастическом сценарии, кажется правдоподобной. Здесь сохраняется само основание для переноса значения, заимствованное из сценария-цели I, а именно БОЛЕЗНЬ, за которой следуют ДИАГНОЗ и ЛЕЧЕНИЕ. На этом же уровне такое основание исчезает, если можно так выразиться, но соответствующая структура событий, хоть уже и не такая очевидная, все-таки прослеживается как когнитивное эхо. И, вдобавок ко всему, мировое значение системы антисемитских метафор Гитлера можно считать упрощенной версией библейского сценария о падении и избавлении Человека.
Именно в этом значении З. Фридлендер [Friedlander 1998] говорит об особом «избавительном» аспекте антисемитизма гитлеровских нацистов, а Х. – Э. Берш приписывает им создание «политической религии», сравнивает библейские аллюзии в «Майн кампф» с мистическими аспектами работ других ведущих идеологов национал-социализма, таких как Дитрих Эккарт, Йозеф Геббельс и Альфред Розенберг, и приходит к выводу о том, что одним из главных компонетов фашистской идеологии была «религиозная составляющая» [Barsch 2002: 277–318, 380]. Однако спорным является то, насколько неконкретное и единичное использование Гитлером религиозных понятий (дьявольское еврейство, богоподобные или божественные арийцы, создание Божье, Божья воля, провидение, вера, грех) способно было создать логическую структуру, чтобы считаться «политической религией». На наш взгляд, более содержательные и систематические отсылки к мистическим текстам Библии в работах Розенберга и Эккарта дают им больше шансов претендовать на ведущую роль в раскрытии религиозного содержания нацизма, чем Гитлеру. С другой стороны, библейские отголоски в самой идее дьявольской угрозы человечеству и всему мирозданию с их последующим избавлением в «Майн кампф» Гитлера несомненно смогли представить хорошо знакомую большинству читателей последовательность событий, дав возможность провести параллели с другими группами его концептуальных метафор. Эти параллели заметно усилили логичность и доказательность всего сценария.
Апокалипсический прогноз Гитлера по поводу состояния здоровья нации и мироздания все еще не был строгой гарантией полного истребления расовой группы – потенциального ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ. Для лечения даже самого страшного заболевания совсем необязательно полное истребление возбудителя. Это справедливо и по отношению к «болезням общества», которые воспринимаются как серьезная, но преодолимая угроза «телу политики». По утверждению З. Зонтага [Sontag 1978: 71–76], метафора БОЛЕЗНИ в политических теориях эпохи Ренессанса и Просвещения имела своей главной целью «воодушевление правителей на поиски более рациональной политики», когда совсем не предполагалось уничтожение социальных групп, наций и рас. Полной противоположностью оказались радикальные выводы Гитлера из наихудшего возможного сценария, а его апокалипсический взгляд на угрозу всем видам еще больше поднял ставки.
Евреи были в представлении Гитлера марионетками в мировом заговоре. Гитлер твердо верил в существование «Договора старейшин Сиона», но даже он допускал, что евреи могут не знать о той роли, которую им предстоит сыграть [Hitler 1933: 337; 1992, 279]. Для того чтобы вплести эту теорию заговора в свой антисемитский сценарий болезни и лечения, ему требовалось объединить абстрактный образ «еврейства» с конкретным актом заражения крови как причины заболевания, который уже был употреблен им ранее (пример 3) по отношению к еврейской прессе. Понятие ЗАРАЖЕНИЯ КРОВИ находилось в центре целой серии вариантов для придания большей жестокости в «Майн кампф». В основной версии Гитлер уподобляет евреев гадюке или ядовитой змее (Viper, Kreuzotter, Schlange), при укусе которой яд (Gift, Volkergift, Vergiftung) сразу проникает в кровеносную систему (Blut, Blutzufuhr, Blutlauf) жертвы [Hitler 1933: 268, 316, 346, 751; 1992: 223–224, 262, 268–269, 288, 605]. В другом случае «еврейство» представлено как кровопийца, пиявка (Blutegel, Blutsauger) или простой паразит (Parasit, Schmarotzer) [Hitler 1933: 334, 335, 339, 340; 1992: 276, 281, 282, 296]. Б. Хоукинс [2001: 46], особым образом относившийся к стилю письма Гитлера и других последователей нацизма, ярко осветил контраст между высокой ценностью существа, «которое имеет самое прямое отношение к жизни внутри тела», и крайне негативной оценкой паразитов, «поддерживающих жизнь в своем теле, высасывая питательные вещества из другого». По третьей версии «еврейство» является бациллоносителем (Bazillus, Bazil-lentrager, Erreger) [Hitler 1933: 62, 334, 360; 1992: 54, 277, 298]. Эта версия связана с еще одним вспомогательным сценарием разложения (Faulnis), где евреи предстают в роли разлагающего фактора (Ferment der Zersetzung), такого как грибок (Spaltpilz) или личинка (Made), либо способного к размножению возбудителя: паразита, особенно крысы (Ungeziefer, Ratten), разносчиков губительных продуктов гниения (Leichengift) [Hitler 1933: 135, 186, 331, 361; 1992: 113, 155, 274, 298]. В свою очередь, сценарий инфекции схож с общим понятием эпидемии (Seuche), которым Гитлер также пользуется для описания влияния «еврейства» на общество, а именно, эпидемии чумы (Pest) и сифилиса (Versyphilitisierung) [Hitler 1933: 63, 269, 272; 1992: 54, 224, 226].
Кровь для Гитлера также была носителем расовой наследственности, и рождение общих детей у представителей разных рас, являясь кровосмешением, вело к «физическому и умственному регрессу и, как следствие, медленному, но верному процессу вырождения» (см. пример 10). Вера в то, что мы бы назвали «генетическими» различиями крови, была основана не на особом суеверии Гитлера, а соответствовала околонаучной теории о том, что в крови ребенка присутствует кровь и, следовательно, наследственность обоих родителей. Такое отношение к крови как «четырем видам темперамента» сохранялось до XIX века, и только в XX веке получила общее признание «генетика» Менделя [Jones 2000: 38–40]. Таким образом, Гитлер мог рассчитывать на то, что его аудитория поймет равенство «КРОВЬ = НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ» как традиционное при обсуждении наследственности. Неизбежным выводом станет следующий: «ЗАРАЖЕННАЯ КРОВЬ» значит «ЗАРАЖЕННАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». В рамках этой конструкции потенциальный «ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАРАЖЕНИЯ КРОВИ» «ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕЛА» Германии, как и арийской расы и мира в целом, т. е. «еврейство», представляло опасность не только для одного поколения, а для будущего всего человечества. Такая продолжительная угроза делала еще более необходимым истребление всех потенциальных возбудителей: бацилл, ядовитых змей, пиявок и паразитов.
Однако в приводимой Гитлером аргументации все еще не хватало ключевого элемента в сценарии ЛЕЧЕНИЕ ПУТЕМ УНИЧТОЖЕНИЯ для того, чтобы сделать нужный исход моральной необходимостью. Согласно терминологии сферы-источника, т. е. биологического или медицинского дискурса, бациллы, ядовитые змеи, пиявки и паразиты обычно и называются «возбудителями заболевания». Но, будучи организмами, лишенными сознания и сознательности, они не могут нести ответственности за результат своей «деятельности». Гитлер же, напротив, приписывает еврейству полное осознание того, что оно является возбудителем заражения крови, и прежде всего объясняет, каким образом им удавалось совершать такое губительное расовое кровосмешение. Все это раскрывает нам очень низкую, порнографическую сторону антисемитизма, которая едва заметна за консервативными фразами текста, но очевидна в речи и монологах правящих кругов [Picker 1965; Jochmann 1992]. В одном из отрывков, пользующихся особо дурной славой, Гитлер открыто говорит о том, как он представляет себе такое «кровосмешение»:
(14) Черноволосый молодой еврейчик вертится около нашей невинной, ничего не подозревающей девушки, и на его наглом лице можно прочитать сатанинскую радость по поводу того, что он сможет безнаказанно испортить ее кровь [das er mit seinem Blute schandet] и тем самым лишить наш народ еще одной здоровой немецкой матери. Всеми средствами стараются евреи разрушить расовые основы того народа, который должен быть подчинен их игу. Евреи не только сами стараются испортить как можно большее количество наших женщин и девушек. Нет, они не останавливаются и перед тем, чтобы помочь в этом отношении и другим народам [Hitler 1933: 357; 1992: 295].
Неотъемлемым компонентом этой ужасной версии «заражения крови» является резкий контраст между заведомо порочной агрессией «черноволосого молодого еврейчика» и абсолютной невинностью «ничего не подозревающей девушки». Таким образом, осквернение «евреями» не-еврейской крови признается односторонним актом преступной агрессии. Это подразумевает оправдание любых оборонных действий, как со стороны самой жертвы, так и спасителя, пришедшего ей на помощь. Понятие ОСКВЕРНЕНИЕ КРОВИ обычно имело значение нежелательных половых связей [Grimm 1984: 190–191] и само по себе не являлось очень ярким образом, но становилось очень ярким и важным в метафорической версии Гитлера о ЗАРАЖЕНИИ КРОВИ КАК ПРИЧИНЕ БОЛЕЗНИ НАЦИИ. Здесь Гитлер проводил параллель между сферой-мишенью и биологической сферой-источником, добавляя моральный аспект сексуального нападения еврея на жертву другой расы. Такой поворот событий является спорным, и поэтому нам придется внести последнюю поправку к сценарной схеме, а именно: ввести промежуточное звено между исходными сценариями сферы-источника и сферы-мишени:
(15) Промежуточный сценарий II
A''') НАМЕРЕНИЕ ЕВРЕЕВ УНИЧТОЖИТЬ ОСНОВНЫЕ УСТОИ ДЕВСТВЕННОЙ РАСЫ/ НАРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
B''') ОСКВЕРНЕНИЯ РАСЫ НЕВИННОЙ ДЕВУШКИ ЕВРЕЙСКИМ НАСИЛЬНИКОМ, ЧТО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ/НАКАЗАТЬ ПУТЕМ
C''') НАКАЗАНИЯ ЕВРЕЯ-ПРЕСТУПНИКА.
По версии этого сценария «евреи» рассматриваются в качестве особо чуждого человечеству вида паразитов, которые в отличие от природных паразитов, действующих бессознательно, намеренно пытаются проникнуть в наибольшее количество рас. И так как заражение имеет для жертвы летальный исход, потенциальная «победа» поработителей станет и своего рода возмездием им: вместе с побежденным народом умрет и паразит: конец свободе порабощенных евреями народов становится вместе с тем концом и для самих этих паразитов. После смерти жертвы раньше или позже издыхает и сам вампир [Hitler 1933: 358; 1992: 296]. Следовательно, евреи становятся всеобщими супер-паразитами, у которых есть не только желание уничтожить другие расы, но которые будут это делать, так сказать, из принципа, даже рискуя уничтожить самих себя. Гитлеру удалось провести параллели между биологическим понятием ЗАРАЖЕНИЯ КРОВИ и нравственным ОСКВЕРНЕНИЕМ КРОВИ, успешно стирая тем самым границы между биологическим и общественным. Это позволило ему без особых усилий и доказательств миновать различные уровни в сфере-источнике и сфере-мишени. Называя «еврейство» заразным паразитом, Гитлер, по его мнению, дает «достоверную» характеристику, соответствующую сценариям и сферы-источника, и сферы-мишени.
Проследив развитие образов в биолого-медицинском сценарии «Майн кампф», мы пришли к тому, что можно назвать «гранитным фундаментом» идеологии Гитлера [Hitler 1933: 22; 1992: 21]. Он включает в себя рассмотрение предполагаемого расового конфликта между арийцами/немцами и евреями, где последние предприняли смертельную атаку по осквернению крови тела немецкой нации. Как уже говорилось выше, термин ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ может пониматься в трех значениях: а) как реальный акт осквернения крови через изнасилование евреем девушки арийской расы, б) как составная часть исходного сценария заболевания и излечения и в) как элемент аллегории в псевдорелигиозном, апокалипсическом повествовании о дьявольском заговоре против великого замысла Творца. Такой анализ позволяет объяснить метафорическую природу антисемитизма Гитлера, признавая его предвестником Холокоста. Метафорические модели, по которым строится образ евреев как паразитов, становятся внешне очень логичными и связными не по причине своего особенного содержания, а через введение их в состав сценариев, обладающих четкой внутренней логикой. Таким образом, стал возможным перенос выводов, полученных на уровне сферы-источника о биогигиенических мерах (необходимости полного уничтожения причины болезни) на уровень сферы-мишени («борьбы против так называемого влияния еврейства»). Более того, Гитлер не остановился на моделях, находящихся лишь в одном измерении, а дополнил их идеей о всеобщем «избавлении путем уничтожения» и промежуточным звеном между сферой-источником и сферой-мишенью. Это позволило ему говорить о достоверности преступления против чистоты крови и о справедливости системы соответствующих метафор для описания роли «еврейства» в немецком обществе и мире в целом.
Внутри такой всеобъемлющей «суперсистемы» антисемитских метафор концептуальные границы между сферой-источником и сферой-мишенью были стерты: для Гитлера любой контакт между немцами и евреями становился кровосмешением и, следовательно, осквернением и заражением крови. Разница концептов сферы-источника и сферы-мишени сложилась в систему убеждений, не поддающихся критике, так как теперь разные уровни сценария стали взаимодополняющими. Спорные утверждения на уровне сферы-мишени были «доказаны» на уровне сферы-источника, и наоборот. Факты, не соответствующие нужному сценарию, могли быть просто отвергнуты как обманный трюк, использованный «великим мастером лжи», т. е. «еврейством» [Hitler 1933: 253, 335; 1992: 277, 289]. И если бы при разработке идеологических метафор в духе Макиавелли нужно было добиться наибольшего эффекта, то гитлеровская многослойная модель национального и всеобщего избавления путем геноцида, несомненно, могла бы считаться наиболее эффективной концептуальной системой всех времен.
Эти результаты проливают новый свет на основные аспекты исследования Холокоста, которые обсуждались и историками, и широкой публикой. Разрешить спор о происхождении Холокоста, преднамеренном или больше функциональном [Browning 1992a: 86—121; Cesarani 1996: 1—29; Kershaw 2000: 93—133], помогает проникновение в саму суть системы концептуальных метафор Гитлера в «Майн кампф»: казалось бы, для него полная ликвидация была наиболее благоприятным «решением» того, что он называл «еврейским вопросом», причем уже в 1924—25 гг., когда и была написана книга. И если это действительно так, то реализация его планов по осуществлению геноцида была скорее вопросом времени и обстоятельств, а не просто одним возможным вариантом из нескольких. Это требует от нас серьезно относиться к метафорам «Майн кампф», понимать их в широком смысле и не пренебрегать ими. Хорошо известно, что многие современники Гитлера 20—30-х годов не понимали их истинного значения. Однако веским контраргументом может считаться тот факт, что далеко не все поняли прогнозы, изложенные Гитлером в «Майн кампф», такие как, например, военная экспансия и завоевание «жизненного пространства» на Востоке, однако это не помешало им претвориться в жизнь.
Предметом дальнейшего эмпирического исследования может стать определение того, каким образом и на какой ступени на «пути к геноциду» [Browning 1992] разные слои немецкого общества поняли значение сценария лечения немецкой нации путем уничтожения евреев – разносчиков заразы. По данным исследования общественного мнения 1930 года [Bankier 1992, Friedlander 1998, Evans 2005], толкование значений на различных сценарных уровнях системы метафор Гитлера не было одинаковым. Вполне понятно, что они с самого начала полностью «понимались» ближайшим кругом соратников Гитлера, тогда как обществу, включая и будущих жертв, они представлялись сумасбродной вульгарной болтовней. Даже те сторонники нацистского движения, которые не гнушались ни крепкого словца, ни акций агрессии против еврейского народа, могли и не видеть в сценарии БОЛЕЗНЬ – ЛЕЧЕНИЕ намеков на геноцид. Для них, как и многих других (офицеров и солдат вермахта), посвященных в истинный смысл идеи до и во время вторжения в Советский Союз [Bartov 1991; Burrin 1994: 115–131, 140–147; Browning 1996: 137–174], полное осознание всех значений такого сценария оказалось бы фактически новой информацией, но вместе с тем к ним пришло бы и понимание концептуальной модели, которая на их глазах «становилась реальностью».
Предметом дальнейшего исследования будет и определение того, каким образом немцы получали сведения о реальных зверствах [Bankier 1992, 1994] и как относились к ним в нацистской Германии, стране, где на евреев было поставлено клеймо «заразного паразита», причем пропаганда такого образа глубоко проникла в разные слои общества. И снова результаты могут колебаться между толкованием сценария как более или менее сознательного способа несколько приукрасить неприятные воспоминания свидетелей событий и тем, что он цинично использовался в качестве прикрытия самими преступниками и их сообщниками. Последнее бы хорошо сочеталось с маскировочным жаргоном, характерным для периода Холокоста, в который входили «сосредоточение», «депортация», «особое обращение», «окончательное решение» и т. д. Тогда первый вариант прочтения сценария мог бы стать выгодным для преступных руководителей Холокоста, встав на защиту их действий по уничтожению (истреблению евреев как возбудителя заражения крови). В этом случае различные слои общества могли бы и сами догадаться, что за лечение требуется в случае такого заражения.
Проведенный анализ ключевых антисемитских метафор в «Майн кампф» показал, что когнитивное воссоздание метафорических образов в такой расистской идеологии, как нацизм, не может ограничиваться отношением к метафорическим выражениям лишь как приему украшения речи. Более того, требуется их тщательное изучение на предмет понятийных связей, заключенных в сценариях, в особенности того, как они способствуют переключению сознания между уровнями буквального и переносного значений, когда речь идет об оправдании геноцида и его подготовке. Система антисемитских метафор, разработанная нацистами, представляет собой яркий пример того, как сила когнитивных смыслов может сослужить службу расистскому клеймению и последующему геноциду, являясь «предупреждением истории» о том, насколько высока цена непонимания и недооценки метафор в политическом дискурсе.
Bankier D. The Germans and the Final Solution: Public Opinion under Nazism. Oxford: Blackwell, 1992.
Bankier D. German public awareness of the Final Solution // The Final Solution. Origins and Implementation / D. Cesarani (ed.). London/ New York: Routledge, 1996.
Bdrsch C. – E. Die politische Religion des Nationalsozialismus. Munich: Fink, 2002.
Bartov O. Hitler's Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. New York: Oxford: Oxford University Press, 1991.
Bartov O. (ed.). The Holocaust: Origins, Implementation, Aftermath. London/New York: Routledge, 2000.
Bauer Y. Rethinking the Holocaust. New Haven/London: Yale University Press, 2001.
Browning C. The Path to Genocide. Essays on Launching the Final Solution. Cambridge: Cambridge University Press, 1992a.
Browning C. Ordinary Men. Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: HarperCollins, 1992b.
Browning C. Hitler and the Euphoria of Victory // The Final Solution. Origins and Implementation / Ed. D. Cesarani. London/New York: Routledge, 1996.
Browning C. The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942 / With contributions by Jurgen Matthaus. London: Heinemann, 2004.
Bullock A. Hitler. A Study in Tyranny. Harmondsworth: Penguin, 1962.