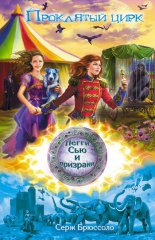Охрана Торопцев Александр
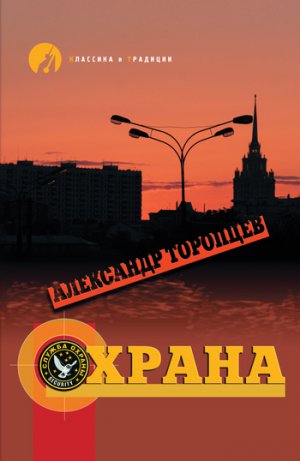
Глава первая БЫВШИЕ ОФИЦЕРЫ НА ГРАЖДАНКЕ
Николаю Касьминову в который уж раз за последние пять лет крупно повезло. Дождь кончился. Белорусский вокзал посвежел после летнего утреннего душа, не спеша прихорашиваясь под косыми лучами солнца. Медленно шли люди по перрону, спускались в переход. Так медленно, бедой упорядоченные толпы передвигаются по кладбищенским дорогам Земли. Николай ездил в Москву из далекого подмосковного военного городка раз в четыре дня. О плохом, о кладбищах, не думал, хотя к началу 2000 года похоронил он тещу и тестя, деда и мать. Отец, волгарь, мужик крепкий и силой, и духом, держался молодцом. Дом тянул, за могилами близких присматривал, телевизор смотрел вечерами. Иной раз с мужиками, сверстниками, водочкой или самогонкой баловался. Но все реже. Аппетит пропал и настроения пить и говорить, как бывало раньше, любил он это дело, не было.
В метро народ привычно суетился, спешил занять сидячие места либо встать поближе к стеночке, Николаю и в этом повезло: контора, в которой он работал охранником, находилась на Проспекте Мира, две остановки от Белорусской. Можно и постоять. Ноги крепкие. Первый разряд по лыжам когда-то был. Анатолий Куханов, дружбан, хоть и не офицер, был двадцать лет назад мастером спорта. Вчера его похоронили. Помянули. Приняли на грудь немало, несмотря на то, что офицером он не был и жил не в военном городке, а в соседнем селе, тоже не очень-то и селе, потому что церковь там так давно сломали, что даже старожилы забыли, где была церковь в том селе, неподалеку от железнодорожной станции. Жил Куханов в отцовской пятистенке, неплохо жил, с запахом, как сам говорил. И всегда он был на виду, единственный мастер спорта по лыжам на весь район. На сборах в те годы частенько бывал, несколько раз в странах бывшего соцлагеря выступал. Чуть машину не купил, так хорошо дела у него шли в те года, когда о машинах многие офицеры и не мечтали.
Николай долго завидовал ему. Лет десять. Пока бегали они на местных соревнованиях: один – за спортивный клуб армии, другой – за «Труд». А потом Куханову бегать надоело, а Николаю командир дивизиона предложил в заочную академию поступать. Стало совсем не до беготни.
Лет пять бывшие лыжники вообще не встречались. Подзабыли друг друга.
Никому не мешая, Николай удачно, без тычков слева-справа и сзади-спереди, вписался в шаркающие потоки людей, вошел в вагон, повернул вправо, но увидел пустоту в заднем по ходу поезда тупичке в салоне, почуял резкий запах, напрягся, заработал локтями, не успел, однако, опередить всех желающих покинуть это место, вонючее, затхлое, неуютное – аж в глаза никому не хотелось смотреть, такое это было вонючее место, и воткнулся он в спину молодую, крепкую, зло напрягшуюся. Затор. Как в автомобильной пробке. На целых две остановки. Ни туда, ни сюда. Женщины, не стесняясь, доставали из сумочек носовые платки, мужчины кривили лица, всех тянуло к выходу, всем хотелось свежего воздуха. Но выхода не было. Электричка с шумом влетела в жерло земли и мчалась по расписанию, не обращая внимания на мелочи жизни.
Мелкий человек, даже не алкаш, а, может быть, уже и не бомж и тем более не бич, лежал, вонючий, на сиденье и храпел смело, задиристо, будто назло всем, будто и не спал он вовсе, а играл спектакль перед сгрудившимися над его вонью пассажирами. Играл хорошо. Вонючий храп по децибелам превышал надрывный воющий шум загнанной в бетонную узкую трубу электрички. Людей коробило. В вагоне равнодушных не было. И не было в вагоне выхода.
Особенно тяжело переживал эти минуты Николай Касьминов, бывший офицер, бывший лыжник районного масштаба, но мужик хороший и в деле, и в быту, и в застолье. Пили они вчера до полуночи. Потом, возвращаясь домой с бывшим зампотехом роты, добавили по сто двадцать пять граммов, замазали все это, водочное, поминальное, святое, двумя бутылками темной «Балтики» девятого номера, крепкого. До военного городка добрались они медленным коровьим шагом – так коровы бродят по лугу после дойки, когда им совсем уж некуда спешить. Бывшим, в данном случае пенсионерам, тоже вроде по положению спешить особо некуда, а может быть, и незачем. Бывший он и есть бывший. Отработанный материал. Огородик. Дешевая водочка. А то и самогоночка – она всегда в селе была и была она всегда намного дешевле водки и спирта, даже того спирта, ядовитого, музыкального, под названием «Рояль», которым травились русские мужики в первую половину последнего десятилетия двадцатого века в одиночку, парами, тройками, а то и всей компанией сразу – за компанию-то чего только не сделаешь, на миру-то и смерть красна. Вот ведь чертовщина какая! Травились мужики, травились, но все не отравились, самые крепкие из них выдюжили, одолели музыкальный спирт, не дали ему всю Русь отравить, выжили, порадовались и на радостях, видать, все строем в бомжи подались. Крепкий народ. Ничего не скажешь. Мало того, что всякая ему вонь нипочем да холод собачий, да вши с блохами, да немытость и нечесанность вековая, так ведь еще и смелость у них, у бомжей русских, потрясающая! Сами подумайте, разве смог бы какой-нибудь иной бомж так вот лежать, храпеть и вонять при всем честном народе!
Бывший зампотех роты, прощаясь с Касьминовым, подарил ему несколько таблеток антиполицая, чтобы по утру в конторе лишних разговоров не было, но антиполицай не спас Касьминова от его личной беды похмельной: очень уж обострялось у него с крутого бодуна обоняние, не выносил он в такие нехорошие дни разные плохие запахи. А тут не запах, а густая вонь русского бомжа – хоть изолирующий противогаз надевай, хоть в йоги поступай.
На станции Новослободской вагон быстро опустел. Но также быстро заполнился новыми пассажирами. Хлопнули двери, закрылись. Николай, на перроне вздохнувший свободно, тряхнул коротко стриженой головой, и так хорошо ему стало, что он даже не успел посочувствовать людям, по случаю оказавшимся в газовой камере вагона метро; их недоуменные лица с носовыми платками у ртов скрылись в тоннеле.
«Мразь!» – грубо выругался крупный мужчина в летнем бежевого цвета костюме, тоже, видимо, не выносивший плохие запахи с крутого бодуна.
Николай глянул на него, непроизвольно сунул в рот еще одного антиполицая, но быстро сообразил, что бежевый пассажир отругал не его, а супер классного исполнителя вонючей роли, и мысленно укорил себя: «Рано таблетку принял, трус несчастный. Боишься всего на свете, как малышок».
Ругал он себя напрасно. Потому что бояться ему было чего. А когда есть чего бояться и боишься этого, то это не трусостью называется, а как-то по-иному. Впрочем, быстро подошел поезд, свежий, с какими-то даже приятными на изысканный с похмелья вкус Николая Касьминова запахами, и он быстро переключился, хотя неприятный осадок у него все-таки остался.С Анатолием Кухановым жизнь вновь свела его пять лет назад, когда новый командир части предложил Николаю вместо очередного и долгожданного повышения по службе должность завгара, очень сомнительную именно с точки зрения дальнейшего роста. Касьминов, прекрасный специалист-ракетчик, психанул, написал рапорт и как-то очень быстро превратился в «бывшего майора». Поначалу хорохорился. Целый месяц по военному городку гоголем вышагивал. Где наша не пропадала? Два высших образования. Без вредных привычек. Опыт работы с людьми. Здоровья, силушки – тьфу-тьфу, не сглазить! – хоть отбавляй. Месяц прошел. Второй месяц прошел, нагрянуло лето. Кончились деньги. Жене в очередной раз задержали зарплату. Еле-еле собрали старшего сына на выпускной вечер. Касьминов все реже стал прогуливаться, особенно вечерами, по военному городку.
И тут-то встретились два бывших лыжника по дороге в один магазин. Куханов без долгих слов предложил Николаю хорошую работу. В смысле денежную. По 400–500 зеленых на круг. Таких денег у Касьминова не было никогда. Но вера в два высших образования, в опыт работы с личным составом и так далее помешала ему в тот день принять решение.
– На стройку не пойду, мне обещали работу в Москве, – ответил он осторожно, как и всегда отвечал, будто бы о чем-то догадываясь, осторожный был он человек с детства.
– Смотри сам, – Куханов не любил много говорить, но все же добавил: – Пока место есть, предлагаю по старой памяти. А Москва не убежит. Ей бежать особо некуда, не на лыжне. Лето-осень поработаешь, объект сдадим старому русскому салаге, деньги получишь и в Москву поедешь. Столица нищету не любит.
Николай – они уже выходили из магазина – посмотрел на бывшего лыжника. Высокий, худой, тот со спины почти не изменился, а спину его быструю он хорошо запомнил. Казалось, дай Куханову зиму, снег, лыжи, лыжню, и помчится он по белой узкой «двухколейке», размашисто петляющей по лесам и полям Подмосковья, от старта до очередного победного финиша. Легок, как птица, был на лыжне Куханов. И зол, напорист, жаден до побед.Однажды на каких-то мелких соревнованиях Касьминов зазевался, не обратил внимания на окрик сзади:
– Оп-па!
Второй раз Куханов крикнул ему, быстро приближаясь:
– Лыжню, медведь!
И тут только Николай спохватился, сошел с лыжни, пропустил вперед Куханова, который, пролетая мимо, слева, каким-то неуловимым движением, явно теряя в скорости и не жалея об этом, подался чуть вправо, плечом толкнул Касьминова, моментально обрел равновесие, мощно оттолкнулся двумя палками, и через несколько мгновений по сосновому бору разнеслось его очередное злое: «Оп-па!»
Для Николая то соревнование было сплошным бедствием. Бежал он неплохо, но после стычки с Кухановым что-то в душе его стряслось. Он не упал, получив сильный и неприятный удар по плечу, быстро перебрался на лыжню, деловито набрал скорость, повторяя про себя: «Медведи не падают! Не бойся, я и тебя еще достану на тягуне».
До пологого длинного подъема было еще километра полтора, через овражек, небольшой, но с характером – с какими-то постоянными снежными заносами. Здесь, сразу за лесом, перед взгорьем будто бы четыре месяца в году был февраль, накручивающий снежные спирали по склонам, разбрасывающий смелыми белыми мазками крупные объемные рисунки по круто вогнутому овражному полотну, чуть ли не ежедневно меняя холсты и картины на нем. Очень причудливый был художник.
Он и в этот раз нагромоздил по складкам оврага множество снежных завитушек, лыжня между ними петляла, круто бросалась вниз, успокаивалась было, чтобы вдруг повернуть то влево, то вправо и опять кинуться, словно в пропасть, вниз.
Николай бежал к оврагу, разгоняясь по злобе: «Сказал, на тягуне достану, значит, достану. Я на нем не таких делал!» – будоражил он себя, нервничал.
И достал бы, точно, если бы овраг не встал у него на пути. Небольшой овражек, даже по меркам дальнего Подмосковья небольшой. Но три раза заваливал он Николая! Три раза падал озленный лыжник, чуть было лыжи не сломал, совсем позору было бы, но уж лучше бы сломал, лучше бы сошел он с дистанции, чем так вот обложаться.
Весь в снегу, прямо-таки снежный человек, Коля-Йети, среднерусского коренастого покроя, выкарабкался он из оврага, еще злой, еще на что-то надеявшийся, уверенный в себе, кинулся догонять Куханова, посмотрел на пологое поле – далекое! – и обмяк духом и силой: оранжевый комбинезон его обидчика маячил на вершине длиннющего тягуна. А потом был позорный финиш. И грубые слова капитана – замкомандира части по спортивной работе, лентяя порядочного, но и столь же выпендрежного хохла:
– На лыжах-то бегают или катаются, а не валяются. Не на пляже. Пентюх. И где ты только первый разряд получил? Что у вас в училище за дистанции были?!
Николай промолчал. На лесной поляне было людно и пестро. К нему подбежала жена с термосом, отодвинула мужа от «спортсмена», сказала мягко:
– Попей чайку и не горюй! Я же с тобой.
Мелкими глотками он пил чай, крепкий, № 36, с лимоном и смотрел на упругую спину Куханова, который, судя по телодвижениям, рассказывал своим подружкам о том, как он ловко поддел на лыжне молодого офицера.Они уже отошли от магазина на полкилометра, попивая баночное пиво.
– Ну будь здоров! – сказал Куханов угрюмо. – До субботы думай. В воскресенье мы другого возьмем.
– Будь здоров! – они пожали друг другу руки. Первый раз за все годы лыжного знакомства.
И первый раз они прямо посмотрели друг другу в глаза. Лицо у Куханова было суровым, обиженным, недовольным. Но уже в тот миг, когда их знакомство перерождалось из лыжного в нормальное, человеческое, Касьминов отметил для себя, что Куханов совсем не злой, не суровый… Что-то в улыбке бывшего лыжника иное, не то чтобы уж очень доброе, братское, но… не выпендрежное, что ли. И рукопожатие было крепким.
Николай с детства терпеть не мог мягкие рукопожатия, после того, как услышал от отца:
– Ты чего здоровкаешься, как барыня балеринная? Или не уважаешь дядьку своего?
Так отец встретил московского гостя в своем доме, на берегу Волги. Гость-то был важный – пятиклассник, двоюродный брат Кольки, почти отличник да в шахматы мастак играть, да с именем знатным и волжским Володя. Много лет с тех пор прошло. Володя, хоть и крупнее Николая был, хоть и при должности и при звании (полковником, начальником отдела кадров в Москве служит), а здороваться «как баба балеринная» так и не разучился или по-другому, по-мужски то есть, так и не научился. Или характер у него такой балеринный?
…Куханов отошел далеко, шаги по асфальту, деревенски старому, изношенному, уже не слышны были, а Николай все еще ощущал крепкую ладонь бывшего лыжника и вспоминал своего двоюродного брата, думал, вспарывая вторую банку пива: «Почему все так на свете происходит? Володя – отличный человек, и жена у него хозяйка неплохая, хотя моей не чета, и дочь веселая, умная, круглая отличница, симпатичная к тому же, а как-то не тянет к ним. Если бы не жена: „Поедем к Володе, может, поможет, брат все-таки“, – я бы ни за что на свете не обратился к нему за помощью. Сам бы догадался, что мне сейчас хреново, да помог бы по-родственному без всяких яких. Почему так? Куханов сам предлагает, а брат не мычит, не телится».
В тот день он вернулся домой через гараж. Жена ругалась. Но не очень. Потому что оба надеялись на Володю. У него были связи. В училище, в некоторых организациях. Он с генералами знаком, на дачах у них бывает. Он и Денису, старшему сыну, обещал помочь, и Николаю. В субботу нужно звонить в Москву.«Крепко он мне в тот год помог, что и говорить!» – усмехнулся Николай, выходя из метро на Проспект Мира. Город шумел почти по-дневному. Потоки легковушек накатывались с севера на трамвайные пути, притормаживали, а то и останавливались по приказу светофора, и, отталкиваясь от пружинящего металла рельс, мчались в центр, закачивая Москву газом, проблемами, великими делами.
В субботу они дозвонились до Володи. Говорил он так же, как и здоровался – спокойно, негромко, на одной вялой ноте. С работой до осени придется подождать. Все в отпусках. Но не волнуйся, что-нибудь придумаем. С сыном проблем нет. Подстрахуем. Но готовиться надо серьезно. Конкурс приличный. Сам понимаешь, училище – лучшее в России. Дома у нас все хорошо. Валентина рвется к телефону, хочет поговорить со Светланой. Всего доброго.
Николай передал трубку жене. Она говорила с супругой Володи по-бабьи долго. Ни о чем. И ни словом не обмолвилась о том, что уже заняла в долг под две зарплаты. Сильная у него Светлана. Очень сильная. Трубку положила, деньги отсчитала, кассиру передала, из почты вышла, платочек из сумки достала, оглянулась, убедилась, что поблизости никого нет, и задрожала в слезах, как сломанный движок: хочется завестись и разреветься от души, но нельзя, день большой, дома вокруг, знакомые, сослуживцы. Так и не завелась, не разревелась. Подрожала, повсхлипывала, глаза вытерла, зеркальце поднесла к лицу, ловко припудрила нос и: «Пошли, – говорит, – домой, утро вечера мудренее. Завтра нужно картошку прополоть».
И что-то дернулось в груди у Николая.
– Я пойду к Куханову. Сегодня суббота, еще не поздно.
– На шабашку?! Ну уж нет. Только через мой труп. Ты же офицер. У тебя два высших образования, ты технику знаешь лучше всех в дивизии. Сколько у тебя грамот!..
– Светик, у меня ты, Денис и Ваня. Нам деньги нужны. До осени я заработаю у Куханова полторы тысячи, а то и две.
– Но, может быть, Володя что-то и придумает еще. Не торопись, – голос у жены обмяк почему-то, наверное от слез, которые еще были близко и тревожили еще грудь ее.
– Нет. Надежды на него мало. У него подчиненные – майоры и даже подполковники – на вокзалах по ночам в очередях стоят в ожидании погрузки-разгрузки. И получают они там меньше, чем мне обещает Куханов. Надо идти. Пока не поздно. Володя не зря сказал, что конкурс в училище большой. Нам нужны деньги. Взаймы сейчас никто не дает, да и брать нельзя – чем рассчитываться будем? Все. Точка. Я иду.
– И я с тобой! – у него была хорошая жена, она не хотела оставлять мужа наедине с таким паршивым душевным состоянием.
Шабашка! Чисто русское слово. Без него на Руси никак. У Николая в деревне были два друга – яростные любители радиодела. После школы – институт. После института – в НИИ за диссертациями. Гордыми приезжали в деревню. Правда, все реже. Диссертации у них были очень тяжелыми. Десять лет один из них… летом по два-три месяца шабашил, чтобы зимой работать в НИИ за гроши, за возможность стать кандидатом наук. Так и не стал. Перестройка подоспела, под белы рученьки его взяла, и шабашит он по сию пору – строит особняки особо одаренным новым русским. Второй, правда, диссертацию успел защитить, организовал какое-то торговое ООО. Ничего себе, ООО. Пока не посадили. Но в деревню родную он за последние пять лет только один раз приехал, отца похоронил, да по-скорому собрался и на несвежей иномарке уехал в Новгород – там он свою пожизненную шабашку раскрутил, неученую.
Шабашка! Сколько раз видел Николай Касьминов бригады шабашников, мастеривших что-то по району. Холодное какое-то чувство, даже брезгливое вызывали у него эти люди. Никогда бы раньше он даже подумать не мог…
По дорогам пятиэтажного военного городка они, молчаливые, пошли в сторону КПП, оттуда – к селу. Ни ему, ни ей не показалось странным, что они идут пешком, а не едут на своей «копейке». Впрочем, чего тут странного! Гаражные мужики въедливые. Спросят-расспросят, догадаются. Нюх у них тонкий на житейские дела и перемены. Лучше уж пройтись три километра пешком, чем объясняться с ними. Да и дело еще спорное.
За военным городком дорога была хорошо прочерчена по телу русского летнего леса, лениво играющего березовым цветом, волнующим, переливчатым, зелено-золотистым.
Шли молча. Будто о чем-то важном вспоминая. Редко они ходили пешком по этой дороге. В былые времена в части автобус был, а в конце 80-х они «копейку» приобрели. Зачем ноги мять по асфальту?
Село в километре от железной дороги уже завиднелось остовом обросшего здания бывшей библиотеки да антеннами в здешних краях, на границе Московской области, вообще высокими. Николай прибавил шаг, жена покорно приняла ускорение мужа.
Изба Куханова прочно стояла в центре села, когда-то крупного. Изгородь ровная, цветистый палисад, свежее крашеное крепкое крыльцо с пестрым набором банок, баночек, крынок, висящих вверх донышками на кольях, сухих и древних на вид, может быть, даже революционных.
Николай нажал кнопку звонка. В избе послышались гулкие шаги, мягко ударила о стертый косяк дверь веранды со скрипуче-неприветливыми досками пола, показалась за занавесками лохмато-сонная голова Куханова.
– Тебе чего? – спросил он таким тоном, будто нищий к нему пришел, хотя и отказывали ему здесь уже не раз.
Николай внутренне дрогнул. Молнией что-то екнуло в груди и отозвалось ударом в пятки. То был не страх, а мужское горе. Жена же рядом, за спиной. Зачем ее-то нужно было брать с собой на этот разговор?
– А, это ты, медведь! Так бы сразу и сказал. А то молчишь, как рыба. А я спросонья не вижу ничего. Здорово! Да ты не один, что ли? Погодите! Я хоть джинсы натяну.
«Ух! – пронеслась благодать по всем клеточкам николаева тела. – Хорошо-то как!» – подумал он на веранде, наполненной слегка шевелящейся прохладой.
– Здравствуйте! – из избы на веранду вновь явился Куханов. – Светлана! А ты ведь совсем не изменилась! Как сейчас помню, с термосом на финишах выстаивала да медведя своего отпаивала. Ну ты даешь, Николай! Такую жену отхватил в нашем околотке! Проходите. Что будем пить: кофе растворимый, чай, компот бабусин, водку или пиво?
Николай выбрал бы предпоследнее, но жена была строга:
– Только компот. У нас дела.
– Вольному воля. А то бы по соточке махнули не греша.
– А что у тебя за компот такой – бабусин? – спросил Николай, чтобы не молчать.
– Бабуся моя варит – во! С детства пью, да никак не напьюсь. Особенно с похмелья. Здесь посидим или в избе? Как скажешь, Светлана? Тогда в избе. Там спокойнее.
Под компот вкусноты необыкновенной они заговорили о деле. Куханов строил коттеджи местному крупняку, а может быть, и не местному, заезжему. Обещал сдать один из них в начале ноября. Дел было много. Работают по 12–14 часов в день. В субботу – десять часов, в воскресенье обычно выходной. Зарплата – 500 зеленых, плюс по сдаче объектов премия по 100–200 долларов на круг. Тем, кто работал больше трех месяцев и без пьянки, без прогулов.
– У тебя есть шанс, – говорил Куханов с напором, трудно было не поверить ему. – Ноябрь для тебя это 3–3,5 тысячи. Думай сам. И сейчас. Утром ко мне еще один бывший майор подвалит.
– Наш? – поинтересовалась Светлана.
– Нет. Братан сосватал. Но я честно место для тебя держал. Не люблю ля-ля-тополя разводить. Решил?
Николай-то решил. Но в августе у отца юбилей. В конце сентября ему нужно помочь картошку выкопать. А тут такой крутой режим.
– На нет и суда нет. Только зря ты конопатишься! Сто долларов отцу отошлешь, он на них столько картошки купит, что мало не покажется, – почему-то решительный Куханов не спешил ставить точку на разговоре.
Почему?
Николай украдкой посмотрел на жену. Еще час назад она была категорически против шабашки. Сейчас в ней что-то изменилось. В ее лице светлооком было что-то покорное, робкое, если не сказать – просящее. Дай мне, муж мой любимый, бывший майор, три тысячи долларов, я шторы новые куплю и утюг, и туфли, и купальник, а то на озеро ходить стыдно, и телевизор нормальный, чтобы Мишку-ремонтника не вызывать через неделю. А Ване надо компьютер купить, ему же нужно. Это же лучше, чем болтаться по улицам. Дай мне, пожалуйста, Коленька, три тысячи долларов, даже без премии!
– Решено, с чего ты взял? Мы бы не пришли. Во сколько выходить на объект? – голос Николая был тверд.
– В восемь. За селом. У пруда большого.
– Знаю. Видел. Буду. Спасибо тебе.
Они опять крепко пожали друг другу руки.
– И это ты решил правильно. А то бы мне пришлось замполита брать. Я их с детства не люблю. Даже ненавижу.
– Это ты из-за Ольги Котляковой на них так? – спросила Светлана.
– Чертов замполит! Мы уже заявку подали. А мне на сборы нужно было, потом на две недели в Чехословакию поехали. Повезло мне в тот год – две загранки. Подарков ей привез. А он, гнида, умыкнул ее у меня. Бумажная душонка.
– Я с ней в одном классе училась…
– Не все замполиты такие, – Николай горой встал за офицерскую честь.
– Короче, завтра в восемь. Форма одежды рабочая.
– Понял.
Они встали.
– Врезать бы по такому случаю, – Куханов задумался. – Но не люблю я два дня подряд пить. Вчера Витьку Федоткина похоронили. В станционном поселке жил. Мы с ним десять лет в трех школах в одном классе учились.
– Худой такой? У него мать завмагом работала на станции? – Светлана знала родные места хорошо.
– Точно. И он, дурак, по ее стопам вздумал пойти. Всю жизнь электроникой увлекался, техникум окончил перед армией, потом заочный институт. Чего ему не хватало? Технику ремонтировал на ять. На жизнь хватало. Нет, в торгаши подался. Зачем он этот вонючий ларек взял, не его дело?!
– Да денег сейчас нет ни у кого! – вырвалось у Светланы.
– А что с ним случилось-то? – спросил Николай.
– Шлепнули его в среду рано утром. Прямо в ларьке.
– Кто?
– Поди узнай! Ливень был грозовой. Никаких следов. Наторговал, короче, себе на девять граммов свинца в сердце. Нет, хватит на сегодня. Нужно материалы расписать. Грузовики должны прийти. Пошлю их на базу. Все, медведь, до завтра. Светлана, до свиданья.
Муж и жена спустились с крыльца и побрели по пыльной дороге к асфальтовой прямой полосе, рыжевато блестевшей за селом в лучах наполовину утонувшего в лесном море солнца. В такие блаженные дни для любых супругов земного шара все жены на свете думают и говорят только о двух проблемах: о том, как они будут тратить еще не заработанные деньги, и о том, как они друг друга любят и почему.
Николай и Светлана говорили о том же. Быстро темнело. Они еще быстрее (потому что темы были замечательные и время бежало быстро) приближались к лесу, расшумевшемуся к ночи.
Светлана двумя руками, кольцом, захватила левое плечо Николая и говорила, горячилась, совсем разгорячилась от радостных женских надежд.
– А ты боишься темноты? – крикнула она, то ли страх свой сбивая криком, то ли невольно подумав о чем-то.
Николай это «что-то» почувствовал даже не в голосе, но в движении ее рук, схваченных кольцом, и крикнул ей в тон, играя с ней и радуясь игре:
– Я-то не боюсь! Я никогда не боялся. Это ты у меня известная трусиха.
– А вот и не трусиха!
Ее слова потонули в долгом поцелуе. И дикими, и жадными, и щедрыми были он и она, и громко, и страстно трещали кузнечики, и шумно шуршали над ними ветви берез, и туча надежно скрывала луну, и так же надежно, плотными шторами скрывали кусты жену и мужа от фар машин. Долгой была та ночь. Как в радостном, счастливом бреду ласкали они друг друга, не уставая, не обращая внимания на ночь лесную. А уж когда истомилась летняя ночь, когда затихли деревья в предрассветной неге, когда машины все отъездили, вдруг очнулась от радостного бреда жена и, смеясь, сказала:
– Что это с нами сегодня?Нешумные переулки в километре от Садового кольца. Дома на самый разный вкус и цвет: от темно-красных, кирпичных, низких до панельных, спальных с хорошей прослушкой от первого до последнего этажа, от белоколонной усадьбы известного в девятнадцатом веке графа до аккуратного дома управделами Президента, от мощного железобетонного здания Всероссийского общества слепых до отживших свой век кирпичных четырехэтажных кубов. Отжить-то они свой век отжили лет двадцать назад, но со сносом их почему-то в свое время повременили, а чуть позже, когда московскому деловому люду срочно понадобились небольшие здания для банков, этими кубиками, окруженными панельными многоэтажками, заинтересовались новые русские. Дома были вмиг отремонтированы иностранными бригадами якобы по европейским стандартам, огорожены черными невысокими изгородями, защищены прочными металлическими дверьми и охранниками, молчаливыми и загадочными, как осенняя вода в подмосковных старых прудах.
Минуя очередной перекресток, Николай посмотрел на жилой дом управделами, окруженный черной металлической загородкой с большими воротами, возле которых стояла будка и суетился охранник, выпуская не очень дорогую иномарку и всем своим угодливым видом желая понравиться ее владельцу.
«Тоже мне, богачи, – подумал Касьминов, – не могут автоматические ворота заказать. Делов-то».
Это он от зависти немного раскритиковался. По слухам, охранники в этом доме получали раза в полтора больше, чем Николай. И хотя человеком он был не очень завистливым и чужие деньги считал нечасто, в этот раз почему-то обратил внимание на недоработки местной администрации. Деньги-то любому мозги замутят, только дай себе поблажку – обкритикуешься.
Последний поворот, улица. Два дворника шуршат метлами: у входа в обычную поликлинику шуршание ленивое, будто бы на току за колхозные трудодни, у банка напротив – смелое, молодое, с размахом – там действительно шуршать нужно шустрее, себя не жалеючи, качественнее, чтобы не выгнали раньше очередного краха очередного банка.– Что это с нами случилось? – повторила вопрос Светлана, вновь обхватив кольцом руку супруга.
– А чего? – не понял он.
– Да мы с тобой в медовый месяц так не ласкались, вспомни. А тут… Ха, уже и не молодые совсем, а такое…
– Уж и не старые. И не доходяги какие-нибудь. Мне сорока нет. Да я еще и не так могу. Не волнуйся. Пацаны мешают. Да соседей не хочется пугать.
– Знаю-знаю. Ты у меня герой. Но, Коленька, правда же мы ничего такого… ну ведь хорошо было, правда немного стыдновато как-то.
– А чего стыдиться-то?! Мы ж родные муж и жена. Если нам стыдиться, то…
– А вдруг кто-нибудь услышал?
– Ну и пусть. Что тут такого? Просто хорошо было и все. Надо сюда почаще приходить.
– Скажешь тоже! Фильмов, что ли, насмотрелся?
– Ничего я не насмотрелся. Они уже шли по асфальтовой полосе, совсем черной, влажно похрустывающей, ближе к обочине – громче. Под фонарем Светлана встревожилась:
– Я же мятая совсем! Стыд-то какой! Отряхни меня!
Николай мягко пошлепал ее по джинсовой юбке, по кофточке.
– Ничего не видно, – сказал удивленно. – Юбка как юбка.
– Представляешь, как мы пойдем по городку! Уже светает. Лучше бы на машине поехали.
– Ничего не лучше. Наоборот хуже было бы. Дрыхли бы сейчас, как сурки. И карбюратор надо менять.
Пятиэтажки военного городка стояли тихие-тихие. Солнце еще не взошло, но свет от него серый, объемный, прозрачный обволакивал дома, деревья, еще не высокие, истрепанную горку песка на детской площадке, соседскую кошку в серую тигриную полоску, ее слабую тень на цементной дорожке, окаймлявшей дом.
– Ты знаешь, а ведь Куханов платит мало, – неожиданно сменила тему Светлана.
– 500 зеленых на круг – это, по-твоему, мало?! – Николай даже остановился.
– Не в месяц, а за 400 часов работы, если не больше. А это двухмесячная с лишком наработка. Значит, платит он 250 долларов в месяц. Даже меньше.
– Когда это ты успела подсчитать? Неужели в лесу? Я думал, ты там делом занималась, а ты доллары считала, ну даешь!
– О, разошелся! Я тебе дело говорю.
– Ну и что мне теперь с твоим делом делать? Где я такие деньги еще заработаю, подумай сама!
– А вдруг ты не выдержишь, сломаешься, травму получишь. Он тебе больничный будет платить?
– О чем ты говоришь?! О, смотри, у нас свет на кухне! Что-то случилось.
Они ускорили шаг, поднялись на третий этаж, вошли в квартиру.
– Явились – не запылились! – встретил их недовольным голосом старший сын Денис.
– Что случилось? – у Светланы сердце екнуло.
– Ты на время посмотри, уже четвертый час.– Погулять уж нельзя.
– Мы с Ванькой чуть всероссийский розыск не объявили. Гулены мне нашлись. Ладно, я спать пошел. Что с вами разговаривать!
Светлана все поняла и прыснула от смеха.
Двухметровые, прочные на вид столбы из силикатного кирпича, не автоматические ворота из прута и уголка, цоколь до колена, загородка черная над ним, два ребристых ствола полувековых тополей, калитка, вечно поющая две ноты, впрочем, незлобные, здание, построенное в конце шестидесятых, в то время совсем уж богатое, да и сейчас не бедно смотрится, холл со стеклянной стеной…
– Привет, Сергей!
– Здорово, Николай!
– Бакулин пришел?
– Рано еще. Похоронил?
– Не видишь?
– Вижу. Одно слово: постирать постирали, высушили, а погладить забыли.
– Точно. Сейчас бы стопарик и на боковую.
– У меня антиполицай есть. Дать?
– Спасибо. У меня одна таблетка осталась. Как молодой?
– Ничего. Переодевается.
– Я пойду.
На ступенях – их всего было шесть – он почувствовал тяжесть в ногах невеселую. Но виду не подал, напрягся, сделал вид, что ему хорошо, легко, что он бодрый. По длинному коридору пошел, улыбаясь. Навстречу, орудуя шваброй, будто косой, медленно продвигалась уборщица Нина, толстая, но красивая лицом, а когда-то, видно, и телом ладная. Ей сегодня первый этаж будет справлять юбилей – сорок лет.
– О, Коля, привет! – она не разглядывала его, как колбасу в витрине магазина, увлеченная важным для своего семейства делом, и эта черта ее делового характера сегодня особенно понравилась Николаю. Зачем, в самом деле, на него сейчас смотреть, похмельем помятого.
Он поздоровался, дал вправо от швабры, дошел до комнаты отдыха охранников, вздохнул глубоко, с удовольствием, но, вспомнив про молодого, дыхание задержал, не доверяя антиполицаю, и открыл дверь. На него прямо-таки навалился Димка, будто ждал этого момента, будто задание он получил от начальника принюхаться и точно узнать: с похмелья Николай или нет.
– Привет! А я уже все. Пошел на выход. Там Бакулина дождусь.
– Ладно, – только и молвил вошедший, немного радуясь.
Закрыв за Димкой дверь, он до конца опустил форточку, включил вентилятор, электрический чайник, переложил из сумки в холодильник продукты на двое суток, долго мыл в туалете лицо холодной водой, аж руки заломило, потом переоделся, заварил в металлическом чайничке чай и выпил две чашки свежака из блюдца, густо прихлебывая и поохивая, не стесняясь: «Ух, хорошо!»Нине, уборщице, повезло здесь, в конторе, намного больше, чем ему. Она, конечно, баба ответственная, шустрая, за ней, как говорится, перемывать не надо. Она хоть и ходит уткой, хоть и мажет по вечерам колени какой-то мазью, хорошо греющей, хоть и пьет «Ибупрофен» да еще какое-то лекарство, но здесь, в конторе, от нее одна польза всем и никаких проблем: с 6.30 до 8.30 этаж, как языком, вылижет, дорожки в холле пропылесосит, столы и полку охранников влажной тряпкой освежит и бегом в соседнюю контору. Там до 11.00 тоже дело сработает, сюда вернется, буфету поможет всякие бутерброды нарезать, наскоро сама перекусит и уже в 12.30 с хозяйственной сумкой и сумочкой недорогой дамской к себе, в Мытищи. «Счастливо, ребята!» – попрощается с охранниками и по-своему, по-утиному, пойдет на три вокзала, по-скорому переваливаясь, чтобы на хорошую электричку успеть, не очень дальнюю. А там уж благодать для нее. Сядет в вагон, поближе к выходу, хозяйственную сумку между ног поставит, дамскую аккуратно уложит на колени и накроет сильными руками, никогда еще не подводившими ее, глаза закроет, отгородится от назойливого мира невидимой, но прочной занавеской, и хоть вы обкричитесь со своими товарами, хоть под нос ей суйте эту дешевку, хоть пляшите, пойте, играйте, хоть свадьбу справляйте – ни одним движением она не потревожит свой покой. Конечно, если контролеры пойдут по вагонам, она проездной им покажет. Тут уж делать нечего.
«Надежная жена, что и говорить!» – подумал Николай, укладывая в тумбочку вымытую посуду.
Еще бы! Сто двадцать долларов здесь, сто двадцать – в соседней конторе. Да с буфета какой-никакой навар, да премия, да тринадцатая и четырнадцатая, да дивиденды с акций в конце года. Даром что ли она здесь со шваброй двадцать лет крутится волчком!
Николай посмотрел на себя в зеркало, причесался. «Нормалек!» – сказал тихо и пошел на пост. Нина уже была в конце коридора. Ее комковатая фигура в легком зеленом халатике неуклюже маячила между стенами. Никогда раньше ему бы и в голову не пришло завидовать какой-то уборщице. А сейчас, уже почти полгода, это незнакомое чувство постоянно тревожило его.
Поди плохо! За шесть часов работы 250 зеленых – раз, мужа пристроила сюда же плотником – два, да еще и дочь, выпускница техникума, здесь на дипломной практике работала и, похоже, останется в конторе – три. Мало? Вот тебе и уборщица. Вот уж повезло ей, так повезло. Никакие дефолты, никакие скачки доллара. Генеральный, как сказал 120 долларов, так и получают они. Только шмыгай туда-сюда шваброй и ни о чем не думай.
А тут голова раскалывается от всяких мыслей. Сын техникум окончил, в заочный институт поступил, платный, а где деньги взять? Куда его устроить на работу, куда? Хорошо хоть сам он удержался в конторе охранником, тоже ведь повезло.
– Нин, ты как заведенная пашешь, хоть бы передохнула чуток, – сказал он, прижимаясь на ходу к стенке.
– Заведешься тут и передохнешь, – вздохнула она скороговоркой, и послушная в ее руках швабра остановилась на мгновение, пропуская охранника на пост. – Сколько лет прошу их японскую машину купить. Водители вон гоночный автомобиль, навороченный, вчера привезли. Гонщики мне нашлись. За полулитрами им только гонять. На эти деньги десять машин японских можно было купить. По две на этаж.
Швабра уже занялась своим делом, а Нина все гундосила о своих бедах.
«И она еще чем-то недовольна! Катается тут как сыр в масле, – тяжело вздохнул Николай, спускаясь по ступеням в холл. – Получает больше нас, всю семью пристроила. Блатная какая-то уборщица».– Ты, как медведь, идешь! – сказал Димка тоном, хоть и не восторженным, но таким, которым старый учитель хвалит из педагогических соображений ученика.
Бывший майор хотел бы поставить на место пацана возраста старлея, чтобы не вякал лишнего, но подобные желания были не только давно забыты им и неуместны, но и опасны здесь. Места на гражданке как-то странно распределялись, совсем не так, как в армии, не по тому ранжиру, к которому он привык за годы службы и на гражданке и от которого уже стал отвыкать. Если не отвык совсем. Он промолчал, лишь браво крякнул.
– Ты на воротах сегодня? – спросил Сергей.
– Да, на воздухе.
– Машина! – Димка давил, спешил показать бывшим офицерам, что службу охранную он сечет лучше их, старичков. Высокий, хорошо скроенный, он в армии не служил и служить не собирался. Студент какого-то экономического вуза, он занимался ушу, впрочем, по моде, а не по призванию, был женат, бегал на сторону и имел прочную опору в лице дяди – молодого на вырост полковника, у которого тоже был дядя, постарше, с крепкими, не рвущимися связями в разных кругах. Именно дядя и дяди делали характер, в принципе, неплохого парня. Разные дяди и тети, и прочие родственники – это же не врожденный порок, это реалия государственного жития. Димка, хоть и молод был, великолепно чувствовал и использовал данную ему от рождения эту реалию негрубо, можно сказать, даже деликатно, но без робости, свойственной совсем уж нежным натурам или слишком уж принципиальным. В каком-то смысле его можно было назвать дитем своего времени – того самого времени, когда в России пришла пора потребителей, людей хороших и особенно удачливых в деле потребления материальных, духовных и всех других человеческих благ (в том числе и блатных благ, изливающихся на таких, как Димка, солнечным потоком всевозможных ласк и привилегий от родных и их родных) – благ, произведенных именно для них, потребителей, их недавними предками, то есть теми, кто, начиная с семнадцатого года XX века, породив государственную идею, реализовал ее, накопил богатства, передал их в надежные руки тех, кто эти богатства может потреблять.
Димка, без трех курсов экономист, вальяжно возлежал на низком, как самолетное сиденье, мягком кресле багрово-замасленного цвета, и вся его беспечная фигура, ничем не напоминающая демона поверженного, так сильно контрастирующая со строгими фигурами двух бывших старших офицеров и Ниной, уже сменившей швабру на пылесос, являла собой ярко выраженный тип потребительствующего человека, но, следует быстро оговориться, хорошего вполне. В конце концов, он не виноват, что ему выпала судьба родиться потребителем в эпоху потребителей!
Он также не повинен в том, что его оба деда с саблей наголо носились по российскому пространству, оголтело отстаивая право на существование новой государственной идеи, рожденной на перепутье XIX–XX веков. Он не отвечает за дела и деяния тех, кто в тридцатые-пятидесятые годы реализовал почти все возможности этой идеи в жизнь. Ему нельзя вменить в вину достижения и просчеты накопителей, которые доминировали в стране в шестидесятые-восьмидесятые годы. Он не может и не должен быть даже морально подсудным за то признание, которое с высоких трибун сорвалось из уст тогдашнего вождя, возвестившего на весь мир о том, что в 1980 году в стране будет построена материально-техническая база. Ну разве Димка, парень молодой, красивый, неглупый, слегка сонный, в меру дисциплинированный, виноват в том, что его предки создали базу для него?! Что он, в конце концов, совсем чокнутый, чтобы отказываться от такого куша?! Если база создана, значит, ее нужно разбазаривать. Сам этого не сделаешь – сделают другие.
Нет. Это не его вина.
Это не он совершил ошибку в начале семидесятых, отдав документы в военное училище ПВО и в училище РВСН (Ракетных войск стратегического назначения), как то сделали Николай и Сергей, молчаливо листавший в эти минуты журналы приемосдачи дежурства. Им-то, бестолковым, ясно было сказано: базу создадим, не горюйте и ушами не хлопайте, учитесь эту базу разбазаривать. Ведь ясно же сказано было! А разбазаривать-то тоже нужно уметь. Это тебе не ракеты в небо пулять. Куда же они поступали в начале семидесятых, пентюхи?! Государство, между прочим, играло с ними честно и откровенно. Самые ответственные люди, с самых высоких трибун талдычили, в мозги им вбивали, на политзанятиях мозги вправляли, будет база, будет! И ведь экономических вузов в те годы было навалом, Димкин дядя Плешку закончил, а уж потом в органы подался, и еще одну вышку закончил, опять же по нужному профилю, экономическому. А эти… оплошали, короче. А значит, стоять им теперь в разных охранах всю свою оставшуюся жизнь, если это можно назвать жизнью. Охрана – это не жизнь по определению. Это – охрана жизни. Живут те, кого охраняют.
Димка, не поверженный, услышал напористый ход Бакулина, поднялся. В холл вошел в белых брюках и такой же рубашке с коротким рукавом начальник охраны объекта – так он заставил себя называть своих подчиненных, до этого здесь еще никто не додумался. Ну, охранники, ну старший ты у них, всего-то у тебя в подчинении семь-восемь человек, а то и шесть. Нет – начальник. Всей охраны. Всего объекта.– Так! – сразу перешел он к делу. – Новость слышали? Здравствуй, Дима! Привет, Сергей!
– Плохую или не очень? – молодой хитро улыбался. Знал он все новости раньше начальника охраны, дядя ему сообщал все заранее.
– Тебя она не касается. А почему журналы разбросаны? А береты разве трудно в ряд повесить, по-человечески? Офицеры же. На вас люди смотрят. Или вы не знаете ситуацию?
– Не тяни резину, Федор Иванович, говори.
– А где Николай?
– Я позову, – Димка охотно вышел на улицу, крикнул Касьминову, болтающемуся за углом здания конторы, и вдвоем они подошли к начальнику.
– Плохие новости, товарищи. Вчера звонили из ЧОПа, сказали, что все, кому больше сорока лет, с этого объекта переводятся на другие.
– С повышением зарплаты в три раза? – Димка все ухмылялся.
– Повысят они тебе. Наш объект – самый дорогой в ЧОПе.
– Не имеют права понижать зарплату. У нас договор, – Сергей сказал протяжно.
– Ни хрена себе! – тихо выдавил непохмеленный Николай. – А я думал… – он осекся, он думал, что ему крупно повезло, что его пока не тронут, на днях ведь говорили про сорок пять лет. А в договоре вообще написано – до пятидесяти.
– Договор у нас с ЧОПом, а не с конторой. Сколько раз вам было сказано: «Держите форс!» А вы! Ладно, пойду в кабинет.
Кабинетом он называл комнату отдыха охранников. В общем-то все верно. Это для охранников она комната, а для человека при должности – кабинет.
Странный он был человек. Бывший замполит. Полковника ему подарили перед увольнением. За службу верную подарили. В Афгане он песок жевал три с половиной года, немало. Даже для замполитов. Потом, правда, и ему жизнь улыбнулась – в Москве он последние шесть лет служил. В самом центре столицы. Он так и говорил, не стесняясь: «Двадцать лет я в крайних точках служил и Москву заслужил». Все верно. Москва заслуженных любит. И они ее тоже.
На пенсию его проводили с легкой душой. Место он занимал полковничье, молодых придерживал. Но у самого Бакулина на душе было тяжело. На пенсии он года не продержался, деньги стали кончаться очень быстро. А у него сын – капитан, ему тоже в рост идти нужно. А значит, и деньжата ему нужны, чтобы о тыле не думать ежедневно.
– Ни хрена себе! – повторил Николай и совсем угрюмый пошел на улицу открывать ворота.
Бывший майор Касьминов человеком был не ругливым. Даже при гаражных мужиках редко-редко давал себе волю. А тут словно прорвало душевную плотину. Ходил он от ворот десять шагов, до ворот десять шагов, вежливо здоровался с начальством конторы, бодрился в ожидании генерального директора и матерился про себя, естественно, не вслух: «Ни хрена себе!»Два часа спал Николай в ту ночь воскресную, проснулся, полчаса ворочался, жену разбудил, замер. Она уснула, он тихонько поднялся, вышел на кухню, поел плотно, собрал в сумку продукты, в пакет положил старые брюки, рубашку, туфли. К гаражам продвигался, как разведчик – только бы мужики не приставали с расспросами, только бы карбюратор не подвел. Машина завелась, все обошлось. Он покинул городок, притормозил у того места, где они с женой провели такую прекрасную, как в порнофильме, ночь, усмехнулся: «Действительно, что это с нами случилось?! Не маленькие уже вроде!» – и уже через пару минут был на объекте: за селом шабашники строили несколько коттеджей, улицу, уже не деревенскую, но еще не городскую, дорогую и аляповатую.
«Место только испортили, болваны», – Николай подрулил к первому коттеджу, на котором строители устанавливали стропила.
– Ты чего прикатил, майор? Халтурка есть? Так это не по нашу душу. У нас тут во работы! – услышал он голос сверху. То был связист, вольнонаемный. Его уволили год назад за пьянку. Пил не много, но попал пару раз на глаза начальству. Под горячую руку, как говорят в таких случаях. А может быть, что-то другое сыграло в его увольнении досрочном свою роль. Касьминов не вникал в подробности. Связист на гражданке пить вдруг бросил совсем, за ум взялся. В бригаде Куханова деньги заколачивал. Не очень большие, прямо сказать, но жена и дочери были довольны.
– Где Куханов? – строго спросил майор. Спал он мало в ту ночь.
– А тебе зачем?
– Это не твоего ума дело.
– А может, и моего.
– Ты толком можешь ответить?
– Ходят тут всякие.
– Может мне кто-нибудь сказать, где Куханов?
– Его сегодня не будет. Он с утра машину на базу стройматериалов погнал.
– А старший кто у вас? – Николай старался быть вежливым, но грубое, злое чувство рождалось в его груди.
– Майор, мы не в армии, кажется, – говорил все тот же голос, не то, чтобы твердый, но упрямый.
– Он точно уехал?