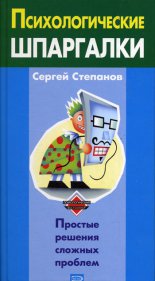Жизнь графа Дмитрия Милютина Петелин Виктор
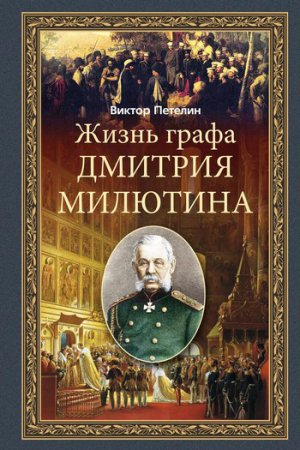
– Я тоже так думаю.
Членами Верховной распорядительной комиссии император утвердил Победоносцева, князя Имеретинского, статс-секретаря Каханова, сенаторов Ковалевского, Шамшина и Маркова, генерал-майора Черевина, генерал-майора Батьянова и правителя канцелярии министра внутренних дел Перфильева, председателем комиссии Лорис-Меликова. 12 февраля последовал указ Сенату о правах и обязанностях Верховной комиссии, а 14 февраля в «Правительственном вестнике» Лорис-Меликов обратился к жителям столицы с обещанием «приложить все старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни пред какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой – успокоить и оградить законные интересы его здравомыслящей части…».
19 февраля 1880 года Россия праздновала двадцатипятилетие восхождения Александра Второго на императорский трон, отовсюду шли поздравления.
Через несколько дней Александр Второй уволил генерала Гурко, Александра Дрентельна, подчинил Третье отделение графу Лорис-Меликову. И все почувствовали, что начинаются перемены, пришла твердая рука, готовая подчинить все правительство. Но 20 февраля вновь какой-то злоумышленник стрелял в графа Лорис-Меликова и дважды промахнулся. Был осужден и повешен. Возникло много разговоров вокруг этого события. Много было всяческих разговоров в газетах и обществе, много слухов, сплетен, интимных тайн разносилось и в в придворных кругах, и не переставали, конечно, судачить о великом князе Николае Константиновиче.
В последних числах февраля пришел к Милютину полковник граф Ростовцев, которому император приказал следить за великим князем Николаем, не утратившим надежд хоть чем-то прославиться и вернуть себе доброе имя.
– Я убедился, Дмитрий Алексеевич, что великий князь – человек ненормальный. Особенно после свидания со своим отцом, великим князем Константином Николаевичем, который не признает ненормальности своего сына, дескать, у Николая нет никакого психического расстройства, и внушил ему поездку в Азию, где он может отличиться. Великий князь приказал хивинскому хану пустить воду Аму в старое русло, но воды там оказалось так мало, что из этой комедии ничего путного не вышло. А Николай Константинович так хотел отличиться…
– Жалкая и трагическая история в императорской семье, о которой столько уже было сказано в придворных кругах, – сказал Милютин.
4 марта состоялось первое заседание Верховной распорядительной комиссии, на которой были обсуждены решительные меры подавления революционного террора. В марте состоялось еще два заседания комиссии, после которых граф Лорис-Меликов доложил императору, что главным больным местом правительства является разделение в деятельности министров: Третье отделение делает одно, Министерство внутренних дел – другое, Министерство юстиции – третье, другие ведомства – четвертое, а все ведомства должны быть озабочены только одним – соблюдением порядка и законности в России.
«Несколько дней исполнения обязанностей, возложенных на меня высочайшим доверием вашего императорского величества, – писал граф Лорис-Меликов в докладе императору 22 марта, – привели меня к убеждению, что верноподданнейший долг повелевает мне ныне же, не откладывая ни единого дня, откровенно донести вашему величеству о положении вверенного мне дела. Медлить было бы преступно и пред лицом вашего величества, и пред Россией. В борьбе с революционными стремлениями всякий неуспех действий правительственной власти влечет за собою усиление крамолы, и потому успех необходим, и притом – быстрый. Уверенность в этом указывает мне и путь к достижению цели. Если близкому будущему может принадлежать изучение тех способов, кои должны повести к ослаблению восприимчивости различных составных частей населения к революционным началам, не свойственным русскому народу, – то задача подавить крамолу в дерзких ее проявлениях и тем доказать силу правительственной власти и отторгнуть от революции колеблющихся».
В начале апреля 1880 года Лорис-Меликов в обширном докладе императору сообщил всю правительственную программу, в которой содержались задачи, выполнение которых даст правительственной власти в России возможность не страшиться «ни лжеучения Запада, ни доморощенных безумцев». «Время особого усиления социалистических учений в Европе совпало с тем временем, – продолжал развивать основные идеи доклада Лорис-Меликов, – когда общественная жизнь в России находилась в периоде великих преобразований, ознаменовавших славное царствование вашего величества. Учения эти находили здесь, как и везде, последователей, но число таковых не могло быть велико, и влияние их не было заметно на первых порах… Новые порядки создали во многих отраслях управления новое положение для представителей власти, требовавшее других знаний, других приемов деятельности, иных способностей, чем прежде. Истина эта не была достаточно усвоена, и далеко не все органы власти заняли подлежащее им место. Ложно понятое назначение в общем государственном строе повело к ряду нарушений прямых обязанностей, к ряду столкновений. Неизбежные ошибки, часто увлечение, еще чаще неумение приноровиться к новым порядкам и руководить обстоятельствами и людьми вызывали отдельные прискорбные факты, из которых стали выводиться общие заключения в невыгоду новых начал, проведенных в жизнь. Разнообразие взглядов, проявившееся в обществе, проникло и в правительственные влиятельные сферы, где также стали образовываться подобия партий, стремившихся провести в дело свои убеждения при каждом удобном случае… Все тонуло в канцеляриях, и застой этот отражался на деятельности вновь созданных учреждений…» Лорис-Меликов подверг острой критике «крестьянское дело», «новые суды», «духовенство продолжало… коснеть в невежестве», «значение дворянства как сословия стушевалось», критиковал земство, буржуазию, молодое поколение, «образованные слои… находятся ныне… в положении неудовлетворенности». «Я уверен, что если Россия и переживает теперь опасный кризис, то вывести ее из этого кризиса всего доступнее твердой самодержавной воле прирожденного государя», но «задача эта не может быть исполнена только карательными и полицейскими мерами», – заканчивал свой доклад императору граф Лорис-Меликов.
Затем последовали по указу императора новые назначения: граф Толстой получил отставку – министром народного просвещения стал Андрей Александрович Сабуров (1838–1916), попечитель Дерптского учебного округа, а обер-прокурором Синода – Константин Петрович Победоносцев (1827–1907), бывший наставник цесаревича Александра, некогда преподававший ему право.
Несколько дней в конце мая императорская семья отмечала траур: 22 мая скончалась императрица Мария Александровна.
В ноябре 1879 года на месте преступления был схвачен убийца князя Кропоткина еврей Гольденберг, который выдал имена заговорщиков и их цели. По этим показаниям была проведена работа полицией, арестованы преступники, осуждены и наказаны. Но не так жестко, как прежде.
Читая доклады Лорис-Меликова и присутствия на совещаниях у императора, Милютин почувствовал, что Михаил Лорис-Меликов как бы угадывал то, что его тревожило все это время, – борьбе с революционерами нужны другие люди, более грамотные, устойчивые, молодые.
В конце марта Милютин неожиданно узнал, что младшая дочь его Елена получила предложение от двадцатишестилетнего капитана Генерального штаба Федора Константиновича Гершельмана, сына участника недавней Русско-турецкой войны генерал-адъютанта Константина Гершельмана, чем смутила все семейство Милютиных. «Обдумывали, обсуждали, а вечером решили дать согласие. Сегодня были у нас родители и братья жениха, а вечером, когда молодежь собралась для репетиции пьесы, разыгрываемой на нашем домашнем театре, все гости узнали нашу семейную новость», – записал в дневник 1 апреля 1880 года Дмитрий Милютин.
Глава 3
РАЗГОВОРЫ С ИВАНОМ ТУРГЕНЕВЫМ
«7 апреля. Понедельник… Вечером воскресное у меня общество было многочисленнее, чем обыкновенно; в числе гостей был Ив. Серг. Тургенев», – записал 7 апреля 1880 года в дневнике Дмитрий Милютин.
Узнав о приезде Тургенева, гости собрались быстро, и начались обсуждения знаменитых произведений великого писателя, о котором так много слышали хорошего и не очень. Дочери расспрашивали Дмитрия Алексеевича о том, что он знал от общих знакомых. Но круг знакомств все сокращался – одни уходили в мир иной, другие отдалялись, работая в своих имениях, как Лев Толстой.
Дмитрий Милютин давно был знаком с Тургеневым, читал его книги: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь», все романы привлекли философской глубиной и точным знанием человеческой природы образованного общества, тонко и многогранно раскрывшихся национальных характеров, читал статьи, особенно поразила своеобразием статья или очерк о Гамлете и Дон Кихоте, знал и о том, что Тургенев был хорошо знаком с его братьями Владимиром и Николаем, приветствовал их успехи и публично выражал скорбь об их безвременной утрате.
Собравшаяся молодежь в доме Милютиных долго расспрашивала Ивана Сергеевича о французской литературе, о его дальнейших планах. Но…
После восторженной встречи Тургенева младшей половиной собравшихся Иван Сергеевич и Дмитрий Алексеевич уединились для разговора в кабинете военного министра, слишком много накопилось взрывчатого материала, чтобы не поделиться сокровенным.
– Я давно слежу за вашими планами, Дмитрий Алексеевич, в Париж иногда вести доходят быстрее, чем здесь, в Петербурге, здесь слишком много слухов, добрые и злые вести порой опутываются такой вязкой паутиной, что до подлинного смысла не доберешься. Все в Париже говорят о Михаиле Лорис-Меликове и связывают с ним чуть ли не государственный переворот, чуть ли не конституцию, с которой император якобы соглашается. В романе «Дым» я кое-что попытался высказать, ведь после 19 февраля 1861 года мало что изменилось, особенно в высшей сфере нашего общества.
– О конституции, Иван Сергеевич, и речи нет в этих предложениях Лорис-Меликова, так, небольшой шажочек. Если б император согласился!.. Но верится с трудом. Я тоже не раз предлагал коренным образом изменить уровень управления страной, но посмотришь на удивленные глаза императора и, поразившись собственной смелости, откладываешь разговор до более подходящего случая, а ведь все его предшественники думали об этом, у всех европейцев есть конституции, даже при императорах Германии и Австро-Венгрии. Только в России…
– Россия – какая-то особенная страна, Дмитрий Алексеевич, у нас все не так, как в Европе. Вот однажды в Париже пошли мы в театр, давали какую-то новую пьесу. Я сидел в ложе с Флобером, Доде и Золя. Все они люди передовых взглядов. Сюжет был простенький. Жена разошлась с мужем и жила теперь с другим. В пьесе он представлен отличным человеком. Несколько лет они были совершенно счастливы. Дети ее, мальчик и девочка, были малютками, когда мать разошлась с их отцом. Теперь они выросли и все время полагали, что сожитель их матери был их отец. Он обращался с ними как с родными детьми; они любили его, и он любил их. Девушке минуло восемнадцать лет, а мальчику было около семнадцати. Ну вот, сцена представляет семейное собрание за завтраком. Девушка подходит к своему предполагаемому отцу, и тот хочет поцеловать ее. Но тут мальчик, узнавший как-то истину, что он не отец, бросается вперед и кричит: «Не смейте! Это восклицание вызвало бурю в театре. Раздался взрыв бешеных аплодисментов. Флобер и другие тоже аплодировали. Я, конечно, был возмущен. «Как! – говорил я, – эта семья была счастлива… Этот человек лучше обращался с детьми, чем их настоящий отец… Мать любила его, была счастлива с ним… Да этого дрянного, испорченного мальчишку следует просто высечь». Но сколько я ни спорил с ними, никто из этих передовых писателей не понял меня…
– Разница в нашем национальном характере, Иван Сергеевич, – они, французы, совсем другие, чем мы, русские. Существует какая-то глубокая пропасть между взглядами русских на брак и теми представлениями о браке, которые господствуют во Франции, особенно в буржуазных слоях. До вас, видимо, донеслись слухи о любовных приключениях нашего императора. У него, как вы знаете, есть законные дети от императрицы, и есть дети, от давней его любовницы, княгини Долгорукой, и он любит и тех и других, хотя они не в равных отношениях.
– Я предполагаю написать повесть о законном и незаконном браке, если судьба позволит мне, – с заметной горечью сказал Тургенев, – одолевают меня болезни, по нескольку месяцев мучает меня подагра, часто просто лежу, ничего не пишу, а столько еще неосуществленных замыслов… Император, что ж, сначала любил одну, потом другую, с этим живому человеку трудно бороться, но слышал и то, что княгине Долгорукой хочется стать полновластной императрицей, но вряд ли императорская семья примет ее, у нее очень сильный и вздорный характер.
– Да, императрица очень плоха, еле живая вернулась из-за границы, видно, скоро она освободит трон для новой хозяйки. Но я о другом… В нашей семье много было споров о ваших героях, кто-то дрался за Шубина, другие оставались равнодушными, одни находили небывалые добродетели в Елене, другие отрицали ее, считали ее самою безнравственною из безнравственных, особенно горячо спорили, конечно, о Базарове… Одни увидели в нем карикатуру на современного передового человека, другие сожалели о его преждевременной смерти.
– Вы не можете представить себе, как я жалел о смерти Базарова. Как-то перечитал свой дневник, и вспомнил, что, закончив роман, я плакал о несчастной судьбе Базарова, но никак не мог придумать другого конца для него. Я знаю об этих спорах, мне присылали много писем, читал статьи, выступал в дискуссиях. Лавров… Кстати, вы знаете, Дмитрий Алексеевич, Петра Лавровича Лаврова? Не только философа, но вольнодумца и революционера?
– Близко не знаком с ним, но, конечно, знаю, он читал лекции в одном из артиллерийских училищ, полковник, имеет ордена, литератор, философ, читает публичные лекции по философии, типичный разрушитель старого общества, тем и мне и известен. А подробности… – Милютин с досадой махнул рукой.
– Он сейчас в Париже, сбежал из александровской России, которая беспощадно казнит всех инакомыслящих, какая уж тут, Дмитрий Алексеевич, конституция. А тут еще взрыв в Зимнем дворце… А ведь Степан Халтурин – действительно мастеровой, красивый парень, подружился с конвойными и приносил динамит в неограниченном количестве. Почему?
– Трудно понять Александра Второго, Иван Сергеевич, я ведь почти двадцать лет рядом с ним, видел его и благородные поступки, и страх перед наступающим терроризмом. Преступные общества возникают то и дело, чуть ли не открыто заседают в Петербурге, с пистолетом в руках гуляют там, где и император… Студенты, молодежь увлекаются западными теориями, читают Фурье, Сен-Симона и восклицают: «Как худо жить у нас»…
– Но и в Европе не лучше, Дмитрий Алексеевич, и там износились все формы политического и общественного быта, надо искать и создавать новые. Европа в безвыходном состоянии, и Герцен об этом писал, и многие национальные публицисты и писатели. Но и социальные системы Фурье ничего хорошего не обещают; предположить, что все будут одинаково работать и одинаково быть сытыми, семьи не будет, дети будут воспитываться государствами, богатых и бедных не будет, все будут равны, одинаково образованы и обеспечены на старость, – все это настолько неосуществимо, настолько противоречит историческому развитию общества, что даже мне, неспециалисту в области философии и социологии, легко это опровергнуть. На Западе хоть что-то делается, а у нас, в России, процветает только узурпация к инакомыслящим, только казни, ссылки, каторга. Император очень слабый человек, вам надобно на него чуть-чуть надавить, раскрыть западные перспективы, Россия очень одинока.
– Вы, Иван Сергеевич, человек свободный, независимый, а нам, чиновникам, царедворцам, пусть и в ранге министров, трудно приходится – то день рождения императора, то день рождения императрицы, то одного великого князя, то другого и третьего, ведь их множество по всем линиям, и каждого поздравь, а богослужений просто не счесть, и всюду поспешай в качестве сопровождающего императора, а сколько проводится смотров и военных парадов… Государь император – человек добрый, чувствительный, мягкий, такому человеку решать и вершить государственные и политические дела очень и очень трудно. Он вечно колеблется, сегодня одно, а послезавтра другое, а политика должна быть последовательна. 19 февраля 1861 года Россия сделала по его повелению огромный шаг, отменила крепостное право, а после выстрела Каракозова он сник, шаги его уменьшились и с каждым днем уменьшались. А он то шагнет в сторону, затем в другую, возникает неуверенность в сотрудничестве с ним, потом обнаруживаются какие-то темные дела, и указывают на источник – княгиня Долгорукая и ее окружение вершат эти темные дела. А народ, солдаты, студенты страдают… В конце концов все падает на правительство и колеблет его основы. Получается, что восхищаются те, кто колеблет основы, а разрушители только этим и занимаются – колебать основы и есть задача современного революционного времени. Александр Второй – это Гамлет, скажете вы, он слаб, колеблется, но не всегда колеблется между «быть или не быть». Вы создали слово «нигилист», это слово стало общепринятым и даже официальным словом. Вы создали произведения, которые вошли в историю русской культуры, но все это создавалось на Западе, где нет цензуры, потом только доходили сюда…
Когда Милютин говорил, он все время поглядывал на Тургенева, этого высокого, красивого барина, с мягкими седыми кудрями, который внимательно слушал Милютина, его глаза светились умом, порой юмористический блеск обозначался в его взгляде, но он не перебивал затянувшийся монолог министра. Странно только, пожалуй, одно: такой большой и красивый, такой глубокий талант, а голос у него какой-то тонкий, похожий на детский.
– Но конституция России просто необходима. Дворяне устали править в одиночку, особенно после того, как Петр Третий дал им вольность, освободил от государственной службы, им нужно пополнение, нужно привлекать другие слои общества к управлению государством, а то вертитесь в кругу дворянства…
– Полностью согласен с вами, Иван Сергеевич, но есть традиция, есть приличия, которые не обойдешь стороной. Расскажу вам один случай из нашей дворцовой службы… Вы, конечно, знаете графа Александра Владимировича Адлерберга, это друг императора, они выросли вместе, почти братья, но положение его, как только появилась на горизонте княгиня Долгорукая, стало почти невыносимым, она была озлоблена против графа, просто ненавидела его, знавшего о недопустимости их близких отношений, тем более в Зимнем дворце. Император дал указание графу поселить княгиню в Зимнем, а это уже позор, это крайнее безрассудство, император был в полной зависимости от княгини. Но императрица была еще жива, дело приостановилось… Если бы вы знали, как тяготят меня мои министерские обязанности. Громадная работа, которая велась в Военном министерстве, часто тормозилась этими обязанностями. Приходилось вести дела второпях, действовать и говорить не то, что надо, а чаще подчиняясь чужим взглядам; а сколько интриг, сплетен, наговоров, зависеть от царской семьи, от их предрассудков и привычек. Не раз мне приходила мысль подать в отставку, два раза чуть не лопнуло терпение, разрыв был неминуем, но император гасил мое озлобление против тех, кто тормозил нашу работу, решимость моя разбивалась об его благодушие и кротость, а в последние годы у нас установились настолько близкие, добрые отношения, что немыслимо было мне покинуть его среди трудных, даже опасных обстоятельств нынешнего времени. Сколько раз я спрашивал свою совесть: хорошо ли я делаю, что остаюсь на своем месте, что не возражаю на мнения и понятия, диаметрально противоположные моим убеждениям, подчас даже явно превратные и односторонние. Но предрассудки царской семьи почти непреодолимы. Идти против них было бы безрассудно, борьба эта повела бы только к раздражению и охлаждению, а чрез то я вовсе лишил бы себя возможности проводить хотя бы часть своих планов и предположений по военному ведомству. Такая постоянная борьба с собственными мнениями и убеждениями подчас делала мое положение невыносимым. Мне и сейчас многое кажется невыносимым в его действиях и взглядах, но надо терпеть и пытаться уменьшить вред от его активности. Сколько мне пришлось потратить нервов в тяжелые времена борьбы с Петром Шуваловым, князем Барятинским, с министром народного просвещения графом Толстым…
– Кто-то мне в Париже говорил, ведь во Франции много говорят об Александре Втором, говорил о его скрытности, фальшивости, даже его двуличности. Сравнивают его с Александром Первым, Александр Второй скрытен, как и дядя, подозрителен, часто попадает под влияние интриг, кляуз, сплетен. Он считает себя хитрым, отсюда разница его в отношении к людям, то осыпает своими милостями, то вдруг охладевает к ним, почти не замечает.
– Да, вы правы, я заметил в императоре эту особенность, должен был быть весьма осторожным в своих действиях, сдержанным в разговорах не только с самим государем, но и с его окружением. Не раз я видел в его глазах недоверие к тому, что я предлагаю. Только со временем я понял, что окружающие его царедворцы что-то нашептали ему, искажая смысл мною сказанного. Существенная черта Александра Второго – это недостаток твердости характера и убеждений, в его характере много женственного, он чем-то увлекается, потом разочаровывается, отступает. Ошибка в некоторых близких людях вызывает у него недоверчивость ко всем, даже к самому себе. А недоверчивость вызывает неискренность, как вы сказали, двуличность. Вот почему начатые реформы 60-х годов остались недоконченными, они даже были изуродованы последующими правительственными мерами, вот и возникло что-то вроде хаоса в России в последнее время. Каракозовский выстрел напугал царя, а окружение императора только усиливало его страх. Он даже усомнился в начатых реформах. В чем польза и своевременность реформ, если они только начаты? Только в крестьянском деле он не отступил, остался верен начатому делу, проявил волю против нападок крепостников. Точно так же он хорошо держался и в польских реформах, разработанных моим братом Николаем Милютиным…
– Да, я был знаком с Николаем… В 50-х годах мы много говорили и спорили о Николае Милютине, особенно тогда, когда он писал, что в журналах так плохо и скучно пишут, что питерским журналистам пора надевать чиновничий вицмундир, а уж потом нельзя было съесть обеда и чаю напиться без того, чтобы страстно не поговорить об эмансипации крестьян и воспитании чести в народе, вся группа Милютина была в центре наших разговоров, через наших общих друзей всегда передавал ему и его прекрасной супруге свои поклоны, внимательно следил и за его работой в Польше… Но смерть, смерть уже подстерегала его… Польша очень отсталая страна, там крестьяне жили еще хуже наших крестьян…
– А меня поразила смерть брата Владимира Милютина… Подумал, что у него неизлечимая болезнь…
– И меня, Дмитрий Алексеевич, поразила смерть Владимира Алексеевича. Этого я от него не ожидал, богатая и увлеченная натура. Решительно – одно непредвиденное, вероятно, совершается на деле.
Тургенев и Милютин помолчали в грустном недоумении, почему смерть иногда наступает так неожиданно и так трагически обрывает жизнь молодого ученого, так много сулившего обществу. Потом заговорил Милютин, меняя тему разговора:
– Недавно читал я две любопытные книги – Токвиля «Старый порядок и революция» и Тэна «Происхождение современной Франции». Прочитал их и подивился тому, как похожи быт и настроение людей во Франции в годы, предшествующие Французской революции, с нашим бытом и настроением сегодняшней России. И все время удивляюсь, почему Аксаков и Хомяков все время писали о том, что русский народ идет своим особенным путем, якобы предначертанным Провидением к решению каких-то особенных исключительных задач? Мы на два столетия отстали от Западной Европы. Франция была законодательницей в Европе, но Германия разбила ее армию и взяла в плен императора. Что-то меняется в этом мире на наших глазах. Достоевский в своих записках «Дневника» совсем недавно провозгласил, что «всякий великий народ верит и должен верить, если хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном и заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной» (Дневник. 1877. Январь. 11, 1). Совсем недавно Франция была такой страной, что все мы сейчас говорим по-французски, перенимаем все их идеи, подражаем им, на наших глазах Германия становится такой страной, а уже сейчас во весь голос заявили об этом евреи. Достоевский прямо говорит, что вера в миссию своего народа противоречит «эгоизму национальных требований», а евреи прямо заявляют, что существует в мире лишь одна народная личность – еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их и не существовало: «Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов преврати, или эксплоатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся» (Дневник. 1877. Март. 11. з). Вот что такое национальный эгоизм, о котором я говорю, приблизительно цитируя Достоевского. К сожалению, наши славянофилы тоже впадают в эту крайность национального эгоизма.
Тургенев внимательно слушал Милютина, хотя лицо его иной раз выражало протест против высказанного, но он не возражал, соблюдая этикет.
– Дмитрий Алексеевич! Я тоже внимательно слежу за «Дневником» Достоевского. Ведь до публикаций «Дневника» Достоевского мало кто знал, его романы как-то проходили мимо читателей, а тут сразу на него обратили внимание, и он вошел в первые ряды русских писателей, допустим, роман «Братья Карамазовы» – замечательное сочинение. Но в своей «Речи о Пушкине», которую так превозносят наши славянофилы, есть мысль, которая противоречит всему ходу общественного развития. Он говорит о том, что русские не хотят подавления иноземных личностей, напротив, хотим, чтобы они развивались в братском единении всех наций, добавляя что-то свое в великое и великолепное дерево общего человечества, всечеловечества, но народ-мессия есть русский народ, он не обращает внимания на невежество и грубость русского мужика, на дикость нравов, он прямо говорит о том, что у нас нет национального эгоизма, мы терпимы ко всему иноплеменному. У нас есть еще одно качество – отзывчивость на все чужое. Способность эта есть всецело способность русская, национальная, я тоже, Дмитрий Алексеевич, цитирую приблизительно, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, а соединившись со всем народом нашим и став народным поэтом, Пушкин становится всечеловеком, общеевропейцем. Тут много приблизительного, противоречивого, антиисторического. Вот почему Достоевского и славянофилов так резко критикуют в России и на Западе.
Милютин на мгновение вспомнил роман «Бесы», беллетриста Кармазинова и разговоры о нем как о карикатуре на Тургенева, который обиделся на Достоевского, увидевшего в Тургеневе – Кармазинове прилизанность письма и мелкотравчатость художественной формы, понял, что продолжать разговор о Достоевском не стоит, и без этого он увидел, как Тургенев вроде бы нахмурился, стала заметна его гордая напыщенность великого писателя, его высокомерие, о которой так много слышал Милютин. «Опять попал впросак, как и с Александром Вторым, – проскользнуло у Дмитрия Алексеевича. – А ведь как я был осторожен в разговоре с Тургеневым».
– У нас с Достоевским отношения напряженные, – сказал Тургенев. – Но говорят, он очень плох, к тому же в критике ругают его «Братьев Карамазовых», хвалят за гуманные чувства, а пренебрежительно относятся к художественной форме романа, серьезные историки литературы Веселовский и Жданов тоже ругают его за слабость художественной формы…
– Иван Сергеевич, я могу вам возразить, что есть критики, ученые, читатели, которые просто превозносят Достоевского, особенно молодой философ Владимир Соловьев…
– Но Владимир Соловьев больше восхищается религиозными мотивами в творчестве Достоевского, а о романах почти не говорит. Согласен, Достоевский – фигура значительная в русской литературе, но уж очень строптив и нетерпим к инакомыслящим. Упомяну только об одном… Только что вышел мой роман «Дым», который был воспринят друзьями, читателями и критикой по-разному, ругали меня все – и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку – особенно сбоку, ну мне не привыкать, чуть ли не каждое мое сочинение воспринимали по особому счету. И вот живу-поживаю в Баден-Бадене, приходит ко мне Достоевский, и тут же завязался у нас спор о моем романе. Я никогда не видел Достоевского таким раздраженным, он просидел у меня не больше часа, а и сейчас почти дословно помню, что он высказал мне. Допустим, наши отношения были неровные, сначала мы все восхищались его романом «Бедные люди», но обрушившаяся слава вскружила ему голову, и я написал легкую ироническую эпиграмму. Отношения наши испортились, Достоевский возненавидел меня уже тогда, когда мы были оба молоды и начинали свою литературную карьеру, хотя я ничем не заслужил такой ненависти. Но беспричинные страсти, говорят, самые сильные и продолжительные. Когда Достоевский начал издавать свой журнал, он попросил у меня хоть что-нибудь для укрепления его тиражности, я опубликовал в «Эпохе» свои «Призраки». Достоевский превосходно понял образ Базарова, до того тонко и полно схватил то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления – и удовольствия. Но «Дым» он воспринял как «западническую клевету на Россию», он в разговоре так и сказал, что «Дым» подлежит «сожжению от руки палача». Помните, Дмитрий Алексеевич, в романе Потугин, крайний западник, призывал Россию встать на путь западной цивилизации, досталось в романе и панславизму, Герцену, славянофильству. А сейчас написал роман «Бесы», в котором наши идеологические споры передал сатирическому образу, Кармазинову, в котором критики легко угадали вашего покорного слугу, тут и симпатия к нигилистам, тайно сочувствующим Нечаевской партии. Конечно, Достоевский – жестокий талант, он имеет огромное значение в литературе, но его почвеннические русофильские увлечения очень мешают ему занять господствующее влияние в нашем обществе. Вы извините меня, увлекся недавними воспоминаниями…
– Что вы, что вы, многие ваши и мои знакомые рассказывали, насколько талантливы как рассказчик, а сегодня я убедился в этом. «Дым» – роман увлекательный не только своими острыми современными проблемами, но уже и тем, что в центре событий действуют генералы русской армии, в которых я кое-кого узнаю из реальных генералов, действующих и созидающих. Среди недовольных романом я назову Федора Тютчева, он был восхищен мастерством автора, с которым вы описали главный характер, но горько жаловался на нравственное настроение, на всякое отсутствие национального чувства…
– Все тот же славянофил…
– Вы точно вспомнили увлечения поэта, а также его отповедь тем, кто призывал следовать образцам западной цивилизации. А роман мне понравился не только мастерством, но и резким отношениям к генералам, крепостникам по своей натуре, которые хотели бы возвратиться назад, к крепостному праву, к николаевской армии, к безраздельному владычеству дворянства, ко всему тому, что своими реформами, – плохо это или хорошо – другой вопрос, Александр Второй отменил, а мы, близкие ему министры, каждый по-своему, помогали продвигать эти реформы в жизнь.
– Дмитрий Алексеевич! Кажется, мы увлеклись нашим разговором, а молодые люди просили меня хоть немного рассказать о Париже и о литературных планах…
Тургенев крепко пожал руку Милютину. Больше они не виделись.
В этой главе много рассуждали о Достоевском. Хочу добавить лишь к этому письмо Ф.М. Достоевского от 15 октября 1880 года молодой писательнице П.Е. Гусевой:
«Многоуважаемая Пелагея Егоровна,
вместо того, чтобы так горько упрекать, Вам бы хоть капельку припомнить, что могут быть случай поста и всякие обстоятельства. Я жил все лето с семейством в Старой Руссе (Минеральные воды) и только 5 дней как воротился в Петербург. Первое письмо Ваше от 1 июля, адресованное в Вестник Европы, дошло до меня чрезвычайно поздно, в конце Августа. И что же бы я мог сделать сидя в Старой Руссе в Редакции Огонька, которой я не знаю и изо всех сил знать не желаю? Вам же не ответил – вы не поверите почему. Потому что если есть человек в каторжной работе, так это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней. С 15-го Июня по 1-е Октября я написал до 20 печатных листов романа и издал Дневник Писателя в 3 печат. Листа. И, однако, я не могу писать с плеча, я должен писать художественно. Я обязан тем Богу, поэзии, успеху написанного и буквально всей читающей публике России, ждущей окончания моего труда. А потому сидел и писал буквально дни и ночи. Ни на одно письмо с Августа до сегодня – еще не отвечал. Писать письма для меня мучение, а меня заваливают письмами и просьбами. Верите ли, что я не могу и не имею времени прочесть ни одной книги и даже газеты. Даже с детьми мне некогда говорить. И не говорю. А здоровье так худо, как Вы и представить не можете. Из катара дыхательных путей у меня образовалась анфизема – неизлечимая вещь, (задыхание, мало воздуху), и дни мои сочтены. От усиленных занятий падучая болезнь моя тоже стала ожесточеннее. Вы по крайней мере здоровы, надо же иметь жалость. Если жалуетесь на нездоровье, то не имеете все-таки смертельной болезни, и дай Вам Бог много лет здравствовать, ну а меня извините.
Второе же письмо Ваше с упреком от Сентября я получил лишь на днях в Петербурге. Все приходило на мою квартиру без пересылки в Ст. Руссу, вследствие ошибочного моего собственного распоряжения (конечно, по недоумению), и я разом получил десятки писем. – С Огоньком я не знаюсь, да и заметьте тоже, что и ни с одной Редакцией не знаюсь. Почти все мне враги – не знаю за что. Мое же положение такое, что я не могу шляться по Редакциям: вчера же меня выбранят, а сегодня я прихожу говорить с тем, кто меня выбранил. Это для меня буквально невозможно. Однако употреблю все усилия, чтобы достать Вашу рукопись из Огонька. Но куда ее пристроить? Всякая шушера, которую я приду просить, чтобы напечатали Ваш роман, будет смотреть на меня как на выпрашивающего страшного одолжения. Да и как я пойду говорить с этими жидами? С другой стороны, ведь эту рукопись надо прочесть предварительно, а у меня нет буквально ни минуты времени для исполнения самых святых и неотложных обязанностей: я все запустил, все бросил, о себе не говорю. Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я еще не ложился. А мне говорят доктора, чтоб я не смел мучить себя работой, спал по ночам и не сидел бы по 10 и 12 часов нагнувшись над письменным столом. Для чего я пишу ночью? А вот только что проснусь в час пополудни, как пойдут звонки за звонками: тот входит одно просить, другой другое, третий требует, четвертый настоятельно требует, чтоб я разрешил какой-нибудь неразрешимый «проклятый» вопрос – иначе-де я доведен до того, что застрелюсь. (А я его в первый раз вижу.) Наконец депутация от Студентов, от Студенток, от гимназий, от Благотвор. Обществ – читать им на публичном вечере. Да когда же думать, когда работать, когда читать, когда жить.
В Редакцию Огонька пошлю и буду требовать выдачи рукописи – но прочесть, поместить – этого и понять не могу, как и когда я сделаю. Ибо буквально не могу, не имею времени и не знаю никуда дорог. Вы думаете, может быть, что я от гордости не хочу ходить? Да помилуйте, как я пойду к Стасюлевичу, али в Голос, али в Молву, али куда бы то ни было, где меня ругают самым недостойным образом. Если я принесу рукопись, и потом она не понравится, скажут: Достоевский надул, мы ему поверили как авторитету, надул, чтоб деньги выманить. Напечатают это, разнесут, сплетни выведут – Вы не знаете литературного мира.
Не дивитесь на меня, что я пускаюсь в такие разговоры. Я так устал, и у меня мучительное нервное расстройство. Стал бы я с другим или с другой об этом говорить! Знаете ли, что у меня лежит несколько десятков рукописей, присланных по почте неизвестными лицами, чтоб я прочел и поместил их с рекомендацией в журналы: вы, дескать, знакомы со всеми редакциями! Да когда же жить, то, когда же свое дело делать, и прилично ли мне обивать пороги редакций! Если Вам сказали везде, что повесть Ваша растянута, – то, конечно, что-нибудь в ней есть неудобное. Решительно не знаю, что сделаю. Если что сделаю – извещу. Когда – не знаю. Если не захотите такой неопределенности, то уполномочьте другого. Но для другой я бы и не двинулся: это для Вас, на память Эмса. Я Вас слишком не забыл. Письмо Ваше (первое) очень читал. Но не пишите мне в письмах об этом. Крепко, по-дружески, жму Вашу руку.
Ваш весь Ф. Достоевский.
На полях приписано: «Буквально вся литература ко мне враждебна, меня любит до увлечения только вся читающая Россия (Достоевский Ф.М. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Пг., 1922. С. 461–463).
Глава 4
СИЛА И ПРОЧНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
С появлением Лорис-Меликова в правительстве и его доклады императору оживили дискуссию среди ответственных лиц в государстве о верховной власти. Дмитрий Милютин еще осенью 1879 года, находясь в Ливадии, набросал своего рода доклад императору «Мысли о необходимых преобразованиях в управлении, в учебной части и в духовенстве», однако полноценный доклад из этих соображений не получился, хотя записка полностью отражает его раздумья о реформе. Не случайно он несколько раз встречался с Лорис-Меликовым, которому, естественно предположить, высказал свои мысли о преобразованиях в государстве. Он мечтал привлечь в Государственный совет представителей земств для решения правительственных задач. Управляет государством не только дворянство, но и выборные представители буржуазии, духовенства, крестьянства, своего рода законодательное собрание, как в европейских странах. «Государственный совет, – писал в записке Милютин, – мог бы обратиться в чисто Законодательное собрание… Мне кажется, что без всякого опасения какого-либо переворота или ослабления власти можно было бы образовать Совет наполовину из членов по назначению и членов по выбору от губернских земств… Все министры должны составлять одно целое; председатель Совета министров должен получить значение первого министра… Само собой разумеется, что предметом занятий Совета должны быть не награды и медали, не пенсии, не уставы всяких обществ, – а все дела исполнительной власти, по которым необходимо единство действий, общее направление и по которым ответственность лежит коллективно на всем Совете министров…»
Милютин предлагал сократить комитеты по делам Кавказа, царства Польского, по Лифляндии, передав управление этими областями Комитету министров, Сенат должен стать чисто судебным учреждением, реорганизована должна быть и собственная Его Величества канцелярия, устаревшая для нынешних требований.
Здесь же Милютин предлагал реорганизовать и работу местных органов власти: «Устройство нашего губернского и уездного управлений представляется в виде мозаики или, лучше сказать, пестрых фигур калейдоскопа, образующихся из случайного совокупления большого числа разноцветных камушек, без всякой основной идеи какой-либо системы. Устройство – это есть результат постепенных в течение долгого времени преобразований и изменений, совершенных по разным ведомствам без взаимного соглашения…» Губернатор должен подчиняться верховной власти, а не только Министерству внутренних дел, все губернские учреждения должны быть слиты в единую палату: «Рядом с областной палатой должны быть поставлены земские учреждения, не как что-то особое, враждующее с администрацией, а, напротив того, разделяющее с нею управление губернией. Мне кажется, что не следовало бы резко разделять хозяйственные интересы местного населения от интересов правительственных. Земскому собранию можно бы предоставить обсуждение всех вообще дел, касающихся экономических условий края и местных ее нужд… Надобно иметь одну полицию, а не разные сорта полиции…» (см.: Зайончковский П. Д.А. Милютин. Биографический очерк // Дневник Д.А. Милютина. 1873–1875. Т. 1. М., 1947. С. 57–58).
Милютин писал эту записку как один из близких императору министров, которому позволяли вмешиваться не только в военные дела, но и в международные, прослыть одним из сильных врагов Германии, желающих установить с Францией самые теплые отношения, много было слухов, но и в этом состоянии Милютин не решился передать записку императору.
Сейчас, когда полностью была одобрена позиция Верховной распорядительной комиссии и ее председателя Лорис-Меликова, с которым не раз разговаривал граф Милютин, некоторые из соображений Милютина Лорис-Меликов представил и Александру Второму. И не только Лорис-Меликов, плохо говорящий на русском языке, с армянским акцентом, предложил свои проекты переустройства управления страной.
Член Государственного совета в апреле 1880 года А.В. Головнин написал записку «О более существенных причинах распространения революционной пропаганды в России и мерах прекращения ее», в журнале «Вестник Европы» появилось несколько статей со своими предложения о реформах, А.А. Половцов не раз в узком кругу друзей и единомышленников высказывал свои предложения о самодержавном опьянении и безответственности министров, часто высказывались мысли и о представительном правлении государства, Валуев не раз писал записки и мечтал о новом устройстве управления…
Но неудержимая карьера Лорис-Меликова вызывала, как говорится, неоднозначное отношение, многие увидели в его разработках и докладах императору какой-то начальный период конституции. Эти слухи дошли и до германского императора, который тут же написал племяннику свои опасения, если он введет конституцию. Ничего подобного, тут же ответил Александр Второй, о конституции он и не думал и не собирается разрабатывать ее. О введении представительных начал земства лишь полушепотом говорили с императором, и только в экономической, хозяйственной сфере губерний, не более того.
О личности Лорис-Меликова в дневниках и воспоминаниях его современников высказываются различные точки зрения, некоторые с завистью к его быстрому взлету в карьере, некоторые с осуждением его предложений, некоторые с сочувствием, как Милютин, когда Лорис-Меликов использовал его мысли о реорганизации правительства…
Князь Мещерский дает подробный анализ деятельности Лорис-Меликова, причины его возвышения и характер его правления. Во время своего харьковского губернаторства он нашел одного из террористов, который выдал своих коллег по террору, на какое-то время «деятели крамолы решили приутихнуть», а Лорис-Меликов представил императору это затишье как признак его бурной деятельности. Мещерский называет Лорис-Меликова легкомысленным: он уничтожил Третье отделение, убрал с поста министра народного просвещения графа Толстого, а потом в угоду либеральным симпатиям отказался от поста диктатора, «диктатора сердца», как прозвали его в светском обществе. Как-то Мещерский зашел в Министерство внутренних дел, Лорис-Меликов занял «грязненький и аленький кабинет вице-директора департамента общих дел», в приемной полно посетителей, два министра, генерал-губернатор, товарищ министра, три директора с докладными портфелями, человек десять губернаторов, столько же предводителей, несколько генералов и сенаторов. «Почему же два министра могли ожидать в приемной? – невольно задал я себе вопрос, – писал В.П. Мещерский. – Оказалось, что они ждали потому, что граф Лорис-Меликов как раз в эту минуту изволил наскоро завтракать в своем кабинете, за неимением времени позавтракать дома, и наскоро закусывал принесенный из трактира фриштик! Нетрудно было понять, что такой театральный завтрак, как и все остальное, был рассчитан на эффект в публике; с одной стороны, министры ждут министра внутренних дел в приемной наравне с просителями, с другой стороны – к вечеру все будут знать, что бедный Лорис-Меликов так обременен занятиями, что не успевает даже позавтракать…» (С. 566–567). Умный и ловкий Лорис-Меликов схватывал «главные верхушки и вопросов, а все остальное предоставлял директорам департаментов». Лорис-Меликов успокаивал императора «полными самообольщения докладами», а это приближало трагическую развязку для императора и России.
В августе в Ливадии Александр Второй пожаловал орден Андрея Первозванного графу Лорис-Меликову и подписал рескрипт, в котором говорилось, что за шесть месяцев в Петербурге «достиг таких успешных результатов, что ныне Россия может вновь спокойно вступить на путь мирного развития». Так был обманут император Александр Второй: в то время, когда революционное подполье укреплялось и наметило свои пути к цареубийству, полиция, эта «грубая и слепая сила», полностью потеряла контроль над событиями внутренней жизни. «Поздравьте меня вдвойне, – сказал император, – Лорис мне возвестил, что последний заговорщик схвачен и что травить меня уже не будут!..» А схватили только Михайлова, а на его место пришел Желябов.
Петр Валуев с раздражением следил за деятельностью Лорис-Меликова. То, что не получалось у него в разговорах и предложениях императору, у «диктатора сердца» получалось успешно, он просто обольстил его. Присутствуя на заседаниях, Валуев просто поражался, как великий князь Константин Николаевич заискивал перед Лорис-Меликовым. Еще в 1862 году Валуев предлагал некоторые реформы конституционного характера, но Александр Второй тут же пресек его:
– Я противлюсь установлению конституции не потому, что дорожу своей властью, но потому, что убежден, что это принесло бы несчастье России и привело бы к ее распаду.
О докладе Лорис-Меликова Валуев написал в своем дневнике: «Монумент посредственности умственной и нравственной. При наивно-уничижительном самовосхвалении, при грубом угождении государю и грубом изложении разной лжи – прежняя мысль о каких-то редакционных комиссиях из призывных экспертов…» Валуев скептически и саркастически относился к реформам Лорис-Меликова и его личности.
11 октября 1880 года Д. Милютин записал в дневнике: «Опять имел продолжительную беседу с гр. Лорис-Меликовым, который снова советовался со мною о разных имеющихся в виду перемещениях на высшие должности. Кажется, ему удастся склонить государя к смене Грейга, поднять снова вопрос об отмене подушной подати, призвать к новой жизни земство и многое другое, о чем за несколько месяцев пред сим нельзя было бы заикнуться. Место министра финансов предложено Абазе… Некоторые из предполагаемых новых назначений удивили меня своею неожиданностью: так, например, в попечители университетов московского и петербургского имеются в виду – Петр Фед. Самарин и К.Дм. Кавелин! Особенно удивляет меня назначение последнего; Кавелина я знаю с молодых лет, люблю его и глубоко уважаю; но никак не могу себя представить его в роли администратора…» (Милютин Д.А. Дневник. С. 278).
В Ливадии, фиксирует Милютин, жизнь становится невыносимою: император пытается придать княгине Юрьевской положение официальной жены, а цесаревна холодна и неприступна. А значит, весь придворный мир раскололся как бы на две враждующие партии. И как он свободен, как легко дышится Милютину в родном Симеизе. Здесь он свободен от царской дворни, может быть самим собой, не присматриваясь к интригам и слухам, исходящим от высшего света. Вернувшись в Петербург, Милютин снова почувствовал неприятную атмосферу, которая сложилась еще в Ливадии.
По-прежнему был активен Лорис-Меликов в своих докладах и записках императору, по-прежнему в нем клокотал дух реформатора.
В январские дни 1881 года в Петербурге появился полковник Пржевальский, только что закончивший свое четвертое путешествие по Китаю. Был ласково принят Александром Вторым, 13 января был в гостях и у Милютиных, многочисленные гости, которые обычно собирались по воскресеньям, с большим интересом слушали его рассказы о путешествиях.
В эти дни Дмитрию Милютину пришлось снова вернуться к прошедшей Русско-турецкой войне и горячо спорить о товариществе «Грегер, Горвиц и Коган» с министром финансов Александром Абазой, государственным контролером Дмитрием Сольским и знаменитым судебным деятелем Егором Старицким, сенатором, членом Государственного совета, по расчетам с ними, подавшими в суд. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и начальник штаба Артур Непокойчицкий заключили контракт с товариществом на самых невыгодных для армии условиях, никакой неустойки и не предполагалось за невыполнение обязательств в срок, цены поставок определялись средними местными ценами плюс 10 процентов надбавки. Товарищество не выполнило своих обязательств, солдаты и офицеры голодали, ходили в рванье, а товарищество сейчас подало в суд и требует договорных денег. Милютин припомнил собравшимся о докладе полевого генерала-контролера, в котором он писал, что закупки происходили на скорую руку, с ничтожными средствами товарищества и самые дорогостоящие, все это срывало поставки, заметны были и крупные злоупотребления, а армия переживала большие бедствия. Комиссия Старицкого уже выплатила необходимые надбавки, которые последовали из-за глупого составления договора, и вот опять угрозы суда, об этом сложном и запутанном деле Милютин уже докладывал императору.
А 14 января Милютин получил телеграмму от императора, который с радостью сообщил прибывшему министру о том, что Скобелев наконец-то взял неприятельское укрепление Геок-Тепе, которое не смогли в прошлом году взять войска под руководством Лазарева и Ломакина. Император тут же сообщил, что производит Скобелева в полные генералы и награждает его орденом Святого Георгия 2-й степени. Затем Скобелев взял Ашхабад, текинцы выразили покорность Российскому государству.
«В политике тишь и пустота, – записал в дневнике Милютин 10 февраля 1881 года. – Какие-то двое или трое из студентов-евреев вздумали с хор крикнуть и бросить листки с воззваниями против министра народного просвещения и университетского начальства. Суматоха была скоро прекращена самими студентами, которые вытолкали нарушителей порядка, а на другой день избили их, не ожидая приговора университетского суда. Тем дело и кончилось…» Но слухи о поражении министра Сабурова тут же разнеслись по городу, особенно в лагере графа Толстого. Биографы и историки сообщили, что инициаторами этой демонстрации в Петербургском университете были члены «Народной воли» Папий Подбельский и Коган-Бернштейн. Коган-Бернштейн произнес обличительную речь против Сабурова, а Подбельский дал ему пощечину. Оба тут же сбежали, но через месяц были арестованы и сосланы на каторгу. Во время вооруженного восстания в Якутске Подбельский был убит, а Бернштейн-Коган, после лечения от тяжкой раны, был осужден и повешен.
В эти дни граф Лорис-Меликов работал над программой будущего единого кабинета министров, которое он мог бы возглавить. В своем докладе он видел программу, продолжающую реформы Александра Второго 60-х годов: он отвергает старые реформы, когда русские цари созывали Земский собор; он отвергает западные формы правления, возникавшие в ходе революционных завоеваний; многие предложения императора и Совета министров остаются в канцеляриях разных ведомств без движения; автор доклада предлагает использовать те формы правления, которые предложил Александр Второй, работая над программой по отмене крепостного права.
«Исходя из этого основного начала, – писал Лорис-Меликов, – и принимая во внимание, что на местах имеются ныне уже постоянные учреждения, способные представить сведения и заключения по вопросам, подлежащим обсуждению высшего правительства, мне казалось бы, что следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных комиссий наподобие организованных в 1859 году редакционных комиссий с тем, чтобы работы этих комиссий были подвергаемы рассмотрению с участием представителей от земства и некоторых значительных городов». Предполагалось учредить две комиссии: административно-хозяйственная и финансовая. Обе комиссии отчитывались бы за свою деятельность перед общей комиссией, затем перед министрами, а потом перед Государственным советом, куда можно пригласить с правом голоса от 10–15 представителей общественных организаций, членов от земств и городов. «Работы не только подготовительных, но и общей комиссии, – писал Лорис-Меликов в докладе, – должны бы иметь значение исключительно совещательное и ни в чем не изменяющее существующего ныне порядка возбуждения законодательных вопросов и рассмотрения их в Государственном совете. Установление изложенного выше и испытанного уже с успехом порядка предварительной разработки важнейших вопросов, соприкасающихся с интересами народной жизни, не имеет ничего общего с западными конституционными формами. За верховною властью сохраняется исключительно право возбуждения законодательных вопросов в то время и в тех пределах, какие верховная власть признает за благо указать. Приглашению членов, избираемых общественными учреждениями, будет предшествовать составление нового законопроекта подготовительными комиссиями из членов правительственных, при участии лишь некоторых особо известных правительству посторонних лиц. Весь личный состав подготовительных комиссий войдет в состав общей комиссии и будет разъяснять и поддерживать выработанные проекты. Эта обязанность будет лежать на председателях подготовительных комиссий в качестве помощников председателей общей комиссии. Самый состав общей комиссии будет каждый раз предуказываем высочайшею волею, причем комиссия будет получать право заниматься лишь предметом, предоставленным ее рассмотрению…» Подготовительные комиссии создать к осени 1881 года, предлагал Лорис-Меликов, а общую комиссию – в начале 1882 года, когда пройдут сессии губернских земских собраний.
Император Александр Второй, прочитав доклад, передал его на обсуждение Особому Совещанию во главе с графом Валуевым, членами которого являлись цесаревич Александр Александрович, великий князь Константин Николаевич, статс-секретарь князь Урусов, граф Адлерберг, Абаза, Лорис-Меликов, министр юстиции Набоков и государственный контролер Сольский. После этого император на документе написал: «Исполнить» и подготовить документ для публикации в «Правительственном вестнике», а перед публикацией обсудить его на заседании Совета министров, которое состоится 4 марта 1881 года.
А 1 марта 1881 года произошло убийство Александра Второго народовольцами Рысаковым и Гриневецким, который погиб при взрыве брошенной им бомбы. Об убийстве императора многие его современники оставили свои скорбные воспоминания, и вина за убийство прежде всего ложится на министра внутренних дел графа Лорис-Меликова, который значительно смягчил борьбу с революционными террористическими силами, ослабил контроль, прекратились обыски, ссыльные вернулись с каторги. «Мерами снисхождения и кротости граф Лорис-Меликов надеялся образумить отуманенную социально-революционными лжеучениями молодежь, свести ее с пути преступления, примирить с правительством и обществом, – писал С. Татищев в биографии «Император Александр II». – Расчет этот не оправдался по отношению к закоренелым преступникам, участникам террористической шайки, присвоившей себе название «Народная воля». Более, чем когда-либо, злодеи решились упорствовать в своих преступных замыслах и достигнуть конечной цели своей совершением цареубийства» (С. 945). Гольденберг, повторяю, выдал всех своих сообщников, арестованы в 1880 году Александр Михайлов, Веймар, Сабуров, Левенталь, Натансон, но смертная казнь Михайлову и Сабурову была отменена и заменена каторжными работами. 27 февраля случайно был арестован Андрей Желябов, один из руководителей «Народной воли» и организатор цареубийства. Но его любовница Софья Перовская продолжила эту конспиративную работу, рано утром 1 марта она вручила метательные снаряды четырем фанатикам: Рысакову, Гриневецкому, Емельянову и Тимофею Михайлову. В 3 часа 35 минут Александр Второй скончался.
Глава 5
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ
Александр Александрович был вторым сыном императора Александра Второго и вовсе не готовился быть наследником императорского трона, наследником был цесаревич Николай, но в 1865 году он скончался, и его невеста принцесса датская Дагмара вышла замуж за Александра, ставшего наследником-цесаревичем.
2 марта Дмитрий Милютин явился с докладом в Аничков дворец к новому императору Александру Третьему. «Прием его был очень любезный, можно сказать, задушевный, – записал в дневнике Милютин 2 марта. – Сначала мы оба прослезились, вспоминая покойного государя; потом я представил на утверждение заготовленные на нынешнее число высочайшие приказы; получил приказание на первое время не изменять прежнего порядка докладов, а по окончании доклада государь очень ласково высказал мне уверенность, что я буду и ему служить так же усердно и честно, как почившему родителю его. На это я отвечал, что всею душою готов служить ему верою и правдой до тех пор, пока его величество будет признавать мою службу действительно действительно полезною, «но, – прибавил я, – откровенно доложу, что чувствую себя уже устаревшим, и потому убедительно прошу, нимало не стесняясь, отпустить меня на отдых, лишь только ваше величество будете иметь в виду другое лицо для замещения меня. Мне пора отдохнуть. Поверьте, государь, что приму увольнение от должности за великую милость». Государь повторил еще раз, что признает мою службу полезною и желает, чтобы я продолжал свою деятельность» (Милютин Д.А. Дневник. С. 26). В тот же день Милютин принял молодого Кауфмана, сына Константина Петровича, который передал ему письмо дочери Елизаветы, которая отважно вела себя во время экспедиции, особенно под Геок-Тепе. Она помогала больным и раненым и приобрела уважение и благодарность. Сообщала также о том, что она решила выйти замуж за князя Сергея Владимировича Шаховского, глав-ноуполномоченного Красного Креста при Закаспийском отряде.
На следующий день была арестована, после признания Рысакова, хозяйка конспиративной квартиры (Тележная улица, дом 5, квартира 5) Геся Гельфман, а через несколько часов на той же квартире был арестован Тимофей Михайлов.
8 марта после настойчивой просьбы Лорис-Меликова состоялось заседание Совета министров под председательством Александра Третьего, который, открывая заседание, сказал:
– Граф Лорис-Меликов докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от земства и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным моим отцом. Покойный государь сделал, однако, некоторые заметки относительно частностей. Нам теперь предстоит обсудить эти заметки. Но прошу вас быть вполне откровенными и говорить мне ваше мнение относительно всего дела нисколько не стесняясь. Предваряю вас, что вопрос не следует считать предрешенным, так как и покойный батюшка хотел, прежде окончательного утверждения проекта, созвать для рассмотрения его Совет министров. Предоставляю слово графу Лорис-Меликову.
– Я прочитаю вам, господа, доклад и предложенный проект публикации в «Правительственном вестнике».
И Лорис-Меликов прочитал эти документы, которые были восприняты по-разному, даже из тех, кто был сторонником реформ.
Затем выступил граф Строганов, который объявил доклад и его предложения вредными для Отечества и что принимать их ни в коем случае не следует. «Путь этот ведет к конституции, которой я не желаю ни для вас, ни для России», – в заключение сказал богатейший граф Строганов.
Затем выступил председатель Совета министров граф Валуев:
– Мне было весьма неприятно высказываться в данный момент подробно и категорично, но я был обязан сказать мою личную правду. Предполагаемая мера очень далека от конституции. Она имеет целью справляться с мнением и взглядами людей, знающих более, чем мы, живущие в Петербурге, истинные потребности страны и ее населения, до крайности разнообразного. В пределах необъятной империи, под скипетром, вам Богом врученным, обитают многие племена, из которых каждое имеет неоспоримое право на то, чтобы верховной власти вашего величества были известны его нужды. Мы живем не в Московском царстве, а в Российской империи.
Вам, государь, небезызвестно, что я – давнишний автор, могу сказать, ветеран рассматриваемого предположения. Оно было сделано мною, в несколько иной только форме, в 1863 году, во время Польского восстания, и имело целью, между прочим, привлечь на сторону правительства всех благомыслящих людей. Покойный император, родитель вашего величества, изволил принять мое предположение милостиво, однако не признал своевременным дать ему тогда ход. Затем я возобновил свое ходатайство в 1866 году, но и на этот раз в Бозе почивший государь не соизволил пойти на осуществление предложенной мной меры. Наконец, в прошлом году я дозволил себе вновь представить покойному государю императору записку по настоящему предмету. Участь ее вашему величеству известна… Признано было опять-таки несвоевременным издать какое-либо другое законоположение о призыве представителей земства.
Из этого краткого очерка ваше императорское величество изволили усмотреть, что я постоянно держался одного и того же взгляда на настоящий вопрос. Я не изменю своих убеждений и теперь. Напротив того, я нахожу, что при настоящих обстоятельствах предлагаемая нам мера оказывается в особенности настоятельною и необходимою… Что же касается затронутого графом Строгановым вопроса о своевременности издать теперь же проектированное нами положение, то в этом отношении я воздерживаюсь от какого бы то ни было заявления. Ваше величество, будучи в сосредоточении дел и обстоятельств, без сомнения, будете сами наилучшим судьей того, следует и возможно ли в настоящую минуту предпринимать предлагаемую нам важную государственную меру.
Выступивший затем Дмитрий Милютин сказал несколько слов в поддержку предлагаемого проекта, разработанного графом Лорис-Меликовым:
– Находя невозможным входить в обсуждение дела по существу, я высказываю мое убеждение в необходимости новых законодательных мер для довершения великих реформ. Меры эти совершенно необходимы, и необходимы именно сейчас. Что касается до самого порядка ведения работ при содействии представителей земства, то я позволю себе напомнить, что подобная мера не составляет опасного нововведения, она практиковалась и прежде. Для предварительного обсуждения проектов крестьянских положений и других важнейших законов всякий раз, с соизволения покойного государя, приглашались люди практические, знакомые с местными интересами, и никаких неудобств от этого не замечалось. В последние годы Россия остановилась на пути своего развития, такое переходное, неопределенное положение во многом содействовало некоторым прискорбным явлениям; такое положение не может продолжаться. Россия ждет. Оставить это ожидание неудовлетворенным гораздо опаснее, чем предложенный призыв земских людей.
Министр почт Маков заявил, что предложенные меры – это ограничение самодержавия, министр финансов Абаза горячо поддержал предлагаемые меры: «Трон не может опираться исключительно на миллион штыков и армию чиновников».
Собравшиеся в кабинете Александра Третьего с нетерпением ждали выступления обер-прокурора Святейшего синода Константина Петровича Победоносцева (1827–1907), одни министры видели в нем жестокого консерватора, злого гения России, другие преклонялись перед ним за его образованность и широкую эрудицию, видели в нем ангела – спасителя России. Все знали о том, что Победоносцев был учителем цесаревича. Знали, что они переписывались… Александр Второй, подписывая указ о назначении Победоносцева на высокий пост, сказал цесаревичу, что он в его лице получит злейшего врага. Ничего хорошего и Милютин не ожидал от него.
– Ваше величество, – начал свою речь Константин Петрович, – я нахожусь в отчаянии. Приходится сказать: «Конец России»… Нам говорят, что для лучшей разработки законодательных проектов надо приглашать людей, знающих народную жизнь, нужно выслушивать экспертов. Против этого я ничего не сказал бы, если б хотел только сделать это. Эксперты вызывались и в прежние времена, но не так, как предполагается теперь. Нет, в России хотят ввести конституцию, и если не сразу, то, по крайней мере, сделать к ней первый шаг… И эту фальшь по иноземному образцу, для нас непригодную, хотят, к нашему несчастью, к нашей погибели, ввести и у нас. Россия сильна благодаря самодержавию, благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его царем. Народ наш есть хранитель всех наших доблестей и добрых наших качеств; многому у него можно научиться. Так называемые представители земства только разобщают царя с народом. Между тем правительство должно радеть о народе, оно должно познать действительные его нужды, должно помогать ему справляться с безысходною часто нуждою. А вместо этого предлагают устроить говорильню, вроде французских Генеральных штатов. Мы и без того страдаем от говорилен, которые, под влиянием негодных, ничего не стоящих журналов, разжигают только народные страсти. Крестьянам дана свобода, но не устроено над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись масса темных людей. Земские и городские общественные учреждения – говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разглагольствуют вкривь и вкось о самых важных государственных вопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И когда вам, государь, предлагают учредить, по иноземному образцу, новую, верховную говорильню, это ужасно. Теперь, когда прошло лишь несколько дней после совершения самого ужасного злодеяния, никогда не бывавшего на Руси, когда по ту сторону Невы, рукой подать отсюда, лежит в Петропавловском соборе непогребенный прах русского царя, все мы, от первого до последнего, должны каяться в том, что мы, в бездеятельности и апатии нашей, не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, павшего на Русскую землю. Все мы должны каяться!
Одни были поражены выступлением Победоносцева, другие торжествовали.
– Ваше величество, – прервал молчание Лорис-Меликов, – 1 марта я просил отставки, но вашему величеству неугодно было уволить меня. Я вновь обращаюсь к вам с просьбой об отставке.
Александр Третий промолчал, а в атаку вновь бросился Александр Абаза:
– Ваше величество, речь обер-прокурора Синода есть, в сущности, обвинительный акт против царствования того самого государя, которого безвременную кончину мы все оплакиваем. Если все сделанное до сих пор есть грубая и преступная ошибка, то вы должны уволить от министерских должностей всех нас, принимавших участие в преобразованиях прошлого – скажу смело – великого царствования. С благими реформами минувшего царствования нельзя связывать совершившееся цареубийство… Обер-прокурор заявил нам, что вместо учреждения «верховной говорильни» нужно радеть о народе. Но именно это уже делается: отменен ненавистный всем соляной налог, две недели назад я докладывал покойному государю предложение Министерства финансов о понижении выкупных крестьянских платежей, при первом докладе вашему величеству было благоугодно на это соизволить. Но не нужно забывать, что есть образованные классы общества и им должны быть предоставлены иные возможности.
Выступали Д. Сольский, Набоков, Сабуров, князь Урусов, предложивший собраться еще раз в узком кругу и принять окончательное решение.
Александр Третий согласился с князем Урусовым создать комиссию, состав которой он определит позже, но тут же предложил возглавить ее восьмидесятишестилетнему графу Строганову.
«Ну, пожалуй, дела довольно успокоительные, – подумал Милютин, – большинство выступало за предложенные перемены, но как напугала нас всех громовая речь Победоносцева, мы просто вздрагивали от некоторых фраз фанатика-реакционера. Чувствуется, что большинство собравшихся вышли после совещания в угнетенном настроении духа и нервном раздражении. Поживем, как говорится, – увидим…»
Аресты революционеров продолжались, выявлялись новые их злодейские замыслы, начались расследования даже в Петропавловской крепости. Милютин заговорил о борьбе с разрушительными, доходящими до зверства учениями социалистов и нигилистов с немецким наследником императора, упоминал Швейцарию, где скрываются злодеи, но принц, соглашаясь, намекнул, что все эти инициативы должны исходить от России. И здесь необходимо отметить одну особенность революционного движения. В петербургском «Голосе» (издатель-редактор А.А. Краевский) говорилось: «Русские евреи не могут вообще жаловаться, чтоб русская печать относилась неблагоприятно к их интересам. В большинстве органов русской печати сказывается настроение в пользу уравнения евреев в общегражданских правах», и почти все согласны уравнять евреев с другими русскими гражданами, но почему какая-то «темная сила двигает еврейскую молодежь на безумное поле политической агитации? Отчего это в редком политическом процессе не фигурируют евреи, и непременно в видных ролях?.. Такое явление, как поголовное уклонение евреев от отбывания воинской повинности и как обязательное участие евреев и евреек в каждом политическом процессе, не может послужить на пользу дела расширения еврейских прав… если желаешь иметь права, то предварительно должен доказать на деле, что сумеешь исполнять и обязанности, неразрывно связанные с правами… чтоб в отношении к общим государственным и общественным интересам еврейское население не выделялось в таком безвыгодном для себя и крайне мрачном свете» (Голос. 1881. 15 февраля).
Аресты продолжались, в том числе часто попадались и лица с еврейскими фамилиями. Рысаков и его сообщники признавались в своих злодеяниях, называли фамилии, адреса, суд над ними откладывался.
Тяжкие думы не оставляли Милютина в эти дни. Он знал, что реакция собирается вокруг Победоносцева, те, кто поддерживает Лорис-Меликова, – вокруг Петра Шувалова. Какой путь изберет Александр Третий? Ни Лорис-Меликов, ни Милютин, ни Абаза, ни Валуев не останутся в министрах… «Какие же люди займут их места? – часто думал в эти дни Милютин. – Какая будет их программа? Если возьмут верх русофильские воззрения Победоносцева и ему подобных, если победит реакция под маской народности и православия – это верный путь к гибели для государства».
Бывая на суде в Сенате над преступниками, участвовавшими 1 марта в цареубийстве, слушая речи всех шести привлеченных к делу подсудимых: Желябова, Кибальчича, Рысакова, Михайлова, Перовской и еврейки Гельфман, этих несчастных фанатиков, которые откровенно и даже с каким-то хвастовством рассказывали о своей подготовительной работе, особенно выделялись Желябов, личность выдающаяся, и Софья Перовская, не скрывавшая своей руководящей роли в обществе, хотя на вид она скромная, неразвившаяся девочка, а ей уже было двадцать шесть лет, Милютин неотступно думал…
А ведь все они пятеро случайно пойманные преступники на месте преступления, но многие другие посылали их на это злодеяние. И вот они-то и есть главные виновники всех покушений и раздора в обществе. «И все они на свободе, остаются неизвестными, продолжают действовать в самом Петербурге, они издеваются над полицией, да и как не издеваться над такими противниками, каков градоначальник Баранов и компания. Вера Засулич, Гольденберг, Кравчинский, Гельфман, Натансон, Дейч… Сколько их уже повешено, приговорено к ссылке, каторге… Заметен след польского мщения за неволю, еврейский след за то, что император отменил черту оседлости, хотя дал образованной части еврейского общества громадные привилегии… Да и кого ни взять, финнов, латышей, грузин, армян… Все они мечтают о свободе своего племени. А мы тут боремся за допуск земских деятелей к управлению государством… А Победоносцев тянет к укреплению монархического строя, когда все зависит от монарха. Какая громадная мина лежит под нашим управлением, вот-вот взорвется…»
В придворной жизни разлетелся слух, что Милютина думают поставить на место великого князя Константина Николаевича, которого намерены отправить в отставку, председателем Государственного совета. Узнав об этом, Милютин взмолился: нет, ему пора на отдых, ни в коем случае он не примет это новое, непосильное бремя.
29 марта 1881 года по решению Сената все преступники признаны виновными и приговорены к повешению.
28 марта, в день окончания судебного процесса, профессор Владимир Соловьев, сын известного историка Сергея Михайловича, в лекции «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса» обратился к императору с просьбой помиловать преступников, убивших Александра Второго.
29 марта Милютин записал в дневнике: «Много еще толкуют о недавней публичной лекции нашего юного философа Соловьева, возбудившего страшное негодование своею безумною при настоящих обстоятельствах выходкой о том, что русский царь, чтобы быть верным «идеалу русского народа», должен помиловать цареубийц. Выходка эта вызвала взрыв рукоплесканий и одобрения в большей части аудитории, наполненной молодежью обоего пола, заведомо сочувствующей социалистическим учениям. Зато из другой части слушателей некоторые чуть не избили юродивого философа».
31 марта Милютин впервые делал доклад в Гатчине, которая оставила в нем мрачные впечатления. Несколько рядов часовых окружали дворец и парк, сновали полицейские чины и конные разъезды, бродили по парку секретные агенты. Император и императрица живут в полном одиночестве, принимают посетителей только по средам и пятницам.
В эти дни граф Строганов, внимательно следивший за новостями, приехал к Победоносцеву и рассказал, что в обществе ходят слухи о помиловании цареубийц, а это недопустимо. Победоносцев тут же написал Александру Третьему письмо, в котором умолял его эту казнь совершить. На письме Победоносцева Александр Третий начертал: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за что я ручаюсь. А.».
В обществе стало известно и послание императору от руководителей «Народной воли», которые обещали прекратить террор, если помилуют шестерых преступников. Стало известно также и о том, что Лев Толстой обратился к Победоносцеву передать Александру Третьему его просьбу – помиловать преступников. И не только Лев Толстой…
В апреле состоялось еще одно совещание, на котором вроде бы победили реформаторы. Но они ошиблись. Александр Третий написал Победоносцеву о своих впечатлениях об этом совещании: «Сегодняшнее наше совещание сделало на меня грустное впечатление. Лорис, Милютин и Абаза положительно продолжают ту же политику и хотят так или иначе довести нас до представительного правительства, но, пока я не буду убежден, что для счастья России это необходимо, я не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убежусь в пользе подобной меры, слишком я уверен в ее вреде. Странно слушать умных людей, которые могут серьезно говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма. Более и более убеждаюсь, что добра от этих министров ждать я не могу…»
В эти дни разнеслась весть, что Дмитрию Милютину могут предложить занять место наместника и главнокомандующего на Кавказе.
28 апреля вновь собирались в Гатчине те же министры и те же великие князья. Впервые собравшиеся услышали из уст великого князя Владимира Александровича, что 1 марта Александр Второй подписал доклад секретной комиссии и, когда Лорис-Меликов с подписанным документом вышел, сказал в присутствии великих князей: «Я дал свое согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции». На этом вроде бы благополучном конце и завершить очередное совещание в первом часу ночи, но неожиданно министр юстиции Набоков заявил, что на следующем совещании, то есть завтра, он прочитает подготовленный высочайший манифест. Победоносцев признался, что манифест сочинил он по поручению императора.
Прочитав манифест, опубликованный в «Правительственном вестнике», Милютин понял, что император уверен, что только самодержавная власть без всяких уступок необходима сейчас России. И горько пожалел об этом. Как мог император обратиться к русскому народу с таким бессодержательным манифестом? Через два месяца после восхождения на престол? Мыслящие люди, образованное общество увидят, что молодой император объявил о твердом намерении удержать всей силой самодержавные права своих предков. Только наметилось движение к лучшему, продолжение великих реформ 60-х годов, к более совершенному государственному устройству. «Оставьте всякую надежду» – вот сущность нового манифеста. Точно так же манифест поймут и в России, и в Европе. Сколько людей надеялись на мирные реформы, а теперь все отшатнутся, только Победоносцев и Катков, который тоже принимал участие в подготовке манифеста, останутся довольны. А все протестующие качнутся к революционерам? Их сейчас хоть пруд пруди… Декабристы, Герцен, социалисты-шестидесятники, теперешние террористы, в том числе и аристократка Софья Перовская… Что им нужно? Блестящий оратор Андрей Желябов ратовал не за собственные права, он говорил о народе, он говорил о катастрофической разнице в жизни богатых и бедных…
1 мая Лорис-Меликов и Абаза подали прошение об отставке. Император предложил Милютину место наместника и главнокомандующего на Кавказе. Но Милютин отклонил его, напомнив императору свое прошение об отставке: утомлен физически и нравственно.
В мае Милютин прощался со своим министерством, с юнкерами, которых очень любил, они вынесли его на руках и посадили в экипаж, с генералами, сотрудниками министерства. В газете «Новое время» было сообщение, что Дмитрий Алексеевич Милютин прослужил военным министром ровно двадцать лет. Милютин выдал старшую дочь за князя Шаховского, похоронил свою сестру Марию Алексеевну Мордвинову, навестил новых родственников князя и княгиню Шаховских и направился в родной Симеиз.
18 июня 1881 года Милютин записал в дневнике: «Вполне наслаждаюсь прелестью своего любимого уголка; забываю охотно оставленное в Петербурге, кроме только того радушия, только того радушия, которое мне было выказано в последние дни перед отъездом, не только людьми близкими, но и многими из числа казавшихся в отношении ко мне совершенно равнодушными».
Эпилог
Дмитрий Алексеевич Милютин прожил долгую жизнь, он скончался в 1912 году, девяноста шести лет от роду. Чуть раньше скончалась его верная жена Наталья Михайловна. Дмитрий Алексеевич крестил своего первого внука Дмитрия Гершельмана в 1881 году, а похоронил свою дочь Елену Гершельман, только что родившую дочь, так и не пришедшую в себя после родов, в 1882 году, похоронил и сына Дмитрия в 1905 году.
Не только успешная служба при Александре Втором выделяет его из толпы царедворецев, он так много сделал для улучшения русской армии, потерпевшей свое поражение в Крымской войне и победившей после реформы в Восточной войне, дошедшей до стен Константинополя, и только руководство страной не позволило ей войти в Константинополь-Стамбул, столицу Турции с ее перепуганным султаном.
Наслаждаясь прелестью Симеиза, Милютин был все время озабочен тем, что делалось в новом правительстве, что делал самодержавный властелин Александр Третий… Что самой влиятельной фигурой в Отечестве будет Победоносцев, он не сомневался, но что министром внутренних дел станет граф Дмитрий Толстой – это его просто поразило, «это не только странно, оно чудовищно… Гр. Дм. Толстой сделался ненавистным для всей России» (т. 4. С. 139). Ему известно было и после разговора с Александром Третьим, что военным министром император может назначить генерала Ванновского, бывшего начальником штаба корпуса, которым командовал цесаревич во время Восточной войны, так оно и случилось. Но первые же распоряжения военного министра насторожили Милютина, он делает шаг назад по сравнению с тем, что он совершил: он привел вооруженные силы России в уровень с западными странами как по количеству, так и по готовности к быстрой мобилизации, что Россия продемонстрировала, готовясь к войне за христианские страны и освобождая их от турецкого многовекового ига. Судя по всему, Ванновскому поручено переделать все существующее военное управление, создана комиссия под председательством графа Коцебу, цель которой в том, чтобы уменьшить военные расходы. Генерал Обручев прислал ему успокоительное письмо, в котором сообщил Милютину, что военное ведомство – «такое грандиозное и фундаментальное, что исторический обозреватель и не заметит делаемых в нем поделок и переделок». Но и письмо Обручева не успокоило Милютина.
Уволили графа Валуева, на его место поставили Рейтерна; уволили Философова и главным военным прокурором назначили князя Имеретинского; возникло странное общество под руководством Демидова, князя Сан-Донато, куда входят светские люди и гвардейские офицеры, золотая молодежь, так называемая Священная дружина для охраны государя императора.
Салтыков-Щедрин в «Письмах к тетеньке» остроумно высмеял первые преобразования нового императора (Отечественные записки. 1881. № 1–3). Но цензура внимательно следила за прессой, ограничивала возможности выступлений против Каткова и «Московских ведомостей».
Получая «Петербургские ведомости» и вчитываясь в публикуемые здесь статьи, Милютин удивился, как обвинения против Военного министерства похожи на те, которые опровергал он с 1869 по 1873 год, чуть ли не те же фразы авторы употребляли в статьях против Военного министерства, как будто генерал-фельдмаршал Барятинский вспомнил свою полемику против Милютина и вновь предложил свои нелепые реформы. «И вот теперь, – записал в дневнике Милютин 1 ноября 1881 года, – по прошествии 12 лет, снова всплывают прежние нелепые обвинения Военного министерства в неограниченном властолюбии, в намерении будто бы принизить значение главнокомандующего армией, подчинить его министру и отстранить от государя. Очевидно, что авторы явившихся ныне статей принадлежат к той же шайке интриганов, которая в 1869 и в 1873 годах орудовала под знаменем фельдмаршала кн. Барятинского. После неудачного его похода против Военного министерства окружавшая фельдмаршала шайка притихла, но теперь, видно, признала время удобным, чтобы снова поднять свою бессовестную голову» (Милютин Д.А. Дневник. Т. 4. С. 116). Вскоре Милютин узнал из письма Головнина, что статьи в «Петербургских новостях» возбуждают «общее негодование и омерзение».
Подводя итоги 1881 года, Дмитрий Милютин назвал этот год «тяжелым для России»: «Трагическая катастрофа 1 марта произвела резкий перелом в нашей государственной и общественной жизни. Разочарование, которым можно охарактеризовать общее настроение в последние годы прошлого царствования, с первых же дней нового царствования сменилось полною безнадежностью». И в личной жизни это был «год крутого перелома». А 31 декабря 1883 года Милютин, рассуждая о «неутешительном положении» государства, о перемене нескольких лиц в правительстве, о близорукости и заблуждениях руководителей государства, главный упрек бросил по адресу представителей образованного общества: «Последние два-три года тем в особенности грустны, что они обнаружили всю слабость убеждений и взглядов в так называемой интеллигенции нашей, выказали всю нашу незрелость. Сказать ли попросту? Мы оказались стадом баранов, которое бежит туда, куда бежит передний козел. Вот что грустно» (Милютин Д.А. Дневник. Т. 4. С. 5–6).
Использованная литература
Дневник Д.А. Милютина. Т. 1–4. М. 1947–1950.
Милютин Д.А. Воспоминания. 1816–1843. М., 1997.
Милютин Д.А. Воспоминания. 1843–1856. М., 2000.
Милютин Д.А. Воспоминания. 1860–1862. М., 1999.
Милютин Д.А. Воспоминания. 1863–1864. М., 2003.
Бородкин М.М. Граф Милютин. Б. д.
Симонов П.С. Граф Милютин. Спб. 1912.
Жервэ Ник. Граф Д.А. Милютин. К 90-летию его рождения. 1816 – 28 июня – 1906 г. Издание «Военного голоса». СПб. 1906.
Щебельский П.К. Н.А. Милютин. М., 1882.
На кончину Николая Милютина. Сб. статей. М., 1872.
Страшевич Л. Взгляды Н.А. Милютина. СПб. 1897.
Кизеветтер Н.А. Кузнец-гражданин. Изд. 2. Ростов, 1905.
Исследования в Царстве Польском Н.А. Милютина. СПб. 1863–1864.
Письмо Н. Милютина 1861 г. Публикация Л.З. Захаровой / Российский Архив. 1991. Т. 1.
Ковалевский Н.Ф. История государства Российского. М., 1997.
Александр II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1995.
Переписка наместников Королевства Польского. Янв. – авг. 1863. Вроцлав, 1974.
Андреев А.Р. Последний канцлер Российской империи Александр Михайлович Горчаков: Документальное жизнеописание. М., 1999.
Базаров НИ. Светлейший князь A.M. Горчаков. Из воспоминаний его духовника // Русский архив. 1896. Кн. 1. С. 328–351.
Барсукова П. Жизнь и труды М.П. Погодина: В 22 т. СПб., 1901–1902.
Бисмарк О. Воспоминания. Мемуары. М., Минск, 2002.
Палмер А. Бисмарк. Смоленск. 1998.
Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Жизнь и труды. СПб., 1999. С. 168–379.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Священный союз от Венского до Берлинского конгресса. 1814–1878: В 2 т. Ростов н/Д, 1995.
Шильдер К. Граф Тотлебен. Т. 1–2. СПб., 1885–1886.
Долгоруков П.В. Правда о России: В 2 т. Париж, 1861.
Долгоруков П.В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992.
Катков МН. 1863 год. Собрание статей по польскому вопросу. Вып. 1–2. М., 1887.
Заблоцкий-Десятовский А.Л. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 1–4. СПб., 1882.
Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926.
Струве П.Б. Избранные сочинения. М., 1999.
Струве П.Б. Patriotica: политика, религия, культура. М., 1997.
Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864. Т. 1–2. Вильна, 1915.
Муравьев М.Н. Записки его об управлении Северо-Западным краем // Русская старина. 1882. № 11.
Восстание 1863 года и русско-польские революционные связи 60-х годов: Сборник статей и материалов. М., 1960.
Цылов Н. Сборник распоряжений графа М.Н. Муравьева по усмирению польского мятежа в Северо-Западных губерниях. Вильна, 1866.
Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870-х годов в России. М., 1972.
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов. М., 1964.
Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1958.
История дипломатии: В 3 т. Т. 1. М., 1941.
Князь Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого // Русская старина. 1883. Т. 4. С. 159–180.
Корф М.А. Из дневника // Русская старина. 1904. Т. 118. С. 545–568.
Переписка императора Александра II с Великим князем Константином Николаевичем. 1857–1861. Дневник Великого князя Константина Николаевича. 1858–1861. М., 1994.
Николаев Всеволод. Александр II. Биография. М., 2005.
Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1990.
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1910.
Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863 г. И европейская дипломатия. Л., 1957.
Соловьев Я.А. Крестьянское дело в 1856–1859 гг. // Русская старина. 1880. Т. 27. С. 319–362.
Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование: В 2 т. СПб., 1903.
Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. М., 1991.
Форсова В.В. Военная реформа Александра II // Вестник РАН. 1995. Т. 65. С. 826–835.
Чернуха В.Т. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х годов XIX века. Л., 1978.
Чернуха В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60-70-е годы XIX века). Л., 1972.
Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX века.
Семенов П. Я. И. Ростовцев в 1860 г. // Русская старина. 1880. Т. 27. Кн. 3.
Шепелев Л.Е. Чиновный мир России (XVIII – начало XX века). СПб., 2001.
Янов А.Л. Россия против России: Очерки истории русского национализма. 1825–1921. Новосибирск, 1999.
Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Томск, 1919.