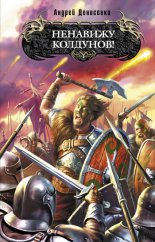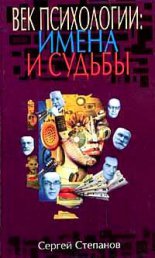Палач, сын палача Андреева Юлия

Но едва я наклонилась, чтобы поднять большую ветку, сзади на меня напали. Я отбивалась, что было сил, но незнакомец рвал на мне платье, пытаясь овладеть мной.
Мне удалось перевернуться на спину и оттолкнуть от себя напавшего ногами, после чего я увидела, что это мой сосед – дровосек Пауль Тетте, который обычно здесь же рубит лес.
Я закричала на него, обещая, что пойду жаловаться в суд. Тогда дровосек вынул из-за пояса небольшой топорик и, схватив меня за волосы, поволок к дереву, где я думала, что лишусь головы, но мерзавец отсек мне кисть руки. Как я теперь буду без руки, ваша милость?! Мало мне того, что прошлым летом утоп мой Яков, что чума унесла двоих наших детей, теперь я урод, который может только попрошайничать на улицах и сдохнет в какой-нибудь канаве!
– Теперь для вас важнее, чтобы вас не объявили ведьмой и не сожгли на костре, – мягко сообщил ей Петер. После чего приказал женщине одеться в тюремную робу и забрал ее одежду.
Осмотрев бедное платье, нижнюю рубашку и старенький бархатный корсаж подозреваемой, Миллер так же не обнаружил на вещах волчьей шерсти.
Глава 2
Суд в Биттерфельде
Судья должен пускать в ход разные способы воздействия, не исключая и хитростей, предлагая друзьям обвиняемого склонить его к сознанию в преступлении и стремясь получить добровольные обличающие его показания.
Генрих Инститорис, Якоб Шпренгер «Молот ведьм»
Судья считал необходимым как можно скорее казнить Берту Гросвинтер и отпустить дровосека. Миллер же был решительно против такого решения, считая, что права все-таки женщина.
Он снова допросил дровосека, и тот показал, что не знает никакой фрау Гросвинтер, что было само по себе странно, так как женщина показала, что они часто работали в одном лесу, кроме того, Пауль Тете является ее соседом. А значит они не могли не знать друг о друге.
Маленькая ложь порождает большое недоверие. Миллер спросил дровосека о том, почему он убегал от стражи, и тот ответил, что бежал по привычке, так как забыл заплатить в казну пошлину за пользование лесом и потому что вообще привык бегать от стражи. Потому что так поступали все горожане с самого детства и потому как чего от них ждать, кроме неприятностей, от этих военных?
Когда Миллер поинтересовался, что было в суме Пауля Тете, тот, не моргнув глазом, ответил, что там лежала волчья лапа.
«Почему вы не выбросили лапу в лесу»?
«Потому что хотел показать ее друзьям. Не каждый же день удается встретиться в лесу с волком и остаться в живых».
Миллер скреб подбородок, измышляя, как спасти явно невиновную женщину, в то время как вокруг тюрьмы собирались толпы народа, требующие немедленного сожжения ведьмы. Тут же выяснилось, что у кого-то волк задрал овцу, а у кого-то напал на собаку. Кто-то пожаловался на внезапную смерть некрещеного младенца. У кого-то вдруг, ни с того ни с сего, появился нарыв на самом интересном месте.
Народ требовал справедливого возмездия, и судья, уже жалеющий, что поручил дело заезжему инспектору, теперь ходил кругами вокруг Петера Миллера, умоляя его как можно скорее вытянуть у ведьмы признание, чтобы можно было ее благополучно сжечь.
Наконец Миллер пришел к единственно правильному, как казалось, решению, разрешив для успокоения толпы устроить показательный процесс.
Дав высказаться Паулю Тете, Миллер снова спросил его – знает ли он госпожу Гросвинтер, и тот подтвердил сказанное на допросе, что она ему не известна. Тогда, довольный собой Миллер, попросил помогающего ему судебного исполнителя поведать суду, где живет Пауль Тете и где проживает Берта Гросвинтер, и могло ли быть такое, чтобы Пауль Тете не знал или хотя бы не видел этой женщины?
После чего дровосек взял свои слова обратно, признавшись, что, безусловно, знаком с фрау Гросвинтер, тем не менее боялся признаваться в этом, так как та оказалась ведьмой и оборотнем, в чем он готов поклясться под присягой.
После чего Миллер показал суду одежду Пауля Тете и Берты Гросвинтер, объясняя, что ни на той, ни на другой нет никакой шерсти, что странно, так как тело волка покрыто шерстью, которая должна была выпасть в момент превращения из волка в женщину.
На что присутствующий тут же обвинитель возразил, что ему известно о процессах над оборотнями, где говорилось, в частности, о том, что во время трансфигурации оборотня в человека, шерсть испаряется подобно серому туману.
Петер Миллер показал на царапины на теле Пауля Тете, утверждая, что те сделаны ногтями, а, следовательно, дровосек боролся с женщиной, а не с волчицей.
На что обвинитель возразил, что природа ногтей оборотня может быть как чисто волчьей, так и представлять собой некую смесь между волком и человеком. И почему бы ведьме не обратиться в волчицу с человеческими ногтями?!
Последнее утверждение показалось суду надуманным, ибо, если уж женщина обратилась волком для того, чтобы убить свою жертву, зачем ей было оставлять на лапах хрупкие человеческие ногти?
Так что Петер Миллер получил лишний плюс и похвалы присутствующих на суде зрителей.
После чего он еще раз попросил Пауля Тете рассказать суду, при каких обстоятельствах на него напала волчица. Когда же он снова сообщил о том, что волчица застигла его за рубкой огромного дерева, Миллер вызвал начальника стражи, который по его просьбе рассматривал оное дерево. Вместе с другим стражником они взялись за руки, показывая, каким дерево было в обхвате. И Пауль Тете подтвердил ими сказанное.
– Тогда, отчего же вы рубили такое огромное дерево таким крохотным топориком? – выбросил свой последний козырь Петер.
В зале суда возникло замешательство. Все кричали, спорили, доказывая друг другу невозможность справиться с такой огромной работой таким незначительным орудием.
– Я отрубал им сучья! – уже понимая, что попал в собственные силки, перекрикивая собрание, пытался выкрутиться Пауль Тете.
– Я могу понять, что вы взяли с собой два топора, – примирительно начал Миллер, – но как объяснить, что когда на вас напал матерый волк, вы бросили большой топор, вынули из сумки маленький и только после этого приступили к отражению атаки?
Желая окончательно добить дровосека, Миллер тут же спросил у начальника стражи, называя его бравым офицером и настоящим героем, может ли он представить себе подобный порядок действий. И к чему может привести медлительность человека, на которого внезапно нападает здоровенный волк.
На что тот сразу же ответил, что если бы все было так, как изложил господин комиссар, Пауля Тете сейчас не было бы в живых. Или, по крайней мере, он был бы на смертном одре,изорванный когтями и зубами хищника.
Понимая, что своим расследованием он уже перевел Пауля Тете из категории жертвы в категорию насильника и лжесвидетеля, но при этом не помог ни на йоту действительно пострадавшей женщине, которую теперь обвиняли жители Биттерфельда, считавшие, что она ведьма и оборотень, Миллер решил во что бы то ни стало спасти ее от костра.
Это было сложно, так как народ давно уже толпился возле здания суда, требуя возмездия или грозясь в любой момент напасть на стражу и подпустить в здание суда красного петуха.
Чувствуя себя угрем на сковородке, Миллер принял единственное возможное в таком случае решение и на правах инспектора во всеуслышанье объявил Пауля Тете колдуном и оборотнем.
Во внезапно наступившей тишине он сообщил, что на самом деле Пауль Тете напал на госпожу Гросвинтер единственно с целью, изуродовав ее, забрать руку, которая была необходима ему для дьявольского ритуала.
Судья попросил дровосека подтвердить и опровергнуть сказанное комиссаром, и тот, трясясь точно осиновый лист и писая себе в штаны, прошептал, что не имеет отношения к колдовству и является честным католиком. После чего заседание прервалось, а Пауль Тете был доставлен в камеру, и вскоре к нему был вызван палач.
Прекрасно понимая, что посылает на костер невиновного, Миллер утешил себя тем, что за содеянное преступление Тете все равно грозила бы виселица, а так и город получит вожделенный костер, и несчастная Берта будет освобождена.
В том, что местный палач знает свое дело, он был уверен, хотя, если бы его об этом попросили, не погнушался бы помочь вытянуть необходимое признание.
Так что уже на следующий день состоялось заключительное слушанье, на котором Пауль Тете был приговорен к сожжению.
Понимая, что Берта Гросвинтер теперь не может уже зарабатывать себе на жизнь сбором хвороста, Миллер забрал ее с собой, объясняя свой поступок тем, что не все еще понятно с этой особой, и самое милое показать ее другим комиссарам в Ортенау, где есть возможности для проведения знаменитой водной пробы и где она будет находиться вплоть до окончании расследования.
В тот же год, Берта Гросвинтер была отправлена в одну из деревенек, в которой жили сбежавшие из тюрем люди, где она была приставлена пасти стада гусей.
Глава 3
Опасный преступник
Демоны, отосланные на греховные дела, находятся не в аду, а здесь, в пределах нашего темного земного воздуха. Поэтому-то они и имеют здесь иерархию, которая будет отсутствовать в аду.
Генрих Инститорис, Якоб Шпренгер «Молот ведьм»
Петер вернулся в Ортенау, где теперь у него был большой дом и где жили Грета и Клаус, через неделю, после того как туда переехал со всем добром, библиотекой и оставшейся прислугой фон Канн. Он заранее знал дом, который приглядел для себя бывший верховный судья, и даже помогал ему, наводя справки о соседях и одолжив на первое время свою экономку. Тем не менее встретиться им не удалось.
Дом фон Канна был закрыт и запечатан, никого из слуг не было. Почесав в затылке, Миллер решил разузнать в городском совете, куда мог подеваться его друг и покровитель, но не успел это сделать, так как его самого спешно вызвали туда.
От внимания Миллера не укрылось, что у парадного подъезда, где кроме лакеев в любое время дня и ночи стоит пост гвардейцев, сегодня теснились кареты с гербами судей Ортенау.
Поднимаясь по белой мраморной лестнице, Миллер был принужден вертеть головой, постоянно здороваясь и раскланиваясь с местной знатью, это могло говорить только об одном – сегодня в Ортенау решается что-то архисерьезное, и это что-то имеет отношение к суду, палаческому мастерству, и возможно, ведовству. Иначе, зачем было вызывать малозначительного инспектора по делам ведьм в такое прекрасное собрание. На втором этаже у дверей в главный зал толпились приглашенные придворные. Так что Миллер хотел было встать в сторонку, дожидаясь вместе со всеми аудиенции у герцога или кого-нибудь из важных чинов, по чьему приказу Миллер был вызван в городской совет, в то время как присланный за ним слуга упорно приглашал его зайти в зал.
Все это было более чем странно и малоприятно, так как маленький Петер Миллер вдруг оказался в центре внимания, а этого ему вовсе не хотелось.
Украшенные золотом двери распахнулись как раз в тот момент, когда Миллер поравнялся с ними, так, словно стоящий за дверьми лакей подглядывал за приглашенными через замочную скважину.
Петера Миллера тут же взяли за руку и, заперев за ним дверь, проводили в самый темный угол зала, где ждал его разодетый по случаю собрания в свой лучший камзол розового цвета и каштановый парик герцог Аугуст Годельшаль, сюзерен Ортенау.
Сюзерен города в тот день был встревожен и более взвинчен, чем обычно. Казалось, что он пытается решить какую-то важную и пугающую его самого задачу, но просто не может заставить себя приступить к ней.
– Должно быть, вы уже догадываетесь о цели, ради которой я попросил вас явиться сегодня? – проницательно глядя на Миллера, начал разговор герцог.
– Понятия не имею, – Миллер простовато развел руками.
– Ну да, ну да, конечно. Признаться, самый догадливый из наших подданных не смог бы предсказать того, что у нас приключилось! Тем не менее я все же надеялся, что вы окажетесь умнее умных. Впрочем, не будем ходить вокруг да около. Эти крысы давно уже толкутся на лестнице, и я не могу заставлять их ждать дольше положенного. Так что сразу к делу, – он нервно сцепил пальцы, так что перстни на них ударились друг об друга. – До того как принять должность комиссара, вы служили в Оффенбурге первым палачом. Так ли это?
– До того как принять должность главного комиссара с особыми полномочиями карать или миловать, – поправил герцога Миллер, сдвинув брови. Начало разговора ему не понравилось.
– Все верно. Не будем придираться к словам, у нас слишком мало времени. Да и речь, честно говоря, не о вас.
Петер напрягся, герцог Годельшаль говорил почти шепотом, так что Петеру приходилось нагибаться к самым устам хозяина Ортенау, тем не менее светлейший герцог не догадывался или попросту не собирался предложить ему стул.
– Помните ли вы верховного судью Оффенбурга господина Себастьяна фон Канн?
– Прекрасно помню, – у Миллера сжалось сердце.
– Замечательно, – судья старался не глядеть в лицо Миллера, разглядывая свои перстни. Один из них оказался недостаточно блестящим, и герцог был вынужден потереть его об атласные панталоны. – И каков он был в Оффенбурге?.. этот ваш верховный судья?
– Что я могу сказать о своем бывшем начальстве? Начальство как начальство. Насколько я знаю, когда я уезжал из Оффенбурга, он верой и правдой служил тамошнему бургомистру свыше десяти лет и…
– И за эти десять с лишним лет на его работу не было никаких нарекании?! – всплеснул руками герцог Годельшаль.
– Простите, мой господин, светлейший герцог, но откуда мне знать? – смутился Миллер, ему не нравилось стоять, согнувшись, так как начинала ныть спина. – Нижестоящие обычно не должны лезть в дела вышестоящих, – он чуть разогнул поясницу, переминаясь с ноги на ногу.
– Никто и ничего не знал. Признаться, я сам пригласил Себастьяна фон Канн и даже предложил ему на выбор несколько должностей при моей особе и в суде. Но, кто же мог знать! В общем, оказывается в Оффенбурге сейчас идет шумный процесс по делу двоих работавших у него женщин, которые признались в том, что они посвящали себя дьяволу, служа ему в постели. А дьяволом был сам фон Канн!
– Себастьян фон Канн! – Миллер поймал себя на том, что чуть не выкрикнул это имя, выдохнув его, как выдыхают вопль боли.
– Да, мне написал бургомистр Оффенбурга, к письму прилагаются копии протоколов допросов, в которых эти женщины разоблачают коварного судью. И я не вижу повода для недоверия. В общем, так. Я приказал задержать фон Канна со всей его прислугой, и теперь он находится в нашей тюрьме. От вас же я жду, чтобы вы на время заняли место палача и вытянули из преступника показания, – говоря это, герцог Годельшаль вдруг начал заикаться, его глаза бегали, а руки не находили себе места, теребя золоченые пуговицы камзола или дергая великолепные кружева манжеток. – Потому как для человека такого ранга, как фон Канн, я обязан дать и лучшего палача. А у меня нет лучшего палача! Одни бездарности и тупицы! Короче, господин Миллер, я повелеваю вам лично заняться фон Канном и сделать все так, как вы умеете.
Оглушенный и опустошенный свалившемся на него известием Петер Миллер вернулся домой, где взял свой старый костюм, сундучок, и приказав жене собрать с собой все самое вкусное, что ни есть в доме, и упаковать пару бутылок дорогого, купленного на случай неожиданного визита к Миллерам кого-нибудь из начальства, Петер кликнул с собой Клауса. И вместе нагруженные и молчаливые она отправились в тюрьму.
Идти следовало недалеко, всего-то два квартала, но Петеру Миллеру вдруг показалось, что он идет и идет по бесконечной мощеной булыжником мостовой, и, никогда не будет конца этой дороге. Да лучше бы так и было, лучше бы ему идти и идти, смотря на дома и серое небо. Идти вечно. Лучше бы никогда больше ему не видеть тюрьмы, где ждет его приготовленный к пытке гроссмейстер ордена Справедливости и Милосердия, добрейший и справедливейший из людей, когда-либо живущих на земле – Себастьян фон Канн.
Тем не менее он шел, прекрасно понимая, что просто не может позволить себе малодушно умереть где-нибудь на дороге, потому как Себастьян фон Канн в этот момент ждет именно его – своего друга, и, кто знает, может быть именно он – Петер Миллер, сумеет спасти его тело от костра.
Глава 4
Перевернутая ворона
Если при этом допросе выявились улики ее колдовского искусства в виде упорного умалчивания правды или в виде отсутствия слез, или в виде нечувствительности при пытке, сопровождаемой скорым и полным восстановлением сил, то тогда судья прибегает к различным, в свое время указанным уловкам, чтобы узнать правду. Если несмотря на все ухищрения, обвиняемая продолжает запираться, то ее ни в коем случае нельзя выпускать на свободу. Ее следует держать в грязи камеры и в мучениях заключения по крайней мере один год, очень часто допрашивая, и в особенности в праздничные дни.
Генрих Инститорис, Якоб Шпренгер «Молот ведьм»
Себастьян фон Канн сидел в крохотной одиночной камере с окошком, за которым было видно голое почерневшее от частых дождей дерево. На этом дереве любили сидеть вороны, по три на ветке, так что фон Канн, насчитав их в свой первый день ровно девять штук, теперь мог констатировать, что число пернатых не уменьшалось и не увеличивалось день ото дня.
Вороны сидели на ветках, зорко вглядываясь в крохотные зарешеченные окошки тюрьмы, точно птичьи глаза могли видеть, что происходит в темных камерах и не менее темных душах пленников.
После птицы шумно обсуждали увиденное и услышанное, споря и время от времени даже возбужденно махая крыльями, взлетая и тут же возвращаясь на свое раз и навсегда избранное место.
Когда приходило время, вороны спали на тех же ветках, которые занимали днем, цепко обхватывая ветки своими крепкими пальцами с кривыми черными когтями. Иногда их сгонял тюремный сторож, иногда сами птицы вдруг снимались с дерева, улетая по своим птичьим делам. Но потом возвращались, чтобы снова занять свои места.
Однажды утром Себастьян фон Канн поднялся от птичьего крика. Подойдя к окну, он первым делом увидел кружащихся вокруг дерева ворон и, приглядевшись, понял, в чем дело. Одна из ворон не проснулась, спокойно умерев во сне, в то время как ее лапки, по всей видимости, окоченели и продолжали как ни в чем не бывало удерживать мертвое тело на ветке.
Догадавшиеся о произошедшем птицы начали сталкивать покойницу с дерева, тыча в нее клювами, но ничего не получилось, мертвая птица упорно продолжала торчать на ветке. Тогда птицы предприняли новый маневр, они отлетали в сторону и затем неслись на покойницу, чтобы столкнуть ее своими телами. Это привело к тому, что мертвая ворона покосилась в бок и застыла параллельно земле.
К полудню тюремные жители из своих окон могли наблюдать любопытнейшее зрелище – девять сидящих на дереве ворон, из которых восемь сидели ровно, а девятая держалась за ветку, вися в скособоченном положении.
Вечером птицы долго не могли заставить себя заснуть, снова и снова атакуя покойницу.
Утром, выглянув из окна, Себастьян фон Канн чуть было не закричал, пораженный увиденным. Мертвая ворона висела вверх ногами, с упорством статуи держась за ветку мертвыми когтями и пальцами, в то время как ее уже должно быть отчаявшиеся товарки сидели прямо, тихо переговариваясь друг с другом.
После обеда местный сторож не выдержал и начал кидать в перевернутую ворону камнями, пытаясь скинуть ее с дерева, но и у него ничего не получилось.
Мертвая птица провисела на своей ветке еще три дня, после чего вдруг самопроизвольно свалилась к ногам проходящего через тюремный дворик невысокого человека в черном камзоле и в аккуратном парике, за которым следовал светловолосый мальчик в теплой короткой курточке и шерстяных панталонах. В руках Петер Миллер нес сундучок с палаческими приспособлениями, а его сын Клаус – узел с едой и вином, который завернула для них и фон Канна Грета.
Не смотря на то, что Себастьян фон Канн знал о приезде Миллера и где-то даже был рад, что хозяин Ортенау догадался вызвать именно его, при мысли о пытках сердце его ушло в пятки, а на лбу выступил холодный пот. Дело в том, что мудрый верховный судья Оффенбурга и неуловимый гроссмейстер ордена Справедливости и Милосердия больше всего на свете боялся боли.
Он не терпел боль ни в каких ее проявлениях и впадал в отчаяние при первых симптомах появления зубной боли. Но не собственные страдания на самом деле страшили некогда всесильного гроссмейстера, а единственно то, что под пыткой он мог выдать секреты своего ордена, имена и местонахождение спасенных из-под следствия людей. Это не давало ему покоя, заставляя просить у бога скорой, но, по возможности, безболезненной смерти.
Несколько раз он пытался проломить себе голову о тюремную стену и всякий раз в последний момент малодушно подставлял руку. Фон Канн ненавидел себя за эту слабость – но ничего не мог поделать.
Когда дверь камеры открылась и тюремщик велел ему следовать за собой, фон Канн поднялся на нетвердых ногах, но тут же оправился и, поправив кружевные манжеты и изрядно помятый воротник, постаравшись выглядеть достойно.
Его провели по узкому коридору в небольшой полутемный зальчик, в котором жарко был натоплен камин и за столом сидели равнодушные к его судьбе судьи. Сколько раз сам фон Канн был по ту сторону барьера. Сколько раз он видел, как производятся дознания и пытки, скольких он спас, вырвав из рук правосудия, и вот теперь…
Ему вдруг показалось, что тюрьма сама хочет отомстить гроссмейстеру ордена за то, что тот много раз лишал ее законной добычи. Пытка, за успех которой в Оффенбурге молились перед началом допроса палачи и их жертвы, вдруг словно обрела плоть и начала наступать на него подобно ужаснейшему существу с обрубленными пальцами, болтавшимися из стороны в сторону глазными яблоками и с вывороченной челюстью.
Фон Канн хотел было закрыться от ужасного видения, но в этот момент дверь скрипнула, и вошедший Петер Миллер прогнал адское создание, поклонившись суду и ободряюще улыбнувшись, фон Канну.
Начался допрос. Петер Миллер наблюдал за тем, как судья Якоб фон Гуффидаун и приглашенный инквизитор, имени которого Миллер не расслышал, спрашивают у подсудимого о его имени, должности и месте жительства. Перебрасывая взгляд с лица судьи на лицо фон Канна, Миллер пришел к выводу, что фон Гуффидаун до смерти боится этого, такого влиятельного прежде человека, смущаясь и ненавидя свои обязанности. То же было написано и на лице приора церкви Святого Иоанна. Впрочем, приор и не собирался присутствовать на пытках, шепнув что-то судье и чиркнув свою подпись в протоколе, он поспешно покинул зал суда, не удосуживаясь лишний раз взглянуть на подсудимого.
Это был далеко не первый допрос, но именно сегодня в первый раз на него был приглашен палач. Это говорило о том, что судейские, учитывая высокое положение бывшего верховного судьи, прилагали немыслимые усилия, для того чтобы разговорить подследственного, выводя его на добровольные признания.
На самом деле суд над таким человеком как фон Канн был не нужен ни герцогу Годельшаль, ни Ортенау. Потому как в случае казни последнего могли начаться пересуды и недвусмысленные намеки на то, что известный своей праведной жизнью бывший верховный судья был оболган и убит в городе, сюзерен которого желал прославиться за его счет. У фон Канна могли найтись именитые покровители и друзья, которые не преминули бы отомстить за поругание его честного имени.
В общем Оффенбургу здорово повезло, что фон Канн уволился со службы и уехал подальше от них, так что теперь, что бы ни случилось с ним, они были бы уже не причастны к произошедшему.
Воспользовавшись тем, что фон Канн вдруг отказался отвечать на какой-то вопрос и, следовательно, пришла очередь уступить место палачу, Миллер подошел вплотную к столу и вежливо предложил судье немного передохнуть после напряженного начала допроса, в то время как он – Петер Миллер попробует подыскать подходящие ключики к упрямству подсудимого.
Это было не по правилам, тем не менее, посоветовавшись с инквизитором, судья с радостью принял предложение. Шутка ли сказать – фон Канн мог в любой момент оказаться невиновным, и тогда, выбравшись на свободу, кому он станет мстить за произведенные над ним издевательства, палачу – который производил пытку, или судье – которого на этот момент времени вовсе не было в пыточном зале?
Выставив вон стражу и отправив в соседний трактир писаря, и оставшись, таким образом, с подсудимым наедине, Петер Миллер тут же вызвал в пыточный зал своего сына, который сервировал судейский стол. После чего они все втроем славно отобедали, вспоминая прошлые дела и промывая косточки знакомым, оставшимся в Оффенбурге.
Оказалось, перед приездом Миллера Себастьян фон Канн съездил в Вюрцбург, где посетил фон Шпее, который принял у него последнюю исповедь и по просьбе самого фон Канна подготовил его душу к смерти.
– Все, о чем я вас прошу, драгоценный мой друг, – фон Канн улыбнулся Миллеру, поднимая бокал за его здоровье, – все, о чем я смею умолять вас, находясь, по сути дела, на смертном одре, это просьба помочь мне поскорее отойти в мир иной, – он посмотрел в чистые глаза Миллера, стремясь предать своему взгляду как можно больше твердости.
– Постойте, ваша честь, я все-таки комиссар и сделаю все возможное, для того чтобы вытащить вас из тюрьмы. Не так ли, Клаус! – попытался ободрить фон Канна Миллер. – Вы еще вполне здоровый, сильный человек и сможете выдержать пару дней допроса с пристрастием, даже если мне и придется доставить вам некоторые связанные с моей работой неудобства. Впрочем, я говорю только о неудобствах, так как, уж поверьте моему опыту, многие пытки можно сделать страшными только внешне. Я, конечно, не говорю о дыбе и пресловутых ведьминых креслах, о ложе или о люльке, которую изобрел и создал некогда работающий под моим началом Филипп Баур, и которую наши палачи почему-то зовут кобылой. Но, думаю, что до этого и не дойдет. Что же касается зажимов, то тут все вполне легко.
– Простите, господин Миллер, Петер, но я говорю то, что знаю. Я не выдержу пыток, и тогда пропадут все. Все, Петер, и даже вы!
– Но, – Миллер задумался, – ваша честь, должно быть, не поняли, что я могу сделать вашу пытку страшной только для стороннего наблюдателя, в то время как вы почувствуете разве что небольшой дискомфорт. Возможно, вам придется потерпеть небольшое сжатие, или я проткну у вас кожу иголкой. Простите, но от этого еще никто не умирал. Главное, протянуть время. И если не удастся оправдать вас перед судом, тогда фон Шпее соберет наших людей и мы возьмем штурмом тюрьму!
– Стража утроена, – фон Канн махнул рукой, точно отгоняя от себя навязчивое видение скорой смерти. Рядом с Миллером ему было не страшно, а даже напротив, как-то изумительно покойно и светло. Так бы и сидел с ним, попивая винцо всю жизнь. – Стража в тюрьме утроена, и, возможно, ожидая что-нибудь подобное, герцог подтянул для охраны города армию. Мы не сможем укрыться, и, следовательно, вам все же придется как-то убить меня.
– У меня нет с собой даже яда! – оценив ситуацию, сокрушенно помотал головой Миллер. – Давно не применял, вот и не запасся. Что же остается – разве что…
– При этом я хотел бы взять с вас честное благородное слово, драгоценный мой господин Миллер, что вы все сделаете таким образом, чтобы вас самого потом не обвинили в преднамеренном убийстве подследственного. Максимум по неосторожности.
– По неосторожности, так по неосторожности, – Миллер оценивающе оглядел изящную фигуру фон Канна. – Я, конечно, мог бы пронзить ваше сердце иглой, во время поиска ведьминого клейма. Укол останется крохотным и вряд ли его можно будет заметить… – размышлял вслух палач. – Или можно как бы случайно затянуть веревку на шее, я имею ввиду, в момент фиксации головы веревка вдруг скользнет на шею, а палач, не заметив, продолжит закручивать винт. Мне кажется, должно получиться…
– Попрошу без леденящих кровь подробностей! – запротестовал фон Канн. – Ради бога, делайте, что можете, и простите меня за оказанные вам при этом неудобства, ведь, насколько я понимаю, вас ведь накажут за мою смерть?
– Потерпим, – лицо Миллера залила краска стыда, так что он поспешил отвернуться от друга. До сих пор у прославленного палача Миллера ни разу не умирали люди во время допроса, и позволить свершиться подобному было равнозначно для Миллера потерять свою палаческую честь.
Но фон Канн расценил это как стыд за то, что по закону на палача, у которого во время допроса умирал подследственный, возлагался денежный штраф и, кроме того, означенного коновала судья мог приговорить к прилежной порке в пыточном зале или даже при всем честном народе.
Иными словами, прося об услуге добрейшего Миллера, фон Канн отправлял его на болезненное и позорное наказание. Еще более неприятное тем, что здесь, в Ортенау, Миллер занимал достаточно высокое положение.
Осознав это, Себастьян фон Канн так расстроился, что чуть было не лишил себя жизни сам, выхватив у Миллера из-за пояса нож и уже направив на себя острие, когда палач выбил у него оружие.
– Полноте, ваша милость, таким образом вы, пожалуй, еще в рай не попадете. Самоубийство – тяжкий грех, – в своей спокойной манере он старался утешить фон Канна. – Будьте покойны, уже сегодня вы в лучшем виде предстанете перед творцом, так как я даю слово, что убью вас.
Миллер улыбнулся, поправляя на фон Канне кружева. В это время Клаус молча собирал остатки завтрака в платок. К приходу судейских все должно было быть убрано.
Глава 5
Смерть по неосторожности
Среди любых пятидесяти осужденных на сожжение ведьм едва ли найдется пять или две действительно виновных.
Фридрих фон Шпее «Предостережение судьям».
Но хорошо пообещать убить человека, а вот как это сделать при свидетелях, и по возможности, не мучая его?
Тем временем с обеда начали возвращаться судейские. Миллер молча поприветствовал судью, отметив про себя, что тот набрался, пожалуй, больше обычного. На этом можно было сыграть.
Тем временем Клаус уже припрятал свой изрядно похудевший узелок и был готов покинуть пыточный зал, когда судья ласково подозвал его к себе, задавая вопросы о том, как мальчик видит свое будущее и не страшно ли ему перенимать палачево искусство.
В Ортенау все знали про самого юного ученика палача – Клауса, но до сих пор Миллер не брал его с собой ни на заседание городского совета, ни на прием к светлейшему герцогу, ни в суд. Мальчик пару раз выезжал с ним по инспекторским делам в соседние деревни, где, судя по отчетам местных властей, показал себя с наилучшей стороны. В тюрьме же Ортенау он был в первый раз, поэтому не удивительно, что ведущий дело фон Канна судья Якоб фон Гуффидаун выказал к нему интерес и расположение.
Миллер не мешал их общению, думая, что, возможно, сумеет сделать свое дело, пока судья отвлекается на посторонние разговоры.
– Скажи, Клаус Миллер, а ты когда-нибудь сам пытал человека? – спросил судья, заглядывая в голубые глаза мальчика. Тринадцатилетний Клаус был весь в отца, такой же миниатюрный и светловолосый, так что его никак нельзя было принять за ученика палача, проведшего почти всю свою жизнь в тюремном дворике и знавшего о пыточных инструментах ни в пример больше, нежели сам судья да и многие заправские заплечных дел мастера.
– Нет, ваша честь, – Клаус покосился на отца, но так как тот не возражал, шмыгнув носом, продолжил. – Я только иногда ношу за отцом сундучок с инструментами и помогаю ему, распутывая веревки или стирая его вещи.
Откровенность мальчика приятно порадовала фон Гуффидауна еще и потому, что в голосе юного Клауса не чувствовалось ни страха, ни заискивания. А о работе своего отца он говорил хоть и без восторга, но и без омерзения.
– Но, должно быть, ты умеешь не только распутывать узлы? – судья подмигнул ему. – Согласись, что для ученика палача этого не достаточно.
– Я умею связать человека или сковать, знаю, как работают многие устройства, – Клаус потупился. – Что еще сказать, отец учил меня, как следует проводить водную пробу, но у меня все одно пока не хватит сил поднять женщину и перебросить ее через борт лодки или сбросить с моста.
– О, это придет, обязательно придет со временем, – судья ласково погладил Клауса по волосам, продолжая удивляться его спокойствию и уверенности в себе. Мало кто из детей могли вот так просто смотреть в глаза грозного судьи, тем более находясь в этих стенах.
– Скажи, Клаус, когда в тюрьму по ведовскому делу попадают дети до десяти лет, что палач может сделать по отношению к ним, а чего не может? – Задал он очередной вопрос, желая испытать мальчика.
– Палач может воспользоваться тисками для зажимания пальцев, – спокойно ответил Клаус. – Других пыток не разрешается в Ортенау, впрочем, – он убрал с лица непокорную челку, – можно посадить на цепь, которая будет идти от пояса и закрепляться на стене, чтобы ребенок мог лечь, сесть и даже встать. Или цепь может быть прикреплена к ноге, – он нагнулся и показал где. – Лишать же маленьких детей жизни в Ортенау разрешается только одним способом – ванна с теплой водой и перерезанные вены, – он развел руками. – В других городах, отец говорил, дети подвергаются тем же наказаниям, что и взрослые, их даже могут послать на костер и сжечь живьем, но у нас – нет.
– А не хочешь ли ты, Клаус, попробовать начать свою палаческую карьеру прямо сейчас? – судья подмигнул мальчику, рассчитывая, что тот начнет увиливать, но Клаус, продолжая спокойно смотреть в глаза судье, кивнул в знак согласия.
– Я мог бы помочь отцу привязать подследственного, – скромно предложил он.
– Как думаете, Гер Миллер, а может, разрешить вашему приемнику показать сейчас свое искусство? – оживился судья, настроение его от общения с юным палачом заметно улучшилось, на лице пылал румянец.
– Не будет ли это нарушением протокола? – замялся было инквизитор, оглядывая изящную фигуру наблюдавшего весь экзамен фон Канна. – Случись что, стража донесет…
– Пошли вон, – скомандовал Якоб фон Гуффидаун, стражникам. – Ради такого дела я оставлю только писаря. Но он свой человек. И, потом, что такого, если мальчик покажет свое искусство. На ком-то он ведь должен тренироваться, в конце концов. А то, одна теория, а когда же практика?!
– Я думаю, не будет ничего страшного, если мальчик привяжет подсудимого, скажем, к этой дыбе, – предложил инквизитор. – Мы же говорим не о самих пытках, а всего лишь о фиксации тела, которую обычно осуществляет помощник палача.
– Я полагал, что он поступит на службу лет в восемнадцать… – Миллер подтолкнул сына к выходу, но судья нетерпеливо остановил мальчика, велев ему вернуться.
– Думаю, здесь отдаю распоряжения я, и никто другой, – раздражительно запротестовал фон Гуффидаун, меча грозные взгляды на Миллеров. – Вы сами виноваты, что привели мальчика в тюрьму, где ему не место, а теперь еще и прерываете наш разговор.
– Простите меня, – Миллер поклонился судье. – Конечно же, Клаус, как ученик палача, может поучаствовать в допросе, если вы того хотите.
– То-то же, – Якоб фон Гуффидаун приободрился, заносчиво глядя в глаза знаменитого палача, который после высказанного ему замечания казался еще тоньше и ниже ростом.
Клаус подошел к фон Канну и, поклонившись ему, застыл в ожидании дальнейших распоряжений. Его сердце при этом билось, в висах стучала кровь.
– Помоги, пожалуйста, господину фон Канну снять сорочку, – попросил Петер, и Клаус сделал то, о чем его просили. Судья не сводил глаз с движений мальчика, думая, как далеко можно зайти в этом эксперименте.
Петер Миллер подвел фон Канна к дыбе, которая в тюрьме Ортенау была сделана в форме скамьи, на которую клали человека, растягивая затем его при помощи веревок, стягивающих запястья и голени, и специального винта, облегчающего работу палача. В особых случаях еще одна веревка фиксировала грудь или шею подследственного, врезаясь в тело в момент растягивания и принося дополнительные страдания.
Мальчик сделал петлю и прикрепил ее к ноге подследственного, в то время как его отец, склонившись над Себастьяном фон Канн, осторожно перекрестил его в последний раз. Оффенбургский верховный судья, превозмогая страх, улыбнулся Петеру, опасаясь, однако, выдать себя рукопожатием, и, закрыв глаза, погрузился в молитву. Тем временем Клаус привязал ноги фон Канна и хотел было уже отойти в сторону, когда пьяный фон Гуффидаун вдруг потребовал, чтобы он сам полностью закрепил подследственного.
Не зная, как ему поступить, и прекрасно понимая, что как раз в этот момент отец должен особым образом закрепить веревку на груди или шее Себастьяна фон Канн, чтобы с ее помощью задушить подследственного, мальчик с испугом уставился на судью, но тот был неумолим.
На трясущихся ногах Клаус обошел дыбу и, сделав петлю, прикрепил ее к правому запястью фон Канна.
– Вас, господин Миллер, я бы попросил выполнить более тяжелую работу, а именно, кручение винта, – пояснил свой план судья.
– Как прикажете, ваша честь, – Петер мрачно следил за действиями сына, не имея возможности подсказать ему, как следует поступить, в то время как фон Канн вдруг прекратил молитву, с ужасом взирая на происходящее и понимая, что обещанного избавления еще возможно придется ждать.
– Я протестую, – наконец попытался он помочь самому себе, – меня должен пытать настоящий палач, а не вот такой недотепа и малолетка! – взвизгнул он, на что судья сразу же предложил фон Канну одуматься и начать давать показания. Карие глаза гроссмейстера ордена встретились с голубыми и печальными глазами Петера Миллера, с минуту длилась бессловесная борьба, после чего фон Канн разрешил младшему Миллеру продолжать его дело.
Понимая, что теперь все зависит от него одного и что именно ему придется покончить с добрейшим фон Канном, который не сделал ему ничего плохого и даже помог спасти дочь Филиппа Баура Эльзу, Клаус старался нарочно все делать медленно, продумывая каждый свой шаг. На самом деле он не знал, как закрепить веревку так, что она вдруг начнет душить подследственного. На это был нужен элементарный навык, в то время как Клаус до этого только время от времени связывал слуг или отца, оттачивая мастерство.
Пытаясь догадаться, как это собирался проделать отец, Клаус еще раз оглядел устройство, и тут в его голову пришла шальная идея, он ловко накинул петлю на шею фон Канна, закрепив ее не на скамейке, а на лебедке, которой управлял винт. Завязав последний узел, Клаус поднял красное возбужденное лицо на отца, и тот тут же рванул с места винт, так что фон Канн моментально задохнулся, удавленный веревкой Клауса.
Мальчик взвизгнул, отскочив к стене. Со своего места повскакивали писарь, инквизитор и внезапно протрезвевший судья.
Сделав вид, что только что заметил произошедшее Миллер сначала рванулся к фон Канну, определяя, действительно ли тот мертв, и только после этого к винту, который заело. Петер бросился к ящичку с инструментами, выхватив оттуда молоток, и принялся с его помощью сдвигать с места непослушный винт, так что, когда он, наконец, пришел в движение, фон Канн был уже мертвее мертвых.
Глава 6
Смерть друга
Кара, которой мы подвергаем ведьм, поджаривая и сжигая их на медленном огне, на самом деле не так уж велика, ибо не идет ни в какое сравнение с истязаниями, которые они по воле сатаны переносят на этом свете – не говоря уже о вечных муках, ожидающих их в аду.
Жан Боден[5]
– Ну, вот, доигрались, ваша честь! – в сердцах воскликнул Миллер, отвязывая подследственного от дыбы. – Оправдывайтесь теперь, как хотите, перед герцогом. Но только учтите, что не я предложил вам позволять производить пытку неопытному ученику! Вот что получилось!
– Господи Иисусе, так я же всего лишь попросил его привязать подследственного, только привязать! – заламывал себе руки фон Гуффидаун. – Вы-то куда смотрели, Миллер?
– Вы приказали ему привязать человека к дыбе, в то время как любой палач вам скажет, как важно уметь правильно связывать. Чуть пережмешь, человек может лишиться руки или ноги. А вы приказали Клаусу привязывать господина фон Канн к дыбе, зная, что я стою на винте!
– Ну, глупость свалял, бывает, – судья подошел вплотную к Миллеру, – послушайте, господин палач, господин инспектор. Но всяко же бывает. Неужели у вас это в первый раз?.. – он попытался виновато улыбнуться Миллеру, наткнувшись на острый взгляд, в котором играл дьявольский огонь.
– Такого у меня еще ни разу не было! – растягивая каждое слово, выдавил из себя палач. – Такого позора, такого непрофессионализма! Ни-ког-да!
– Ну, хорошо, я дурак. Но мы ведь с вами в этом деле все одно вместе отвечать должны. Я был не прав, но, да и вы же меня не остановили. Чего не брякнешь по-пьяни. Ладно. Давайте лучше подумаем, как горю помочь.
– Как хотите, а я свою спину ради вашего сумасбродства подставлять не намерен, – огрызнулся Миллер, – и сына не дам. Что он такого, в конце концов, сделал, чтобы за ваши прихоти отвечать?!
– Хорошо, хорошо, – примирительно замахал на него руками судья. – Считайте, что Клауса здесь и вовсе не было. Уходи, миленький, и ради всего святого, забудь о случившемся. – Он помедлил: – Я заплачу штраф, отдельно подарю по пятнадцать рейхцмарок вам и вашему сыну.
– Стражу тоже придется подмаслить, они ведь видели Клауса и могут смекнуть, что к чему, и решить, что вы, ваша честь, не просто так их удалили, а единственно чтобы покончить с фон Канном.
– Стражу я возьму на себя, – судья цеплялся за последнюю возможность. – Но только вы, Гер Миллер, уж сделайте так, чтобы все решили, будто фон Канн умер своей смертью или хотя бы по вашей неосторожности.
Петер медленно подошел к лежащему на скамье фон Канну и, оглядев его потемневшее лицо, вывалившийся язык и след от веревки на шее, уверил судью, что сделает все возможное.
Выставив участников процесса из зала и оставив там одного писаря, Петер Миллер слегка привел лицо покойника в относительный порядок, после чего проткнул кожу у него на шее в нескольких местах, так словно по ней поездила утыканная гвоздями скалка. Получилось недурно, так как кровь еще не успела застыть в жилах. Перемазав тело как мог, Петер замаскировал жуткий след.
По его версии больное сердце Себастьяна фон Канн не выдержало именно пытки гвоздями, чего, по понятным причинам не могли предсказать палачи. Что же касается темного лица покойного, то удушение произошло никак не из-за веревки, а единственно из-за того, что от боли фон Канн постоянно сдерживал дыхание, так что в конце и вовсе задохнулся.
Объяснение было конечно не ахти, но Якоб фон Гуффидаун был уважаемым судьей, а Миллер комиссаром и лучшим палачом Ортенау. Так что в результате за смерть подследственного был выписан крупный штраф, уплата которого тут же была взята на себя незадачливым судьей, который до последней минуты считал себя единственным виновником досадного и печального происшествия.
Глава 7
Графский шабаш
Ведьмы заявляют, что получают такое удовольствие, с коим ничто на земле не сравнится… Во-первых, эти злые духи принимают необычайно красивый и привлекательный внешний вид; во-вторых, у них в наличии инструменты необычайных размеров, которыми они вызывают наслаждение в интимных местах. Черти могут даже вибрировать членом, когда он находится внутри.
Дикасте (инквизитор)
Через неделю после трагической гибели в тюрьме Ортенау бывшего верховного судьи фон Канна граф Альберт Годельшаль пригласил Петера Миллера посетить его импровизированный шабаш. Как изволил выразиться сам, весьма довольный собой, Его сиятельство.
Когда же Петер, вытаращившись на него, попросил повторить сказанное еще раз, граф беззлобно улыбнулся, сообщив, что на самом деле предлагает знаменитому комиссару и одному из лучших палачей в герцогстве да и, пожалуй, во всей Германии поучаствовать в своеобразном научном эксперименте.
Еще не успевший забыть водную пробу, ради которой ему пришлось в свое время тащиться из Оффенбурга, Миллер счел за благо принять любезное приглашение. Рассудив, что двоюродный племянник сюзерена Ортенау как-никак видная шишка, обижать которого глупый и недальновидный поступок. Тем более, что если уж один раз он согласился проделать дорогу из другого города, то теперь, для того чтобы прибыть в замок второго лица в герцогстве, ему можно было даже не седлать лошадь. Замок графа находился в пятнадцати минутах ходьбы от дома семьи Миллеров.
Немного удивляло то, что добрейший граф пожелал видеть его в половине двенадцатого ночи, когда все добрые христиане давным-давно спят. Но на то Альберт Годельшаль и славился как оригинальнейшая личность своего времени и видный ученый, чтобы назначать для своих экспериментов столь невероятное время и приглашать на них именитых гостей, в том числе и из других земель.
Петер Миллер прибыл вовремя, и тут же слуги проводили его в богато убранный зал, где на мягких диванах и креслах уже сидели несколько гостей Его сиятельства. А на крохотных столиках возле каждого гостя стояли фрукты, вино и пирожные.
Зал был обильно украшен ветками елей и листьями папоротника, повсюду горели свечи.
В углу зала Петер приметил художника, который спешно набрасывал на лист бумаги загадочную обстановку зала.
Удивленный сверх всякой меры Миллер хотел было спросить о происходящем у проводившего его до кресла слуги, но тот показал жестами, что ему приказано молчать.
Заиграла музыка, Миллер не видел невидимых музыкантов, но догадался, что, должно быть, они спрятаны за фальшивой стеной или хоронятся в специальной нише, как это нередко делалось в богатых домах.
Вскоре со всей торжественностью в зал вошел большой подвижник науки Его сиятельство граф Альберт Годельшаль в сопровождении сухопарого господина, которого он тут же представил, как прибывшего из Кельна доктора богословия. Миллер попытался было запомнить мудреное имя, но тут же забыл, увлеченный происходящим.
Меж тем Альберт Годельшаль весело поздоровался со всеми присутствующими, сообщив, что все они приглашены с единственной целью быть свидетелями его нового и грандиозного эксперимента, который граф Годельшаль собирался изложить в своей книге о колдовстве, которую вот уже несколько лет писал.
Приглашенный художник должен был в точности воспроизвести на бумаге все, что будет происходить здесь, так как лучшие из его произведений предполагалось использовать в качестве иллюстраций к книге.
Действие должно было начаться в полночь, до которой оставались считанные минуты, так что граф вкратце объяснил, что в течение полутора лет им лично были отобраны несколько подлинных ведьм, томящихся в тюрьмах Ортенау и других городов герцогства, которые согласились не просто рассказать, а показать знаменитые танцы на шабаше.
По словам графа, сами ведьмы в настоящий момент были совершенно безвредны. Впрочем, этот эксперимент Его сиятельство проводил аккуратно раз в месяц в полнолуния в течение полутора лет, и до сих пор никто из присутствующих на этом импровизированном шабашей гостей не умирал и не высказывал каких-либо претензий относительно увиденного или услышанного.
Сообщив все это, граф сел на разукрашенное шелковыми розами кресло в центре зрительного зала, и велел запускать чертовок.
Музыка зазвучала громче. В то время как трое слуг с проворством не единожды производимых движений легко пробежались по залу, убирая лишние свечи.
Теперь обстановка в зале сделалась во истину таинственной. Редкие свечи на заднем плане сияли, как светлячки. На переднем, то есть прямо под ногами у зрителей, они были выставлены в ряд, дабы гости графа, не дай бог, не пропустили интересующих деталей и подробностей.
Подгоняемые человеком в красной одежде палача в зал выбежали совершенно голые девицы, которые быстро встали в хоровод лицами к публике и, взявшись за руки, побежали противосолонь.
– Вот знаменитый хоровод, который испокон веков ведьмы всех стран танцуют на шабаше! – пояснил собранию весьма довольный представлением граф Годельшаль.
Меж тем девушки разомкнули руки и начали крутиться, кто во что горазд. Их тела были белыми, сочными и бесконечно привлекательными, длинные волосы были распущены и убраны цветами и травами.
Правда, свет от в основном стоящих на полу свечей немного портил их милые лица, делая их зловещими, но это даже добавляло некоторую пикантность происходящего.
– Веселей, ведьмины отродья! – подбадривал танцовщиц граф. – Покажите, как танцем вы соблазняете чертей на шабаше. Ну же, больше страсти! А то быстро окажетесь в руках палача!
После этого все ведьмы как по команде начали извиваться точно змеи, некоторые из них ложились на пол, задирая ноги, другие слали воздушные поцелуи публике, третьи, обнявшись, облизывали соски друг друга.
Смущенные и взволнованные необыкновенным зрелищем зрители, топили свое смущение в серебряных кубках сладковатого вина, постепенно становясь раскованнее и счастливее.
Когда все закончилось, некоторые гости не могли сразу же подняться со своих мест, околдованные и очарованные произошедшем. Прощаясь с графом, Миллер заметил, как некоторые из гостей выбравшие себе по танцовщице, получили всемилостивейшее приглашение Его сиятельства остаться с ними в замке на ночь.
Сам Петер Миллер отправился коротать остаток ночи дома. Его не могла смутить женская нагота, так как в тюрьме все женщины были либо обнажены, либо одеты в одну единственную тюремную сорочку. Куда больше он был поражен цинизмом, с которым родственник герцога устроил себе личный театр.