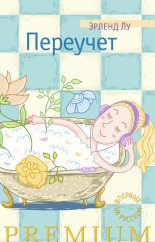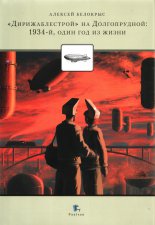Скрипач не нужен Басинский Павел
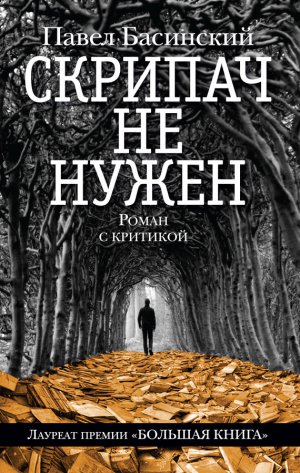
Последнее его крупное произведение – «Прокляты и убиты» – замышлялось как книга именно о войне. В ней есть нечеловечески грязные и страшные страницы. Но, может быть, именно это стало причиной того, что контуженая муза не выдержала, не добрела до финала, и незаконченная книга в результате рассыпалась на несколько повестей из послевоенного времени. И вот среди них-то по крайней мере повесть «Веселый солдат», почти по единодушному признанию читателей и критики, отлилась в шедевр, равный лучшим образцам астафьевской прозы. Отчего это так? Оттого, что природу не обманешь. А природа астафьевской Музы – в сердечном отношении к миру, в сопричастности к чужим страданиям, а не в – справедливом даже – обличении внешних обстоятельств, вызывающих эти страдания, и плохих людей, создающих эти обстоятельства.
В, несомненно, самом совершенном из крупных произведений Астафьева, в повествовании в рассказах «Царь-рыба» есть только один выпукло-отрицательный персонаж – липовый «сверхчеловек» Гога Герцев. Эпизодически мелькают еще хамоватые рожи «хозяев тайги», насилующих природу ради шальных денег, и какие-то невнятные «туристы», которых писатель как-то собирательно ненавидел, не понимая, видимо, что турист туристу рознь, и городской человек тоже имеет некоторое право на глоток чистого воздуха и незагаженный водоем, и что город коптит небо и отравляет воду не только для собственной услады, но и для развития деревни тоже. Однако и Герцев в итоге вышел какой-то несчастненький, бестолковенький. Пожалеть его, из-за своего каприза едва не угробившего Элю с Акимом, может быть, и нельзя, но и ненавидеть нельзя. Не дает нам Астафьев этой возможности, потому что нет этого в его писательской природе. А злость что ж? Она приходит и уходит. Важно то, что остается.
А остается невиданная по художественной щедрости галерея человеческих лиц, которые, по Константину Леонтьеву, и являются истинным богатством всякой нации. Сколько этих лиц в одной «Царь-рыбе» – невозможно сосчитать! Но все они прочно западают в память и на каком-то уже подсознательном уровне меняют твое отношение к миру, людям, России. Читатель, сердечно проникший в Астафьева (сколько их – наверное, миллионы!), никогда уже высокомерно не посмотрит на простого человека, на самого неказистенького, самого, на поверхностный взгляд, недалекого и глуповатого. Он, скорее, задумается над собственной «сложностью» – так ли она на самом деле «сложна»?
Потрясающие такт и деликатность. Но и вместе с тем какое-то удивительно свойское, «коммунальное» отношение к своим персонажам. Да и какие они персонажи, все эти братаны Коляны с коричневыми обветренными лицами и вставными (в лучшем случае) зубами! У них и слова, и жесты такие же, как у автора. Только он, в отличие от них, обладает двойным зрением и видит свое со стороны. Он не адвокат этим людям, как Короленко, но и не беспристрастный художник, как Чехов. Ближе всех ему, конечно, едва было не погибшая традиция Ивана Шмелева, впрочем, освобожденная от некоторой доли ностальгической благостности.
Подозреваю, что для Астафьева-художника не существовало так называемой проблемы России – ни в личном, ни во вселенском масштабе. Какая еще, прости Господи, проблема! Вот заботы чалдонских ребятишек, выбравшихся из душной избы после нескончаемой зимы на свет Божий и собирающих на припеке дикий лук, щавель, а если повезет, то и яйца крякв и куликов, – это проблема живая, трепетная, сердечная!
Поздние рассуждения Астафьева (главным образом в слишком многочисленных интервью, но они, увы, перетекали и в прозу) о русском характере, о его отрицательных качествах, то, на чем сломали копья претендующие на писателя критики и публицисты враждебных лагерей, да простят меня поклонники Виктора Петровича, отличались удручающим однообразием. Дело не в том, что это была неправда. Это была, допустим, правда. И пьют на Руси по-свински, и воруют свое же, и работать без прямой нужды или без палки не хотят. Сложная страна и трудный народ, и немцы с ним не справились бы, даже если бы и завоевали. Дело в том, что правду эту на хлеб не намажешь и людям, в который раз обманутым, обобранным и оттого сильно обозлившимся, делать с той правдой решительно нечего. Трудиться? Разве они не трудились? Разве сам Астафьев не показал, каких трудов стоило русскому человеку выжить и вырастить детей, некоторые из которых потом становились нобелевскими лауреатами?
Но там, где Астафьев показывает, как солят капусту, копают картошку, ловят рыбу и варят уху на Боганиде, то есть занимаются самым простым и самым Божеским делом (и оттого пусть и нечасто, но озаряет этих людей, по словам писателя, «сердечное высветление»), – вот за это свидетельство, за этот бесценный опыт писатель удостоился и удостоится не одного благодарного читательского поклона. Потому что это свидетельство за человека перед Богом. Не адвокатура. Свидетельство.
Сороковины Виктора Петровича пришлись на Рождество. В России принято искать какие-то намеки в подобных символических знаках. Рождество – праздник не только самый радостный, но и самый как бы человечный. Это вертикаль сверху вниз – от Бога к человеку. Подарок миру Спасителя. Чем ответил человек на этот Подарок? Астафьев-публицист не раз высказывал крайне пессимистические мысли на этот счет. Но творчество его пело о другом.
Да, человек в беде. Да, история человеческая всё больше становится печальным детективом, где уже нельзя различить жертв и преступников. И выхода из этой ситуации, если смотреть правде в глаза, нет. Испортили песню, дураки!
Однако история не шахматы, где либо выигрывают, либо проигрывают, либо смиряются на ничью. Она – бесконечно сложная сумма личных опытов, которые так великолепно умел изображать Астафьев, сам до конца не зная, как к этим людям относиться, но сердечно чувствуя неслучайность их бытия.
Человек не может быть просто проклят и убит. Всё творчество Виктора Петровича мудро возражало против этого.
…и современники
Борис Акунин: штиль в стакане воды
Как-то весьма начитанная и живо интересующаяся литературными новинками моя знакомая со стыдом и даже со страхом призналась мне, что ей нравится проза Акунина. Больше того, она с нетерпением ждет выхода каждой его новой книги.
– Что же вас смущает? – спросил я.
– Ну как же! – воскликнула она. – Ведь это несерьезный писатель!
История до смешного, а для некоторых серьезных писателей – и до обидного – проста. Известный филолог, переводчик, прекрасный редактор Григорий Чхартишвили однажды понял, что может писать не только не хуже, но и гораздо лучше подавляющего большинства авторов так называемых «массовых» романов. Весь фокус Акунина-Чхартишвили заключался в том, что он соединил две вещи, которые «массовикам» казались несоединяемыми. Он предложил серьезный литературный труд, ориентированный на массовый успех. Там, где стаи полуграмотных литературных волков беззастенчиво резали блеющее читательское стадо, появился цивильно одетый господин с ножницами и стал деликатно этих овец стричь. Впрочем, этот образ в отношении Акунина не совсем справедлив. Акунин, несомненно, любит своего читателя и, что самое главное, знает его.
Вот почему вокруг него тотчас собралась благодарная читательская аудитория, которая непрерывно пополняется. Я сам ради эксперимента подкидывал акунинские книжки некоторым знакомым из нелитературной, но всё же интересующейся литературой среды, никак не рекомендуя их, но только советуя на пробу почитать. И я ручаюсь, что большинство из них становились акунинскими intress, живыми соучастниками этого писательско-читательского проекта – отнюдь не по принуждению и вовсе не зомбированные какой-то там рекламой. Феномен интереса к Акунину сродни случайному вагонному знакомству: бывают интересные собеседники, с которыми и говорить легко, и дорога не в тягость, а бывают надутые индюки и бесцеремонные нахалы.
Я.П.Полонский сравнивал русского писателя с «волной» («а океан – Россия») и утверждал, что если «океан» волнуется, то и писатель «не может быть не возмущен». Акунина эта формула как будто нисколько не касается. Какой океан, какая волна?! – недоуменно спрашивает он. Полный штиль! И даже не на море, а в стакане воды, услужливо протянутом жаждущему развлекательной, но всё же достаточно интеллигентной прозы читателю. Просто, как мычание.
Но во всякой простоте есть своя сложность. Когда из уст профессиональных критиков я слышу полупочтительные, полупрезрительные отзывы об Акунине, которые сводятся к казуистической формуле «как массовый писатель это хороший писатель, как серьезный писатель это совсем не писатель», мне становится неловко за коллег. Борис Акунин никоим образом не вписывается в очень старую (в России с ХVII–XVIII века) традицию литературного ширпотреба. Дело в том, что так называемое чтиво (куртуазный, детективный, приключенческий романы и пр.) по определению должно избегать индивидуальной авторской морали, а тем более – идеологии, и в то же время покоиться на незыблемой общепризнанной морали и идеологии. Если выбросить из «Преступления и наказания» индивидуальные особенности писателя Достоевского, получится весьма приличный бульварный роман о том, как студент из корысти убил старуху с ее племянницей, потом испугался, раскаялся, сдался полиции, женился на проститутке и пошел честно отбывать каторгу.
Это равно относится и к Федору Эмину, и к Булгарину, и к Чарской, и к авторам милицейского романа пятидесятых – шестидесятых годов ХХ века. Везде если не откровенная государственная идеология, то, во всяком случае, общепринятая моральная подкладка. А как без этого? За литературой цензор следил. Но главное – развлекательное чтение не должно задевать сознание какими-либо индивидуальными претензиями автора на мораль и идеологию, внимание должно быть сосредоточено на сюжете и внешней интриге. Вот почему насквозь идеологический советский детектив сейчас читается и смотрится на экране так же прилекательно, как читался и смотрелся почти полвека назад. Какое нам дело до того, что следователь Знаменский из сериала «Следствие ведут знатоки» – коммунист? Ну да, он насквозь положительный государственный человек, от проницательного взора которого уходит в пятки черная преступная душа. Это понятно с самого начала. И, понимая это, можно об этом не думать, а следить за детективной интригой.
Другое дело, что современный «массолит» по большей части антиморален. Но это не вина его авторов, которые напрочь лишены какой бы то ни было индивидуальной морали. Это проблема состояния общества.
Из многочисленных интервьюеров Акунина (он словоохотлив и раздает интервью едва ли не чаще, чем автографы), кажется, только Ольга Богданова (газета “Stinger”) сообразила, что не надо верить Григорию Чхартишвили на слово, когда он утверждает, что «из-за досуговой литературы кипятиться и нервничать не стоит», со смирением относя себя именно к «досуговой» литературе. Во всех интервью он с подозрительной настойчивостью твердит, что «просто погулять вышел», решительно отказываясь от претензий на серьезное прочтение. И тем самым вольно или невольно подыгрывает критикам и писателям из своего круга, точнее сказать, круга бывшего Чхартишвили, япониста, переводчика и автора совсем не игровой книги «Писатель и самоубийство». Изданной, между прочим, в издательстве «НЛО», которое выпускает и современную элитарную прозу… Но, конечно, не Акунина, который весь из себя «массовый». Во всем этом только наивный не заподозрит подвоха, и это-то и заставило меня прочитать Акунина совсем не так, как он сам советует это делать.
Что же обнаружилось?
В мою задачу не входит распутывать узел достаточно важных этических, психологических, культурных, политических и национальных проблем, которые Акунин затрагивает как будто бы походя, как будто бы играючи, как бы только для того, чтобы придать внешней интриге блеск «вящей серьезности», подразнить образованного читателя не только развитием сюжета, но и тонким интеллектуальным ароматом. Обращу внимание лишь на то, что явно бросается в глаза.
Только знаток и переводчик японского писателя Юкио Мисимы мог создать Эраста Фандорина, который на протяжении серии романов, от «Азазеля» и до «Коронации», озабочен, в сущности, одним: блестяще сыграть отведенную ему роль в бездарно устроенном мире. «Все говорят, что жизнь – сцена. Но для большинства людей это не становится навязчивой идеей, а если и становится, то не в таком раннем возрасте, как у меня. Когда кончилось мое детство, я уже был твердо убежден в непреложности этой истины и намеревался сыграть отведенную мне роль, ни за что не обнаруживая своей настоящей сути». Это ключевое, по утверждению самого Григория Чхартишвили, заявление Юкио Мисимы, писателя и самурая, закончившего свою игру настоящим харакири, охотно повторил бы и Эраст Фандорин, если бы его создатель в этом случае не наложил бы печать на его уста. С момента гибели невесты Фандорина в конце «Азазеля» наивное детство молодого сыщика заканчивается. Он понимает, что мир устроен по принципу театральной игры, причем с бездарными актерами, играющими не менее бездарные роли. И Фандорин начинает играть свою роль, обыгрывая разнообразных злодеев мужского и женского пола, а также сильных мира сего, включая и царскую семью в «Коронации».
По замыслу автора, он делает это с блеском, но без особенной радости. От книги к книге образ Фандорина (в первом романе привлекательного своей наивностью, молодым честолюбием) становится всё суше, суше и неприятнее. В «Коронации» это окончательно пустой человек, своего рода маньяк собственной роли. На карту поставлена честь императорской фамилии и, значит, судьба России (другое дело, что вся эта ситуация шита белыми романными нитками), но Фандорина это нисколько не интересует. В царской семье, куда ниплюнь, везде трусы, пройдохи и педерасты. Конец не только Романовых, но и всей России очевиден для Эраста-прекрасного, и если он взялся за дело о похищении сиятельного отпрыска, то совсем не потому, что хочет спасти чужую игру, а потому, что доигрывает свою. В минуты отдохновения он (внимание!) уединяется с японцем-слугой и занимается боевыми упражнениями – тут шило откровенно торчит из мешка и вряд ли без ведома самого автора.
Скажу прямо: мне лично Фандорин неприятен. Я не верю в его блеск. Это маниакальный, самовлюбленный тип, презирающий землю своего случайного и временного (да-да, возникает именно такое чувство!) пребывания. Все события, в этой земле происходящие, хотя и придуманы автором, однако же являются кривым отражением ее реальной истории. И все эти события служат отвратительным, но и выгодным фоном для блестящей игры Фандорина. И конечно, разнообразные бездари из полицейского ведомства, принимающие участие в этой дурной игре с бомбистами, террористами, шантажистами и прочей, к слову сказать, весьма талантливой сволочью, обязаны быть благодарны нашему русскому самураю. Выручил, отец родной! Спас из безвыходного положения! Что бы мы без тебя делали?
Но разве не таков же Шерлок Холмс в оппозиции к глуповатому Лестрейду? К Лестрейду – да. Но не к Британии. Холмс – часть Британии и, простите за банальность, «мозг нации». А Фандорин – выморочный тип, ниоткуда взявшийся, из какой-то неведомой книжной Японии.
Ну, хорошо – а Пуаро, который бельгиец, а не француз, с чем связана некоторая пикантность в его поведении? Но Фандорин не бельгиец, не англичанин, не японец и не русский, даже и не русский европеец, что будто бы следует из его фамилии, восходящей к фон Дорну. Это именно некий абстрактный тип умного, честного, порядочного человека вообще, волей судьбы родившегося в неумной, нечестной и непорядочной стране. Это человек, озабоченный своей проблемой, которая является проблемой его самоидентификации. Я понимаю, что именно такой герой, неважно, в серьезной или несерьезной литературе, приятен значительной части постсоветской интеллигенции. И это, может быть, главная находка Акунина-Чхартишвили.
Но справедливости ради надо сказать, что одного этого было бы недостаточно. Вопреки мнению критических профи и озабоченных проблемой своей духовности и эстетического самовыражения серьезных писателей, я ответственно заявляю, что Акунин необыкновенно литературно даровит и что такие «безделки», как его романы, являются результатом внушительного творческого труда. На выучку к Акунину надлежит отправить 90 % наших серьезных романистов, чтобы они научились главному, что делает писателя писателем, а не продавцом абстрактной духовности: умению строить сюжет и рождать персонажей, которые живут, дышат и говорят на страницах без аппаратов искусственного дыхания. Которые видны и слышны не потому, что автор подробно рассказал нам, как они выглядят и как говорят, а потому, что они составлены из собственных слов и жестов. Вот что несомненно удается Акунину, вот в чем он сегодня едва ли не первый.
Его романы о монашенке-сыщике Пелагии в этом отношении ничуть не хуже фандоринского цикла. Романы о Пелагии выгодно отличаются еще и тем, что в них главный персонаж (эдакий отец Браун в юбке) никак не является alter ego автора и, стало быть, литературная игра приобретает наиболее чистый характер. И я бы с радостью рекомендовал этот цикл для «досугового» прочтения, если бы не…
Все-таки прав был М.М.Бахтин, утверждавший, что чисто занимательного романа быть не может, что всякий роман поневоле идеологичен. Идеологичен и «пелагиевский» цикл Акунина. В первом романе («Пелагия и белый бульдог») это не так заметно. Во втором («Пелагия и черный монах») – идеологические уши торчат настолько нахально, что хочется их отрезать.
В одном из интервью автор признался, что идея «Черного монаха» навеяна туристической поездкой на Соловки. Я бывал на Соловках и могу оценить, во что превратились Соловки под пером Акунина. Правда, он, как всегда, схитрил и старательно размешал в стакане своей творческой фантазии Белое море и озеро Светлояр, так что топонимика стала вроде бы блуждающей – некая русская религиозная святыня вообще. Но даже не соловецкий топос (всё равно слишком узнаваемый), а соловецкий миф выдает Акунина с головой. Ну кто же не слышал баек о том, как до проклятых большевиков соловецкие монахи выращивали ананасы там, где положено расти только бруснике и морошке? Как они купались в лучах электрического освещения и проч.? Надо самому побывать на архипелаге, чтобы понять, где кончается миф и начинается строгая правда, слишком строгая для материковых жителей. Чтобы увидеть всё величие и весь ужас Соловков, где добровольно могут жить только люди особой породы. Впрочем, не в том беда, что Акунин перевел объемную реальность в плоскость своей фантазии, соорудив утопию, которая оборачивается антиутопией. (В романе на архипелаге процветает монастырский капитализм на почве тоталитарного режима.) В конце концов, это его дело – сочинителя и фантазера, который не раз публично слагал с себя ответственность за случайное совпадение правды и вымысла.
Беда в другом. Изящный детективный роман, сам того не желая, превратился в пасквиль на то, что для многих свято. У безответственной фантазии должны быть ограничители там, где реальность вопиет об ответственности. Акунин считает обязательным обозначить водораздел с серьезной литературой (я вашего не трогаю, вы не трогайте моего). Но при этом не удосужился снизойти до понимания еще не остывших религиозных проблем, трогать которые его, в общем-то, никто не просил. Допустить, что он делает это по наивности, я не могу – не тот это писатель. Остается одно: проблемы эти очень сильно его занимают, так сильно, что ради них он готов поступиться чистотой своего вымысла.
Возможно, кому-то покажутся забавными глупости и пошлости, которыми Акунин наводнил свою соловецкую антиутопию… Ресторан «Валтасаров пир», парикмахерская «Далила», сувенирная лавка «Дары волхвов», банковская контора «Лепта вдовицы», котлетная «Упитанный телец», гостиница «Непорочное зачатие»… И как это он не додумался до закусочной под вывеской «Евхаристия»? Отец Митрофаний (епископ!) рассуждает о религии как какой-нибудь поп-расстрига, но это ничуточки не смущает его духовных чад. Настоятель монастыря ведет себя, как Брынцалов, которого скрестили с Зюгановым. От всего этого разит самой дешевой карикатурой и провокацией.
Что-то не выходит у Бориса Акунина с игрой в чистый вымысел и приятного во всех отношениях автора для приятного во всех отношениях читателя. Не получается абсолютный штиль даже в стакане воды. Волнуется водичка! Гримаса современности и неостывшего прошлого обезображивает невозмутимое лицо господина сочинителя. И наоборот – ослабляются лицевые мускулы безукоризненного Эраста Фандорина, отваливаются его наклеенные бачки, и под ними обнаруживается скуластый шпион-японец из «Штабс-капитана Рыбникова» А.И.Куприна…
Алексей Варламов: старший сын
В мировом фольклоре есть бродячий сюжет. В наиболее известной и законченной литературной форме он воплотился в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Умирает отец, делит наследство между сыновьями. Старшему достается мельница, среднему – осел, младшему – последнее, что у отца есть, – кот. Дальше, как в сказке, самым удачливым наследником оказывается младший брат. Его плутоватый кот путем разнообразных постмодернистских махинаций превращает своего хозяина из нищего в маркиза. Он делает это очень просто (хотя на поверхности очень сложно), подменяя причину следствием. Он говорит, что его хозяин маркиз, и поэтому ему полагается приличное платье, место в карете и так далее.
Но мы не знаем, что было с остальными братьями. Например, с тем, что остался с ослом. Возможно, он всю жизнь тяжело трудился, добывая хлеб насущный с помощью упрямого и своенравного животного. А может быть, махнул на всё рукой, отвел осла на ярмарку, продал, а деньги прокутил в кабаке.
Но труднее всех пришлось старшему брату. Мельница – не кот и не осел. Она не умеет мошенничать, и е так просто не пропьешь на ярмарке. Это целое хозяйство. Это не только собственность, но и ответственность. Это наследство в полном смысле слова.
Мне всегда представлялось, что люди культуры и литературы в частности примерно делятся на три категории. Одни, имея скромный талант и волю к труду, работают как проклятые на ниве культуры, доказывая свое право на существование. Или, если становится невмоготу, если воли маловато, – спиваются, кончают с собой или просто бросают к чертям этот адов труд. Другие обладают не столько талантом, этим даром Божьим (а отношения отца и сына – это всегда земная проекция отношений человека с Богом), сколько ловкостью и суммой более или менее удачных «придумок». Они как-то убеждают публику, что они не голь перекатная, а маркизы. Иногда публика им верит. Надо только быть смелее, нахальнее. Надо как можно увереннее опрокидывать традиционные представления о ценностях, о культурной иерархии, и публика непременно дрогнет. И, наконец, третьи, обладая и талантом, и волей к труду, и, главное, чувством ответственности перед наследством, распоряжаются им любовно, но осторожно, приумножая, а не разбазаривая его, но и не выдавая обычную мельницу за королевский замок.
Русский литературный человек ХХ, а теперь уже XXI века обречен чувствовать тяжесть доставшегося ему наследства. Отсюда неслучаен и этот футуристический выдох освобождения: «Сбросим Пушкина и Толстого с парохода современности!» Сбросим! Облегчим себе бремя! Но футуристы по крайней мере понимали, что это бремя.
В конце ХХ века в русской литературе всё перемешалось. Коты, ослы, мельницы, нищие, маркизы – всё было втянуто в соблазнительный водоворот снижения высокого, возвышения низкого и подмены всего всем. Кот Шарля Перро по крайней мере вынужден был плутовать достоверно. В конце концов он предъявил королю реальный замок. В девяностые годы ХХ века и этого не требовалось. Не нужно было доказывать, что ты маркиз. Надо было объявить, что маркиз – это кот. Нужно было сказать, что Лев Толстой – это хохма, бородатый графоман, а Венедикт Ерофеев – величайший гений всех времен и народов. Не просто талант, не яркий, но частный эпизод литературы, а именно величайший, а Толстой – смешной. Нужно было сказать: я написал три тысячи стихотворений, поэтому я великий поэт. Ведь понятно, что три тысячи стихотворений никто в здравом уме не прочтет. А вдруг как раз непрочитанные стихи и есть гениальные. До этой фантазии не додумался бы и кот Шарля Перро.
Это было время, когда слова и их реальный смысл разошлись непоправимо. Например, Солженицына объявляли литературным диктатором, причем объявляли люди, которые в это время самым жульническим образом прибирали к рукам всю литературную власть, беспардонно диктуя литературную моду.
Именно в это время мы с Варламовым входили в литературу. Мы познакомились в редакции «Литературной газеты», и он подарил мне свою книгу. Я прочитал ее название и понял, что книга мне уже нравится. Она называлась «Здравствуй, князь!». Учтите, что это было время ужасающей, беспорядочной и неряшливой цитатности, «центонности», когда слова в простоте нельзя было вымолвить, когда даже фразу «я вас люблю» нужно было непременно сопровождать ироническим комментарием: «как сказала бы Татьяна Ларина».
«Здравствуй, князь!» тоже была цитата. Но какая!
Это был звук, прежде всего чистый звук. Его хотелось продлить:
- Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
- Что ты тих, как день ненастный?
- Опечалился чему?
Кроме того, это название само по себе дышало каким-то спокойным чувством первородства, уверенности в своем положении в литературе. Сам-то Варламов казался неуверенным в себе. Он говорил, что он преподаватель МГУ, который пишет прозу. Но это всё была ерунда, естественная, а может быть, и несколько кокетливая стыдливость легитимного русского писателя, который имеет право назвать свою книгу пушкинской цитатой. И, наконец, это было прямое выполнение задания В.Ф.Ходасевича: «аукаться» именем Пушкина в наступающем мраке.
Мне оставалось только прочесть книгу и убедиться, что я не ошибся, откликаясь на это откровенное «ау!».
Потом, читая Варламова, очень по-разному воспринимая разные его вещи и наконец понимая его корневые слабости, которые у хорошего писателя всегда есть продолжения его достоинств (например, отсутствие мускула для сюжетостроения как следствие избыточной исповедальности: исповедальность всегда расслабляет, а сюжет – это панцирь, это броня), я всегда помнил этот первый звук.
«Здравствуй, князь!»
Князь не князь, но Варламов в литературе – несомненно «старший сын». Он, может быть, еще не окончательно литературно «повзрослел», но и есть ли в литературе окончательная «взрослость»? Конечно, бывают вещи удивительные, вроде «Героя нашего времени» или «Драмы на охоте», произведений, писавшихся двадцатичетырехлетними людьми, но при этом фантастически взрослыми. Но то, что Варламов – это «старший сын», обладатель не просто наследства, но, выражаясь сегодняшним языком, его «основного пакета», для меня всегда было очевидно.
На мой взгляд, выбор пал на Варламова не потому, что он крупнее других. Он, я бы сказал, стратегически последовательнее, а стратегия – это не последнее дело в писательской судьбе. Можно выдать первую дебютную вещь, которая всех поразит, а потом на всю жизнь остаться автором «такого-то произведения», потому что все последующие вещи будут слабее, без прежней художественной энергии. Потому что автор просто не научился держать дыхание.
У Варламова тоже был шанс навсегда остаться автором повести «Рождение». Это тот случай, когда вещь была написана и хорошо, и вовремя. Невозможно было придумать более ясного и нравственно точного взгляда на революционную смуту начала девяностых годов, когда вместе с СССР могла рухнуть и Россия, чем сквозь больничную палату, где лежит приговоренный к смерти маленький сын. Но в том-то и дело, что Варламов этот взгляд не придумал. Он вообще ничего не придумывает в своих лучших вещах: «Рождение», «Галаша», «Дом в деревне» и других. И, между прочим, самое слабое, что есть в «Рождении», – это как раз «публицистика». Но в истории русской литературы нередко бывало, что именно «публицистика» двигала на первый общественный план произведения, которые были «совсем не о том»: «Отцы и дети», «Бесы», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Один день Ивана Денисовича».
Но Варламов не забуксовал на «Рождении». Хорошо зная всё его творчество, я вижу, как он сознательно работает в разных жанрах, в разных родах даже. То, что рассказ и повесть – это его жанры, Варламов уже знает. Но вот он попробовал себя в драматургии. Не получилось, не взял крепость. Отошел. Может быть, еще вернется. С другой стороны, он отчаянно штурмует романистику, именно штурмует, со всевозможных позиций: социально-психологический роман «Лох», историко-детективно-авантюрный «Затонувший ковчег», мистический «Купол», политический «11 сентября». Можно сказать, что он пытается идти по всем проторенным дорогам, но все проторенные дороги страшно заросли, и тот, кто этого не понимает, – просто счастливый графоман. Он ушел в жанр писательских биографий и добился блистательного успеха; его «Алексей Толстой» в серии «ЖЗЛ» стал литературным событием. В одном из «премиальных» интервью он признался, что его неудержимо влечет история. Это правильно, потому что как русский писатель он стал задыхаться без исторического пространства.
Повторяю, что я сейчас говорю не о качестве тех или иных вещей Варламова. Порой он выигрывает в качестве именно в вещах как будто случайных, вроде рассказа «Паломники», прелестной истории о том, как несколько студентов отправились пешком в Троице-Сергиеву лавру. Или в совсем уж неприметном рассказе «Как ловить рыбу удочкой», который хоть сегодня включай в хрестоматию короткого рассказа. Меня больше волнует общая стратегия писательского поведения во время, когда все указатели не просто сбиты, но аккуратно повернуты концами в землю. Меня не пугает слово «стратегия», такое несколько военизированное. Сейчас в литературе, конечно, не так страшно, но ничуть не проще сохранить свое самостояние. Может быть, даже и сложнее…
Это стратегия «старшего сына». Старшим сыновьям всегда труднее жить. Балуют младших. Старшим отдают мельницы. Чтобы жизнь медом не казалась. Чтобы помнили о своем первородстве.
Евгений Гришковец: наш ласковый Миша
Роман известного драматурга и прозаика Евгения Гришковца «Асфальт», вышедший «в авторской редакции» тиражом 50 000, несколько месяцев занимал первые позиции на витринах книжных магазинов.
Карьера Евгения Гришковца началась с того, что он возле буфета Театра Советской армии исполнил свой моноспектакль «Как я съел собаку». Слушали его, по его же воспоминаниям, семнадцать человек. Жевали бутерброды, а слушали про собаку. Понравилось. Спектакль и правда был приятный. Поднимал настроение. Интересно, что показывали в тот день в Театре Советской армии? Неужели «Оптимистическую трагедию»?
С некоторого времени Гришковец из драматургов уверенно перешел в прозаики. И здесь на первых порах не без удовольствия читались его довольно милые рассказы и повести. Очень симпатичный сборник рассказов «Планка». Например, рассказ о том, как человек мечтал попасть в Париж, наконец попал туда и все два дня сладко проспал в гостиничном номере. В Москве были проблемы со сном. А в Париже выспался, как у бабушки на деревне. Приятный во всех отношениях рассказик…
Нельзя сказать, что Гришковец – выдающийся стилист. Но свой стиль у него определенно есть. Ну, может быть, не совсем свой и даже не совсем стиль, но своя манера у Гришковца существует. Правда, не без манерности, но в легкой форме. Бывают ведь тяжелые формы манерности, которые, впрочем, при редком стечении обстоятельств времени, личности, Божьего дара могут перерастать чуть ли не в гениальность. Игорь Северянин. Но это не для Гришковца. Это для него слишком нахраписто, слишком как бы «по-русски», а Гришковец позиционирует себя как европейский писатель в русском контексте. Чуть-чуть Чехов, чуть-чуть Газданов, чуть-чуть кто-то еще – вот и вышел Гришковец, приятный во всех отношениях.
«Над Москвой он в небе бесконечности не чувствовал никогда. Этой бесконечности в московском бледном, подсвеченном массой огней небе вовсе и не было. Зато он иногда мог почувствовать пугающую и тем самым сладкую и жуткую бесконечность в самих московских огнях».
Своего рода рекламный ролик стилистической манеры Гришковца на обложке книги. Надо признать, очень миленький кусочек хорошенькой прозы. Только очень неприятный человек задумается над тем, что если герой «никогда» не чувствовал бесконечности в московском небе, то, значит, он занимался этим очевидно бессмысленным делом (пытаться почувствовать бесконечность в небе над Москвой) как минимум несколько раз кряду. Только очень недобрый критик обратит внимание, что «вовсе и не было» – это тавтология, потому что как еще можно «не быть»?
Но это всё мелочи. В первом романе Гришковца есть несомненные достоинства. Он умеет передать ощущение современной Москвы и переживания человека из провинции, ставшего ее (столицы) частью. Он умеет метко обрисовать случайные характеры, передать чувство ревности, грамотно описать типическое похмелье, умно разделить людей на тех, кого любят дети, и тех, кто любит детей, но не знает, что с ними делать. То есть достоинства романа Гришковца – опять-таки в мелочах, которые вполне уравновешивают такие же мелкие недостатки.
Главный герой романа Миша (просто Миша) посредством автора пересказывает нам все свои приятные и неприятные ощущения по части обоняния, осязания, зрения, слуха и вкуса. А также по части перепадов настроения, связанных с едой, выпивкой, одеждой, потерей дорогого человека и убийства мальчика, которого герой случайно, сам не желая причинить ему ни малейшего беспокойства, в детстве столкнул с крыши дома, и мальчик с весьма неприятным звуком шмякнулся об асфальт, оставив Мише массу неприятных воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. Это было так неприятно, что герой старается и не вспоминать. Да и мальчик был плохой, хулиган, всем приносивший множество неприятностей.
Вот, так сказать, исповедь сына века. «Он любил и довольно часто приезжал в свой офис раньше всех». «Он полюбил эти минуты особенно сильно в последнее время». Или вот – шедевр по части получения удовольствия: Миша «получал удовольствие от того, что без всякого удовольствия читал “Великого Гэтсби” Фицджеральда». Но зачем всё это? «Миша в последнее время боролся с тревогами и беспокойствами в себе. Он даже старался не допускать никаких тревожащих его ситуаций».
Беспокойство, однако, случилось. Повесился самый дорогой человек – Юля. Не любовница (это грубо), а лучший товарищ (это тонко). И вот вроде бы Миша от этого ужасно страдает. Он весьма вяло проводит собственное расследование причин самоубийства, зато невероятно активно занимается восстановлением кислотно-щелочного баланса в собственной раненой душе. Для этого Миша прибегает к множеству ухищрений: от надраться в соплю с приятелями до подарить женщину, в которую сам влюблен, другу Сереже. От попить из носика чайника теплой водички во время бессонной ночи (боже! это была первая бессонная ночь за много лет!) до покурить на балконе, завернувшись в любимый старый халат. Строго дозируя перерывы между сигаретами, чтобы курение не приносило неприятных ощущений.
Но самое интересное: восстановление кислотно-щелочного баланса в душе происходит в строгих законах соцреализма. Героя спасает не водка паленая, не сигарета проклятая, не любовница коварная и даже не супруга любимая. Спасает – дело! Миша держит фирму, которая делает дорожные знаки и разметки на дорогах. Разметки очень важны в нашей невежливой стране, где все ездят черт-те как! С разметками так приятно ездить, так приятно, что уже ни о мальчиках убиенных, ни о подругах погибших не вспоминаешь. И вообще, с ними гораздо меньше таких неприятностей, как автокатастрофы…
Спасибо тебе, Миша!
Борис Екимов: Сердце мое…
Я порой слышу о Борисе Екимове: «Ну, какой он художник? Он – очеркист. Что увидел, то и описал. О чем с кем-то на донском хуторе поговорил, то и пересказал. Какие-то колхозы, фермеры… Какой-то мальчонка, заменивший умершую учительницу… Какой-то Пиночет, сын старого председателя, взявший на свою погибель погибающий колхоз… Очерки про Дон, про степь, про травы, про ловлю рыбы и как ее приготовить “на сене”… Очеркист. Не художник».
Да, Борис Екимов – и публицист. Он единственный из современных больших русских писателей взял на себя ответственность быть хроникером и советчиком в той области русской жизни, которую другие чистые художники брезгливо отмели от себя левой ногой. Несколько лет по просьбе Сергея Залыгина, а потом и Александра Солженицына он вел в «Новом мире» «колхозные очерки», рассказывая о самом главном и, безусловно, трагическом событии в современной деревне – расколлективизации. Пока умственно пьяные публицисты топтались на понятии «колхоз», откровенно издевались над ним, Борис Екимов трезво рассказывал, что происходит с современной деревней, в какие новые потрясения она ввергнута умственно пьяными правителями и их подголосками.
Происходили и происходят с деревней события не менее важные, чем в 1861 году, когда отменили крепостное право, чем после 1917 года, когда уничтожили помещичье землевладение, чем в тридцатые годы, когда крестьян, которым раздали землю без выкупа, сначала ограбили, а затем согнали в коллективные хозяйства. Но через десятилетия и в этих коллективных хозяйствах как-то сам собой сложился свой жизненный уклад, свои правила игры и своя особая коммуникабельность.
И снова разворот на 180 градусов! Сломали хребет председательской власти, напоминавшей прежнюю власть помещика разве что тем, что «каков помещик, таково имение», «каков председатель, таков и колхоз». Но только не мог этот «помещик» ни с гостями музицировать, ни в столичных театрах культурно проветриваться, ни тем более проданное зерно в Висбадене в рулетку проиграть. Работать от зари до зари, как толстовский Левин, – мог. Но скорее не по нравственной инициативе, а потому что с него самого в обкоме семь шкур снимали.
Плохой был уклад. Но – сложился. И снова – разодрали, не спросив желания тех, кому снова без выкупа вроде даровали землю.
Кто кричал о недостатках, о скороспелости отмены крепостного права? Писатели. И не просто писатели – лирики. Враги, антагонисты – Фет и Некрасов. Кто написал гениальные очерки «Земли! Земли!» о том, что нельзя без выкупа отдавать землю, что это фикция, произвол и в конце концов приведет к новому насилию над крестьянином? Опять писатель, Короленко. Кто ярче, глубже всех отобразил трагедию коллективизации? Писатели: Белов, Можаев, а первым – Шолохов. А вот о четвертом хребетном надломе крестьянской жизни едва ли не один-единственный Борис Екимов писал. И в очерках, и в повести «Пиночет».
Кто же ближе к русской классической традиции – Борис Екимов или чистые художники с их вечно опущенной нижней губой и грошовым эстетическим капиталом за душой?
Но бог с ней, с публицистикой… Оставим ее, неприглядную, вечным душевным труженикам, какими были и являются Герцен и Короленко, Горький и Солженицын, теперь вот и Екимов. Поговорим о красоте, о тайне художественного творчества.
Секрет эстетического зрения Бориса Екимова – в особенности его памяти. Он не хроникер деревенской жизни, а тайный ее наблюдатель. Он занял крайне выгодную позицию, всего-то шестьдесят пять лет прожив на Дону, в Калаче, на хуторах. С этими людьми он взрослел и старился, он даже физически составлен из той же воды, того же воздуха, той же пищи, что и они. Он слышит их речь не как чужую, хотя бы и занятную, экзотическую, а как родную. Его, собственно, и не различишь среди этих людей, в степи ли, на рыбалке ли, в хуторской ли летней кухне. Но не верьте, не верьте обманчивой простонародности этого человека! Крестьянское дело – одно, а писательское – совсем иное. «Путем зерна», но – иного. Кстати, слово это, «иное», подозрительно часто встречается в прозе сугубого реалиста Бориса Екимова. «А помнить будем иное» – так заканчивается один из его лучших рассказов. И будьте уверены, когда этот человек склоняется над листом бумаги, и внешний образ его становится иным. Не видел этого, но готов поручиться.
Едет ли он по весенней донской степи, пешком ли идет, но зачем-то спускается в Грушевую балку. И (цитата) – «словно иной мир». Продолжим цитату: «Потекло время иное – медленное, тягучее; и жизнь, и сладкое забытье. Гудливые земляные пчелы не торопясь ищут сияющие цветы калужницы или звездочки гусиного лука – первый цвет. Красные клопы-солдатики, сбившись гурьбою, греются на старом пеньке. Рядом алая капелька божьей коровки спешит вверх по высохшему стеблю, хочет взлететь. Солнце – над головой; теплая земля; острый дух листовой прели и молодых горьких почек».
А летом? Продолжим цитату: «Это сказочный сон золотой… Жара, зной, но дышится легко. Идешь, трогаешь, обнимаешь цветущее, которое осыпает и дарит тебя золотистой пыльцой, лепестками, горьким соком и сладкой медвяной сытью. И вот уже ты весь пропах этой сладостью, терпкостью, горечью… Грушевая, Красная балка, Голубая – вся донская земля теперь словно женщина в самой спелой, знойной своей поре: ослепительно-красива, горяча, сладка, пьяняще пахуча и так желанна. Вспоминают, что раньше, когда в ручной сенокос неделями жили в шалашах, на покосе, то самые красивые дети рождались в марте, через девять месяцев после косьбы».
В описании красоты природы донской сегодня Борису Екимову равных нет. Да и будет ли? Одно и то же чудо дважды не случается. И потом ведь эта Грушевая балка – совсем не Грушевая балка, которая на самом деле. Это «иное», о чем русские символисты рассудочно мечтали, а вот Борис Екимов увидел въяве, но не тогда, когда в Грушевой балке был, а потом, памятью какой-то особой.
Да-да. «А помнить будем иное…»
А образы его человеческие? Ни одного так называемого «типа» вы здесь не встретите. И даже шукшинское определение «характеры» здесь не подходит. Даже Мишка Абрек, споивший самогоном хутор и грабящий стариковские копейки (пенсии матерей-старух, на которые, мучительно краснея от стыда, живут работящие дочери и сыновья, годами зарплаты не получая), даже этот мироед вовсе не тип и даже не характер. Это – Змей-Горыныч. Наложил оброк на село и грабит. И Надя, беженка из Чечни, которую Горыныч сделал своей наложницей, тоже не тип, хотя сколько их таких вот с Кавказа бежало, оставляя под угрозой нелюдей с волчьими глазами ключи в замках родовых домов, чтобы нелюдям потом двери не ломать, а входить неспешно, как в свой дом. Не тип это и даже не характер, а пронзительная память писателя, насмотревшегося горя людского, но вдруг прояснившего свое зрение до одной-единственной женской слезы, вобравшей в себя все женские слезы того еще совсем недавнего лихолетья. «Не надо плакать…» – называется рассказ. И – правда: не надо слезы в три ручья лить. Но одной женской слезой Нади-почтальонши этот жестокий, кровавый мир омыть – вот на что память писателя способна. Это память не избирательная, а собирательная и как бы соборующая, омывающая те грехи, о которых мы в суете забыли, но которые в Небесной Книге записаны.
А Фетисыч? Откуда этот мальчик, который мудрее всех взрослых, над которым они сами изумляются, который даже совхозного бригадира, пришедшего школу закрывать (последняя учительница умерла), смущает и заставляет в тихой оторопи отступить?
Пьяный отчим, мать, измученная работой безденежной… Пять учеников в школе всего. Но Фетисыч открывает школьный журнал и всех поименно выкликает. Выговаривает! Почему цветы на подоконнике не политы? Почему журнал погоды, как учительница велела, не заполнен? Да ведь дождь льет каждый день, чего ж тут заполнять? Заполняйте! И, оставив мертвым хоронить своих мертвецов, идет один, через лес, через топь, в центр, новую учительницу искать. Найдет, не найдет? Но школу, пока есть Фетисыч, не закроют. Он не позволит.
Я скажу вам, кто этот мальчик. Отрок Варфоломей. В иные – иные! – времена по дороге через лес явился бы перед ним старец-черноризец и благословил бы на святость и на духовное руководство Россией. И появился бы новый Сергий Радонежский. Но только не явился старец, а у писателя нет таких сакральных полномочий. Только есть право памяти, особой, не отобравшей, а собравшей из тысячи таких вот мальчиков одного – Фетисыча. Не нам в укор, а в оправдание. Да какое же это оправдание, скажете вы, если мальчишка вместо учительницы уроки ведет! Ведь это ужас, развал, катастрофа!
Ох, не спешите! Настоящие развал и катастрофа начнутся там, где не будет ни одного Фетисыча, мудрого мальчишки, глядя на которого, даже совхозный бригадир, в последнее время идущий на людей не глядя, «роги в землю» (стыдно!), оттаивает сердцем от мертвого бесчувствия, вдруг поразившего деревенского жителя…
«Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись.
– А может, вам у Башелуковых собираться? – спросил он. – Хата большая, теплая, и они не против».
Лукавит бригадир. Понимает, что школе – конец. Не пойдет в умирающий хутор новая учительница, побоится.
Но Фетисыч непреклонен.
«А библиотека? – бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. – А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и не будем числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, – убеждал он бригадира. – Значит, можно жить. А увидят замок – и развернутся.
– Верно, верно… – успокоил Якова (Фетисыча. – П.Б.) бригадир. – Это я так, попытал… Будет Варя топить, приглядывать. Дров напилим. А там учительницу найдем».
И недаром этот в общем-то безысходный рассказ вдруг завершается на чистой, высокой и хотя грустно-щемящей, но жизнеутверждающей ноте: «К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой… За ними – третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей».
И как тут не вспомнить один из последних рассказов Бориса Екимова «Говори, мама, говори…»
«По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала: загорался в ней свет, пела веселая музыка, и объявлялся голос дочери, словно рядом она:
– Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!»
Уехала дочь из хутора за полторы сотни верст, бросив старуху-мать. А чтобы совесть себе успокоить, оставила мобильник, объяснив, на какую кнопку нажимать, когда «коробочка» засветится и запоет, а на какие – не нажимать ни в коем случае!
Паскудная вроде бы ситуация… Легко представить, что бы сделал из этого сюжета другой «деревенщик», для которого мобильники, конечно, от дьявола. Так и видишь финал: лежит мертвая старуха с остекленевшими глазами, рядом весело наигрывает черная коробочка. Но это не Екимов. У него ведь не только память особая, но и особый, какой-то здраво-целомудренный взгляд на жизнь.
Все-таки связь. Связь! Все-таки звучит по утрам голос дочери, и старухе легче становится на душе. Помнит дочь. Старуха даже гордится.
«Мобила! – горделиво повторяла она слова городского внука. – Одно слово – мобила. Нажал кнопку, и враз – Мария. Другую нажал – Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? – вопрошала она. – Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…»
Одна беда – тариф. «Мама, – донеслось из телефона строгое, – говори по делу. Мы же тебе объясняли: тариф».
Вот этот «тариф» никак не вмещается в сознание старухи. Вот он, голос дочери, рядом, а не ухватишь. Не расскажешь ничего. Даже того, что упала недавно и разбилась… «Тариф»!
Удивительный рассказ! Вдруг героем становится не человек, а телефон. На него замкнуты судьбы человеческие.
Но и здесь Екимов находит если не выход, то оправдание. Проснулась в ее дочери совесть. Память заговорила. И вдруг волшебная коробочка ожила, засветилась и заиграла весело не утром, как положено, а в неурочное время. Что такое случилось?
«Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:
– Говори, мама, говори…
– Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь всё мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..
В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как всё это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.
– Говори, мама… – просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. – Говори, мама, говори…»
Невозможно без слез читать этот крохотный рассказ, в котором опять-таки не отобрана единичная ситуация, но и не типизированы ситуации слишком многочисленные, чтобы ткнуть читателя носом в нравственный кошмар: мобильная связь заменила, мол, живое общение даже самых близких людей. Не отбирает он и не типизирует, но, пропуская сквозь чудодейственные свойства писательской памяти, собирает в единый фокус живую жизнь (какая ни есть, даже и со старухами, брошенными родными дочерьми на хуторах с «мобилами») и создает образ-символ неугасимой совести человеческой и вместе с тем неиссякаемого же человеческого смирения. И даже «страшная» «мобила» вдруг и впрямь оживает, наполняется живым голосом и становится чем-то «иным», чем является на самом деле:
«Говори, мама, говори!»
Но не надо думать, что Борис Екимов – эдакий благостный писатель, всё приемлющий, всё оправдывающий. За последние десятилетия не было повести более страшной и социально обнаженной, как провод без изоляции, чем «Пиночет».
Самый стиль Екимова здесь резко меняется. Вот новый председатель колхоза Корытин по прозвищу Пиночет вместе с сестрой Катериной подъезжает к станции…
«Подъехали. Встали.
– Полчасика – и на станцию… – пообещал Корытин. – Хочешь, выйди, промнись.
– Конечно, – легко согласилась Катерина, открывая дверцу машины.
Она выбралась из кабины и встала, ошеломленная.
Рядом, откинув на землю задние борты-трапы, стояли “КамАЗы”. Возле них кучей теснились страшные, на коров не похожие скотиняки: рога, череп, проваленные глаза, грязная, в сосулях, шерсть, острые хребты, ребра, маклаки – всё наружу, лишь кожей обтянутое. Коровы сами лезли на трап, по которому подняться у них сил не хватало, и они падали и ревели, вытягивая тощие шеи, видя и чуя совсем рядом пахучую солому, настланную в кузовах. Люди поднимали коров, пропуская под брюхо брезентовые ремни, волокли в кузов, укладывая на подстил. Коровы тут же начинали яростно грызть сухие будылья соломы. А те, что еще оставались внизу, на земле, истошно и тонко мычали, лезли и падали, пытались подняться и не могли. И тогда принимались реветь, задирая голову, словно предсмертно. Висел над базами, сливаясь и впереклик, неумолчный вопль.
Катерина стояла, не смея ли, боясь ли сдвинуться с места. Она глядела не веря.
Зажмурилась и снова открыла глаза.
Белый день до боли ясно высвечивал всё ту же картину: кирпичные коровники, черные проемы дверей, ископыченный баз, по которому там и здесь валялись рогатые коровьи головы, ноги, шкуры, припорошенные снегом; в дверях же, в проеме, – гора коченелых телячьих трупов, на ней – большие серые крысы, с писком ныряющие в проеденное скотье нутро.
Мужик в крытом большом полушубке, заметив Катеринин испуг ли, ужас, набился с разговорами, охотно сообщив:
– Лисапеты… Наши лисапеты… Я их так называю.
И впрямь: рога да костлявый остов – похоже на велосипед.
– Как же это… – выдавила из себя Катерина. – Колхоз… такое…
– Колхоза нет, – внушительно объяснил мужик. – Акционеры. Закрытого типа. Чтоб никто не влез. Да наши еще живые, – успокоил он Катерину и даже похвалился: – Через раз, но дышат. У Корытина откормятся, еще и молоко, глядишь, будут давать. А в “Комсомольце” гурт навовсе поморозили. Стояли как статуи. Поезжай погляди. Изо льда ноги досе торчат. Как топорами рубили…
Он что-то еще говорил о колхозе, о жизни, Катерина же слышала лишь скотины недужный рев и крысиный писк. Ей сделалось нехорошо. Она залезла в машину, затворила дверь и сидела опустив голову».
Это – тоже Екимов. Тот самый, который любовался пчелами и божьей коровкой в Грушевой балке. И всё с той же памятью особой, не избирательной, а собирательной. Только картина эта напоминает не Левитана, не Поленова, не Саврасова и не «передвижников». Это скорее «Герника» Пикассо или «Предчувствие гражданской войны в Испании» Сальвадора Дали. При виде этого хочется только одного – бежать, бежать!
«Потом, в поезде, у вагонного окна, Катерина глядела и глядела на волю. Кончился поселок, дома его, открылась белая степь. Чернели голые деревья вдоль полотна дороги, туманился горизонт белой мглой. И вспомнились слова песенки: “Серый денек… Белый летит снежок… Сердце мое…” А вот дальше Катерина не могла вспомнить. “Сердце мое…”
Мама… Мамочка умерла молодой, от сердца. Брат так похож на нее лицом и характером. Весь в маму. Не дай, не дай Бог…
- Серый денек,
- Белый летит снежок.
- Сердце мое…
Она заплакала, прислонясь к окну, и шептала: “Зачем, зачем ты туда вернулся, братушка…”»
Зачем вернулся молодой Корытин в родной колхоз из удобного райцентра, где сидел в удобном начальническом кресле, – вопрос не праздный. В конце девяностых годов, когда в журнале «Новый мир» появился «Пиночет» (кстати, чуть ли не последнее на моей памяти произведение, вдруг как-то всех задевшее, взволновавшее и вызвавшее единодушно восхищенные отзывы в критике), это был вопрос выбора всей огромной страны. Что делать с колхозными хозяйствами? Может, бросить их к такой-то матери? Раздать кому угодно. Кто возьмет, кто не побрезгует. Конечно, не о подмосковных землях речь.
Этот выбор до сих пор перед нами стоит. И это выбор не экономический, это – выбор сердца. Корытин, конечно, никакой не Пиночет. Эта злая кличка как будто нарочно приклеена ему теми, кто считает, что сильная власть в России – непременно диктатура.
Корытин – русский человек, сделавший свой сердечный выбор. Через повесть рефреном звучат слова песенки:
- Белый летит снежок.
- Сердце мое…
«Сердце мое…» Два дня назад говорили мы с Борисом Петровичем в Доме русского зарубежья, в гостиничном номере. «А что, Борис Петрович, – спросил я, – предчувствовали в 1999 году, что через год в России будет править Путин?» «Да ничего я не предчувствовал, – сказал Екимов. – Писатель, если только не врет задним числом, ничего никогда не предсказывает. Был, был такой председатель по кличке Пиночет». «Почему – был?» «Помер год или два назад, упокой, Господи, его душу!» Я замер. Вот что предчувствовал писатель в своей вовсе не политической, но глубоко сердечной повести. Вот чего боялась сестра Пиночета Катерина. Потому что в деревнях сегодня умирают обычно от двух болезней: сердечных и от рака.
От чего умер Корытин-Пиночет, я даже не стал Бориса Петровича спрашивать.
Александр Еременко: случайный зритель
О Господи, я твой случайный зритель…
В петербургском издательстве «Пушкинский фонд» вышла книга стихов «Горизонтальная страна». Ее автор хорошо известен многим любителям поэзии. Однако вот уже почти десятилетие Александра Еременко будто не существует в литературном процессе. Его имя не встретишь ни в «толстых» журналах, ни в премиальных «листах», ни в бесчисленных рейтингах.
Что произошло?
Стих, вынесенный в эпиграф, звучит нехарактерно для Александра Еременко. Это почувствует всякий, кто знает его стихи. Не в его натуре этот условный лирический пафос, прямое обращение поэта к Творцу. Тем более не в его вкусе это поэтическое смиренномудрие: «О Господи, я твой…» В Александре Еременко привыкли видеть если не совсем нахала и хулигана, который издевался над советскими классиками, подбрасывал в небо женщин и пил с Мандельштамом на Курской дуге, то безусловно поэтического бунтаря и радикала. Да и общественные взгляды Еременко всегда, сколько я помню, были демонстративно левыми, то есть, по-нынешнему, правыми. В своем политическом выборе между Ельциным и Лигачевым или Прохановым и Новодворской Еременко ни на секунду бы не усомнился.
Разобраться в его религиозных воззрениях на основании одних стихов нет никакой возможности. Местами встречаются намеки на увлечение индийской метафизикой, но намеки эти крайне неубедительны. Вообразить себе его лирического героя в толпе, например, кришнаитов, конечно, можно, но только поместив картинку в соответственный контекст: ну, скажем, в пацифистский митинг, разгоняемый милицией. По окончании митинга герой выйдет из толпы, чтобы снова оказаться в толпе. На этот раз в ресторанной.
- Когда я с бутылкой «Массандры»
- иду через весь ресторан,
- весь пьян, как воздушный десантник,
- и ловок, как горный баран,
- все пальцами тычут мне в спину,
- и шепот вдогонку летит…
Нет ресторана? Не беда!
- Пью за свободу, с другом, не один.
- …за мир и дружбу, за свердловский рок!
Лирический герой Еременко никогда не оставался до такой степени одинок, чтобы спокойно предаваться медитации и обращаться с молитвой к Творцу. Он нуждался в «мире». И даже грубее: он нуждался в поклонниках. Если и не в стадионах, то по крайней мере в чутком дружеском круге, где он мог быть первым среди равных, эдаким поручиком Ржевским (не из анекдотов, а из фильма «Гусарская баллада»), эдаким Сильвио до его дуэли. И недаром он любил Высоцкого:
- Я заметил, что, сколько ни пью,
- всё равно выхожу из запоя.
- Я заметил, что нас было двое.
- Я еще постою на краю.
С Высоцким, несмотря на астрономическую разницу в количестве поклонников, его роднит вот этот врожденный демократический аристократизм.
Вспоминаю трогательный случай начала восьмидесятых годов. Среди студентов Литинститута прокатился слух, будто Еременко будет читать стихи в филиале МХАТа на Тверском бульваре. Вечером там собралась небольшая толпа почему-то возле черного входа. Туда же подошел и Еременко. В театр нас не пустили – не по чину. Стихи чудесно звучали во дворе…
Этим он и покорял, но этим и раздражал. Покорял студенческие собрания восьмидесятых годов, где блистали «метаметафористы» (так, с подачи Константина Кедрова, называли Жданова, Еременко и Парщикова) и где он всегда шел отдельным номером.
- Я добрый, красивый, хороший…
- Я мастер по ремонту крокодилов…
- Я пил с Мандельштамом на Курской дуге…
Последняя строчка особенно запомнилась. Если не воспринимать ее в качестве красной тряпочки, но оценить с точки зрения смыслового и музыкального ряда, то окажется, что Еременко нашел идеальный вариант диалога с любимым поэтом. Где же еще, скажите на милость, можно им встретиться, как не посредине ХХ века? В «Бродячей собаке»? В ЦДЛе брежневской эпохи? И то и другое вот именно бред, фальшь и нелепость. Нужна какая-то нейтральная территория, где было бы не стыдно поболтать поэтам. Лучше Курской дуги, в окопе, за кружкой водки, места не сыскать. Разумеется, если не понимать это буквально.
В Еременко никогда не было андеграундного надрыва и расхристанности. Даже в своей обычной тельняшке он выходил к публике как бы с иголочки, во многом предвосхитив стиль и драйв современной постмодернистской культуры с ее ироничностью, ненавязчивостью, антипафосностью. Однако нельзя представить, чтобы он нормально пристроился в американском университете и сочинял крутые концептуалистские стихи в свободное время от лекций, ученых советов и кафедральных посиделок.
Его лирический персонаж (его называли «Ерёмой») всегда поступал «по щучьему велению, по моему хотению». Он жил, а не выживал.
- В начале восьмого с похмелья болит голова…
- …Люблю тебя, жизнь, будь ты проклята снова и снова.
Время декламирует свое:
- Будь, поэт, предельно честен.
- Будь, поэт, предельно сжатым.
- Напиши для нас в «Известьях»
- для народных депутатов…
А Ерёма талдычит свое:
- Решительный, выбритый, быстрый,
- собравший все нервы в комок,
- я мог бы работать министром,
- командовать крейсером мог.
- Я вам называю примеры:
- я делать умею аборт,
- читаю на память Гомера
- и дважды сажал самолет.
- В одном я повинен, но сразу
- открыто о том говорю:
- я в космосе не был ни разу,
- и то потому, что курю…
Ну разве может такой чудо-молодец согласиться на выживание? На место в каком-нибудь рейтинге? На обслуживание индустрии пиара?
Это он-то, который ради космоса не поступился самой обыкновенной сигаретой!
Обратите внимание: он и самолет сажал совсем не так, как (представим невозможное!) его бы посадил случайный пассажир.
Он сажал его не один раз. Дважды!
И это не было капризом. Не было просто позой. Говоря словами поэта, его герой был «как вбитый гвоздь… заподлицо вколоченный в свободу…»
- Не выправить пьяного жеста,
- включенного, как метроном…
И не в том дело, что жест был пьяный (мерное покачивание руки с отбивающим ритм указательным пальцем), но в том, что этот жест нельзя выправить, как нельзя выправить стихи…
- Как замеряют рост идущим на войну,
- как ходит взад-вперед рейсшина параллельно,
- так этот длинный взгляд, приделанный к окну,
- поддерживает мир по принципу кронштейна.
- …Поддерживает мир. Чтоб плоскость городов
- держалась на весу как жесткая система.
- Пустой кинотеатр. И днище гастронома.
- И веток метроном, забытый между стен.
О чем эти строки? Ни о чем? Просто картинка, нанизанная на чей-то взгляд… Но она так сделана, что нельзя поправить в ней и штриха без того, чтобы вся картинка не рассыпалась…
Как выправить вот это?
- Сгорая, спирт похож на пионерку,
- которая волнуется, когда
- перед костром, сгорая от стыда,
- завязывает галстук на примерку.
Или что с этим сделать?
- В густых металлургических лесах,
- где шел процесс созданья хлорофилла,
- сорвался лист. Уж осень наступила
- в густых металлургических лесах.
Последние строки в свое время особенно часто цитировались как образец поэтического абсурда и бессмыслицы. Какие металлургические леса? Какой хлорофилл? Наморщив лбы, социально озабоченные литераторы называли Еременко иронистом.
Как будто это что-то объясняло! Как будто поэзия когда-либо нуждалась в каких-то объяснениях! За лесами, да еще и металлургическими, не видели одинокого сорвавшегося листа, волшебно кружащегося в своем замедленном невесомом полете.
- Там до весны завязли в небесах
- И бензовоз, и мушка дрозофила.
- Их жмет по равнодействующей сила,
- они застряли в сплющенных часах.
- Последний филин сломан и распилен.
- И, кнопкой канцелярскою пришпилен
- к осенней ветке книзу головой,
- висит и размышляет головой:
- зачем в него с такой ужасной силой
- вмонтирован бинокль полевой!
Самое поразительное, что при всей своей будто бы абсурдности поэтический мир Еременко гораздо точнее и строже, нежели тот, где:
- …И сегодняшний бред обнажает клыки.
Где настал полный хаос:
- Рифмы сбились с пути или вспять потекли.
В поэтическом мире Еременко вообще необыкновенно чисто и проветрено, как в доме хорошей хозяйки или на боевом корабле. Здесь нет грязи, которая, по определению, «материя не на своем месте». Его Муза похожа на ненормальную девочку из одного стихотворения, но на боку этой девочки:
- …непреднамеренно хипповая,
- свисает сумка с инструментами,
- в которых дрель, уже не новая.
- И вот, как будто полоумная
- (хотя вообще она дебильная),
- она по болтикам поломанным
- проводит стершимся напильником.
- …Ей очень трудно нагибаться.
- Она к болту на 28
- подносит ключ на 18,
- хотя ее никто не просит.
О порядке печется! Она:
- …но не допустит, чтоб навек
- в осадок выпали, как сода,
- непросвещенная природа
- и возмущенный человек!
Но мир тем не менее выпадает, и выпадает в осадок. Побеждает вселенская энтропия, и «демократ» Александр Еременко неожиданно аукается не с Константином Кедровым, а с Константином Леонтьевым:
- Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема.
- Шелестит по краям и приходит в негодность листва.
- Вдоль дороги пустой провисает неслышная лемма
- телеграфных прямых, от которых болит голова.
- Разрушается воздух. Нарушаются длинные связи
- между контуром и неудавшимся смыслом цветка…
Поэзия подобна ласточке. Траектория ее полета непредсказуема, ее нельзя ни вычислить, ни выправить. Но все ее телодвижения осмысленны и подчинены строгой внутренней задаче. Подобно игле, она латает распавшиеся «длинные связи», но лишь до поры, покуда сама материя выдерживает латание. Покуда игла не начинает быстро сновать в пустоте…
- В глуши коленчатого вала,
- в коленной чашечке кривой
- пустая ласточка летала
- по возмутительной кривой.
- …И вылетала из лекала
- в том месте, где она хотела,
- но ничего не извлекала
- ни из чего, там, где летела.
- …В чулане вечности противном
- над безобразною планетой
- летала ласточка активно,
- и я любил ее за это.
В одном из последних стихотворений в книге, написанном, если я не ошибаюсь, лет десять тому назад, побеждает другой мотив движения – линейный, который вдобавок оказывается бессмысленным скольжением по замкнутому Садовому кольцу:
- Мы поедем с тобою на А и на Б
- Мимо цирка и речки, завернутой в медь,
- где на Трубной, вернее сказать, на Трубе,
- кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.
- Мимо темной «России», дизайна, такси,
- мимо мрачных «Известий», где воздух речист…
- …Мимо Герцена – кругом идет голова…
- …Мимо Пушкина, мимо… куда нас несет…
- …Мимо Белых Столбов, мимо Красных ворот,
- Мимо дымных столбов, мимо траурных труб.
- «Мы еще поглядим, кто скорее умрет». —
- «А чего там глядеть, если ты уже труп?»
Ночь. Улица, Фонарь. Мимо… мимо… мимо… Куда? Зачем? В поисках какого запасного выхода? И есть ли он в «горизонтальной стране», сделавшей горизонтальный выбор? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я знаю (вернее, чувствую), что молчание Еременко каким-то образом рифмуется с молчанием многих сердец и моим – тоже.
Это не только его проблема.
Если бы это была только его проблема!
Александр Кабаков: человек в фуляре
«Фуляр (фр. foulard) —
1) тонкая шелковая ткань полотняного переплетения, отличающаяся особой мягкостью;
2) шейный или носовой платок из такой ткани».
Словарь иностранных слов
В газете «Коммерсантъ-daily» появилась очередная колонка Александра Кабакова. Нынешний год для Кабакова вроде как юбилейный: десять лет назад, в мае 1988 года, была написана повесть «Невозвращенец». Напечатанная в журнале «Киносценарии», она принесла солидный успех, поставив Кабакова в первый ряд «перестроечных» авторов. Из известного журналиста он превратился в преуспевающего прозаика, каждая новая вещь которого автоматически становилась желанным гостем журнала «Знамя». В прошлом году вышло «избранное» Александра Кабакова под названием «Самозванец».
Напомню тем, кто забыл: «Невозвращенец» был написан в жанре антиутопии. Главный герой, ученый-экстраполятор, по заданию секретных органов попадал в недалекое будущее с целью его описания. Будущим был 1993 год. И там происходили всяческие ужасы: голод, мятежи, бессудные расстрелы и проч. По центральным проспектам и площадям столицы бегали толпы погромщиков, антисемитов, радикалов из новообразованных партий. Правительственные войска железной рукой пытались сдерживать беспорядки, вселяя еще больший страх в напуганных людей.
Всё это как нельзя лучше отвечало общественному сознанию конца восьмидесятых, когда эйфория первых лет перестройки начала сменяться предчувствием катастрофы, связанной с развалом великой и несчастной империи. Казалось бы, Кабаков не ошибся и даже в точности попал в роковой год: 1993-й.
Что-то, однако, мешает признать «Невозвращенца» пророческой вещью. Всё так – да не так. Перечитывая повесть сегодня, испытываешь странное чувство: будто история проделала с автором злой трюк: подыграла на мгновенье и тотчас поставила крест на его «сценарии». События осени 1993-го не получили развития. В сознании большинства граждан они остались именно «сценарием», кем-то и зачем-то бездарно поставленным на телевидении. Словно некто решил воспользоваться художественной идеей Кабакова для полновесного сериала, но затем решил ограничиться трехдневкой, убедившись, что сценарий-то из рук вон плох.
Самое любопытное – это начало «Невозвращенца», где герой-автор признается в собственной бездарности. «Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный либо, наоборот, слишком претенциозный стиль… совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах». Если не считать этот зачин обычным литературным кокетством, то ситуация с «Невозвращенцем» становится еще более интересной, чем если бы повесть оказалась только пророческой. Вольно или невольно Кабаков предвосхитил не столько социальные и политические, сколько художественные перспективы русской истории. Сценарий будущего, по Кабакову, создается плохим писателем, да еще и сознающим свою бездарность, да еще и комплексующим в связи с этим. Точнее – невозможно было предугадать!
Когда-то Максим Горький писал о событиях 1905 года: «Убитые да не смущают! История окрашивается в новые цвета только кровью». Оставив за скобками сомнительный «эстетизм» этой фразы, признаем, что в этом взгляде изнутри событий есть своеобразная красота. Современность не пугает. Будущее обнадеживает. Прошлое отрясается, как прах. Ничто не смущает!
Так рождается романтический герой. Пусть он ошибается. Пусть его ошибки приносят страдания ему и другим. Пусть жизнь, в конце концов, скрутит его в бараний рог либо он сам ужаснется своим заблуждениям. Но он не стоит на месте. Он действует и заставляет действовать остальных. В «Невозвращенце» всякое действие заранее профанируется бездарностью сценариста-футуролога. Остается пожалеть героев, которых он вовлекает в это жалкое художество.
Мало того: где-то на невидимом плане повести действует и второй засланный, только не от органов, а от оппозиции. Какой отчет он предоставит хозяевам, мы не знаем. Но отчего-то возникает уверенность, что он будет ненамного выразительнее отчета нашего героя. Ткань истории обветшала и прогнила насквозь. Из нее уже не соткать добротного полотна.
«Ледяной ветер нес снег зигзагами, и белые струи, словно указывая мне путь, поворачивали с Грузин на Тверскую. Где-то в стороне Масловки стучали очереди – похоже, что бил крупнокалиберный с бэтээра… Впереди, где-то у Страстной, грохнул взрыв. И улица мгновенно опустела – только последние тени задрожали у стен и исчезли, влившись в подъезды и подворотни. Я вильнул за угол…»
Отчет и впрямь не бог весть какой. Скорее издевательский… «Словно», «похоже», «где-то», стандартный набор московской топонимики… и тени, тени, с которыми сливается фигура нашего историографа. Но – странное дело! – за всем этим есть какая-то неотразимая художественная правда. Именно так переживались события осени 1993-го большинством москвичей. Кто слышал с Пушкинской раскаты орудий «где-то» на Баррикадной, кто шарахался в подворотни, кто проезжал в злосчастные дни в метро под роковым местом через наглухо задраенные станции – тот поймет!
К повести Кабакова как нельзя лучше подходит банальное: «Что-то в этом есть». И если бы он ограничился «Невозвращенцем», то имел бы шанс остаться довольно непонятной фигурой в русской литературе последних лет. Созданный им образ бедного сочинителя, арендованного на службу бездарным временем, не вполне отождествлялся с самим автором и мог претендовать на род изящной литературной игры в истинного пророка в отечестве. Он словно бы заранее предчувствовал, какой скукой и пошлостью обернутся горячие интеллигентские споры времен перестройки, как скоро и ловко будут сданы светлые идеалы.
«Как-нибудь проживем?» – спрашивает героя его жена.
«Проживем, – согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся».
Кабаков, однако, не ограничился… Да и странно было бы требовать этого от писателя, не в самом юном возрасте преодолевшего перевал славы. В том, что это был именно перевал, а не пик, на котором стоит закрепиться, он, кажется, не сомневался. Во всяком случае, этот мотив станет основным в бесконечной авторской рефлексии, которая, в свою очередь, станет главной и чуть ли не единственной темой его творчества.
Вернемся к колонке в «Коммерсантъ-daily». Профессиональный «читатель газет», я просматриваю периодические выступления Кабакова в роли колумниста скорее по обязанности. И тем не менее каждый раз не перестаю изумляться этому загадочному явлению! Известный писатель, продающий свое перо газете ради заработка, – дело понятное и не только извинительное, но и глубоко почтенное. Отчего не поговорить со своим читателем прямо – о том, что его волнует, что является содержанием ежедневной общенациональной жизни? Но для этого он должен как минимум обладать собственным мировоззрением. То, чего не требуется от журналиста, само собою ожидается от писателя. Его взгляд может быть высокомерным, скандальным, шокирующим общественное мнение. Или, напротив, – здравомыслящим, растолковывающим, умиротворяющим… Но газетный писатель, органически (если не сказать: патологически) презирающий всякое мировоззрение, больше того, всей своей интонацией словно подчеркивающий вопиющую необязательность собственных слов, – это какой-то нонсенс!
Однажды НТВ учинило Москве легкую нервотрепку в связи со скандальным фильмом Скорсезе о Христе. В том, что нервотрепка относительно удалась, я убедился лично: в нашем микрорайоне какой-то герой на время показа фильма отключил рубильник. Ровно на три часа – так, что не успел разморозиться холодильник, а я остался в неведении относительно итальяно-американской крамолы, ревностно защищаемой господином Парфеновым. Тем не менее в ситуации с фильмом Скорсезе в России что-то было, какой-то намек на действительные проблемы русского православия да и христианства в целом, и точки зрения газет на это событие меня живо интересовали. Смысл колонки Кабакова был примерно следующий. Все идиоты! Но главное – фильм-то дрянцо. И лучше бы – ничего этого не было. Ни НТВ, ни церкви, ни Скорсезе.
В последней прочитанной мной колонке Кабаков взялся порассуждать об Америке и России. Тема не бог весть какая свежая, но все-таки живая. И вновь я не расслышал ничего, кроме той же изумительной интонации. Россия дрянцо… И Америка дрянцо… Но кого-то угораздило родиться там, кого-то здесь. И тем и другим крупно не повезло. Но – что поделать?
Вот, кажется, главный вопрос, который задает Кабаков своим творчеством. Не «что делать?», а «что поделать?» Что поделать, если угораздило родиться в идиотском конце идиотского века в идиотской стране, окруженной идиотскими странами, которые сдохли бы от скуки, не будь этой идиотской России? Положительного ответа на этот риторический вопрос, разумеется, быть не может. Но может быть ответ отрицательный. Что поделать? Не быть писателем! Бесполезно или нет (в высоком смысле) это древнее ремесло, но оно – не бессмысленно по определению. Если человек взялся за перо, значит, некая воля этим руководила.
Вот с волей-то Кабаков с самого начала и просчитался. Тот странный факт, что его писатель в «Невозвращенце» описывал события как бы по заданию КГБ (неважно, что КГБ, тем более что и аббревиатура-то ни разу не названа, – важно, что по заданию какой-то секретной инстанции), в дальнейшем сыграл с автором злую шутку. Нельзя безнаказанно столь жестоко профанировать идею Божественного задания. Или Кабаков ничего не знал о мистицизме творчества? Или он слишком отчаянный игрок? В последнее хотелось бы верить. Но творчество Кабакова, увы, мало дает тому доказательств. Его игра с мистикой явно затмевается навязчиво демонстрируемыми авторскими комплексами по части собственной творческой состоятельности. И становится понятно, что секретные органы в «Невозвращенце» – только трюк во спасение, отказ от полноценной художественной ответственности вчерашнего журналиста, вдруг вознамерившегося надеть венок сочинителя.