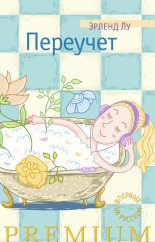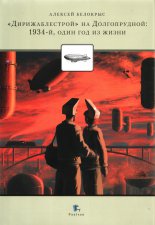Скрипач не нужен Басинский Павел
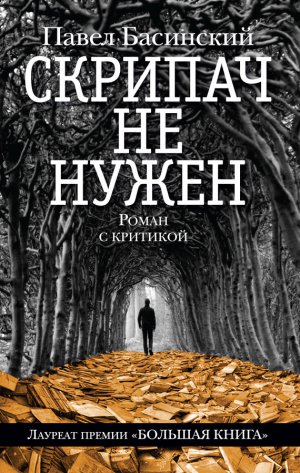
В сущности, в этом нет ничего плохого, как и в обратной смене вех (от писательства вернуться к журналистике). Если бы только кабаковский герой-автор (исповедальное «я») не был до такой степени озабочен своим статусом. Если бы сегодняшний писатель постоянно не озирался на вчерашнего журналиста, а дорогостоящий журналист не вспоминал столь подчеркнуто о своей писательской значительности. И литература, и журналистика – занятия живые, человеческие. Им вроде нечего делить.
Никто из наших писателей, как Кабаков, до такой степени не принуждает читателя всегда ощущать дыхание автора за своей спиной. В романе «Последний герой» он вдруг затевает нелепейшую переписку с собственным главным персонажем. При этом сам, кажется, чувствует ее нелепость. Персонаж скабрезничает, автор огрызается и пошло острит. Всё это напоминает многолетне отрепетированный семейный скандал. Кто из них муж и кто жена? За автора неловко, героя начинаешь ненавидеть. Зачем-то автор перечисляет социальные слои своих читателей – словно оправдывается. Перед кем? За что? И опять инициаторами развития сюжета оказываются какие-то темные силы: какие-то «органы», какая-то «братва». «Братва» преследует героя, выживая из собственной квартиры. «Органы» опять засылают его в будущее. Но на этот раз Москва не погибает, а изнывает от тоски, сытости и благополучия. Беспорядки теперь происходят лишь на окраинах, но столица не желает об этом знать. Еще один «сценарий» – легко угадываемый, просчитываемый, как будто бы снова подтверждаемый, но только «как будто».
Важна не реальность прогнозов, но общее ощущение безнадеги. Что бы ни случилось – всё будет скверно! И закрадывается сомнение: да полноте, о России ли тут речь? Не путешествуем ли мы по двум комнатам разума и психики самого автора? Но если так, заставь нас позабыть об этом! Создай свой собственный мир, но такой, чтобы в него поверили или, напротив, с радостью согласились обмануться. Не напоминай нам, пожалуйста, что мы находимся «в тебе». Мы читатели, а не психоаналитики.
В финале «Последнего героя» Кабаков графически рисует как бы мизансцену своего романа, тем самым визуально демонстрируя свой художественный метод. В глазах рябит от множества странных резонеров, своеобразных «критиков» романного действия, окруживших Героя и его Любимую плотной толпой, со всех сторон закрыв их от Зрителя. И напрашивается невольный вопрос: кто эти «критики»? Не сам ли автор, десятки раз перечитавший свой собственный роман?
Сравнение это обнажает, пожалуй, главный ущерб прозы Кабакова. В ней страх перед реальностью прямо пропорционален недоверию к фантазии. В его прозе напрочь отсутствует творец – в религиозном ли, в художественном ли смысле этого слова. Его функции берут на себя либо какие-то загадочные темные силы (КГБ, «органы»), манипулирующие героями с неведомыми самим этим силам целями, либо постоянно «обнажающийся», вертящийся перед зеркалом, «женственный» автор, который и сам в точности не понимает: зачем это он взялся за перо?
Но было бы в высшей степени несправедливо сказать, что прозы Кабакова как явления в русской литературе последнего времени просто нет. Это явление. И притом – весьма значительное. Гораздо более значительное, чем совершенно не различимая в своих духовных параметрах игра постмодерна. Проза Кабакова не снимает вопроса о Человеке, не избавляется от него как от проблемы заведомо неразрешимой и оттого бессмысленной. Больше того – она парадоксальным образом вопиет о ней. Она говорит о последней черте человека мыслящего, талантливого и не забывающего о своем природном человеческом достоинстве (этот мотив в прозе Кабакова очень силен), но органически не способного понять и принять общего направления движения мира.
Всё, что ни делается, всё к худшему. Мир осточертел, потому что непонятен. Не хочется быть щепкой, а приходится. Жизнь нельзя обустроить. К ней можно лишь приспособиться, а это противно. Противно, но «что поделать?»
Бежать… Бежать в сны, в алкоголическое отупение, в воспоминания прошлого… Еще вариант: заграница. Запереться с любимой в номере, потрахаться (извините!) всласть… Но так, чтобы на заднем плане непременно маячил ее муж – это снимает ответственность, избавляет от мыслей о возможной семье, а значит, возможном развитии, перспективе. Не думать всерьез о том, что происходит с миром и твоей страной. Окажешься нелеп и смешон. Но можно пофантазировать перед сном… Как ты из ручного пулемета кладешь рядами всех этих «братишек», грязных политиков. Сочинить для самого себя эдакий киношный боевичок, не очень, впрочем, увлекаясь, чтоб не поднялось кровяное давление.
Быть «человеком в фуляре». Не «в футляре» (это все-таки позиция), а «в фуляре». Недаром кабаковский «последний герой» регулярно достает из грязного белья и нежно отстирывает свой шейный платочек. Сохранить (не слишком, впрочем, бросающуюся в глаза) примету своей стильности. Старомодности, но – не ретроградности. Внешности – но не личности.
«– Проживем?
– Проживем…»
И когда всё же придут последние времена, и архангелы мощно возвестят в свои трубы о конце нашего изолгавшегося мира, «человек в фуляре» спутает эти звуки с сиренами «мерседесов» «братвы» и политиков. Поморщится и скажет капризно:
– Нельзя ли потише, господа?
И закутается в шейный платок.
Юрий Кублановский: смиренник-аристократ
Чем горше вино – тем похмелие слаще.
Чем злей – тем смиреннее речь.
Юрий Кублановский
Прежде чем начать разговор о творчестве Юрия Кублановского, одно короткое личное воспоминание о первой (еще без знакомства) встрече с ним. Начало девяностых годов уже прошлого века. Я только вошел в штат «Литературной газеты». Редакция «ЛГ» располагалась в Костянском переулке, но технические службы, бухгалтерия оставались в старом здании на Цветном бульваре. И вот стою за гонораром в кассу. Очередь. Очередь длинная, а гонорары уже мизерные, «перестроечные». Передо мной стоит другой бедолага-журналист, ожидая своих кровных «тыщ». Я с ним не знаком, но лицо будто знакомое. Кублановский?! Я его видел на фотографии, кажется, в той же «ЛГ» или где-то еще. Читал стихи, разумеется. Одно особенно запомнилось – так емко, изящно и «музыкально» было передано в нем и мое личное ощущение современности:
- Снег поскрипывает нарами.
- На ветру лицо горит.
- Русь под новыми татарами
- крепко, крепко, крепко спит.
- Под татарами, под пытками
- говорливей немота.
- За скрипучими калитками
- золотая мерзлота.
- Пахнет углями угарными
- топка честного труда.
- Русь под новыми татарами
- спит до Страшного Суда.
Но уже тогда возникло и первое несогласие с поэтом, с последней строфой:
- …Я Тогда пред Богом выступлю,
- попрошусь к Нему на дно,
- красный путь слезами выстелю,
- чтобы с нею заодно.
Почему несогласие? Да потому что после первых трех, нравственно замечательно точных строф поэт все-таки не миновал соблазна гордыни, искренней, поэтически, возможно, даже оправданной, но все-таки гордыни. Не может ни один поэт быть заступником России перед Богом. Хотя бы потому, что есть у нее заступник, а вернее, Заступница. Но и это несогласие для меня было куда ценнее множества равнодушных «согласий» с другими стихотворцами. Кублановский предлагал такую высоту и глубину разговора с читателем, на которых просто «согласий» быть не может. По высоте и по глубине это был первый ряд поэзии ХХ века…
И вот – в очереди. Даже смешно: «Как простой советский человек»! Словно и не уезжал, словно и не было семи, кажется, лет изгнания. И потом, встречаясь с Кублановским, я всегда отмечал про себя вот это: не «эмигрант». По духу и даже по внешности – не «эмигрант».
А с другой стороны, есть в нем, и по духу, и по внешности, какая-то отчужденность. Не «свой в доску», не «рубаха-парень». Родом из Рыбинска, провинциал и любит сердечно всё провинциальное, однако о поэтическом апостоле советской провинциальной музы, Сергее Есенине, отозвался суховато: «Я люблю поэзию Есенина, но, разумеется, не она определяет для меня лицо русской поэзии ХХ века. У Есенина непозволительно много неряшливого и необязательного… Есенин дал “код” легиону стихотворцев, особенно провинциальных…»
Жестко сказано, согласитесь.
И о Твардовском сказал сдержанно: «Простоватая, прямая, местами нравоучительная поэзия Твардовского кажется архаичной. Сам Твардовский скупо знал и туго понимал самых интересных поэтов этого века, вряд ли, кажется, задумывался над тайной – с двойным и тройным дном – лирической речи, о возможностях преображения словесного материала…»
Но еще отчужденнее он держится от тех, кто, казалось бы, венчает собой поэзию ХХ века. «Ужимка, ухмылка, гаерство теперь сделались повсеместны; волшебство стихотворной речи превращается в “текст”, в какие-то куплеты, а не достойные строфы. Твардовский же в своей поэзии был глубоко серьезен, и как бы ни было нам порой, повторяю, от этого скучновато, он все-таки одергивает нас в нашем шутовстве. Твардовский нес в себе традиционную психологию русского литератора: понимать поэзию как служение и дар как ответственность».
Следовательно, и в нынешней, «новой», «новейшей», отнюдь не «твардовской» поэзии Кублановский не «свой». Слишком старомоден. Не боится гражданственного пафоса, не бежит от политики. Никто не сказал о событиях 1993 года так сильно:
- Из-за Москва-реки
- слышится канонада.
- Наши ли мужики,
- пьяные черемисы,
- псы ли в блевотине
- не поделили ризы
- распятой родины.
- …Прямой наводкой,
- прямой наводкой
- в центре Москвы.
Одни эти «псы в блевотине», которые уже сидели в Белом доме, но под другими лозунгами, чего стоят! Прямые и гражданские стихи.
Но и – тот же Кублановский: «Недопонимание – залог неисчерпаемости стихотворения – даже может быть читателю особенно сладостно».
Попробуй после этого определить кредо Кублановского-поэта. Критика, публициста – это да, несложно. Он последовательный просвещенный консерватор, всегда осторожно, со всевозможной оглядкой ищущий для России основательный, чуждый как национального экстремизма, так и либерального хамства путь развития. Вот его слова: «Сейчас пытаются русскую идею подменить имперской и делают из Сталина с его командой русских империалистов с положительным знаком. Русский народ сейчас так болен, так устал, так нуждается в тонком, изящном и любовном терапевтическом лечении, что у нас нет просто сил, мы не можем себе позволить державные амбиции, да они России и не нужны».
Общественные взгляды Кублановского понятны и прозрачны, как и должно быть у человека ответственного. Но с поэзией его, слава богу, далеко не всё так понятно и прозрачно. Ее внешняя традиционная простота, отсутствие в ней «зауми», принципиальный поэтический «реализм» одновременно и очевидны, и обманчивы.
- Помнишь – гусениц чуткий пушок,
- стрелы ирисов, яблок мешок.
- Как пасхальные свечи, красны
- и смолисты огарки сосны.
- Клекот сойки, дождя дребедень
- и шаров золотых на плетень,
- колосясь, повалившийся сноп.
- Слышишь – Зверя тяжелый галоп.
- То Антихрист на сытом коне
- прыгнул наземь в свинцовом огне.
- И теперь всё равно – что бежать,
- что в глубокой могиле лежать.
Помню, это стихотворение 1979 года поразило меня не только и, может быть, даже не столько неожиданным переходом от идиллического дачного пейзажа к апокалиптической картине, сколько одним-единственным словом. «Сытый»! Сытый конь! Его так и видишь, этого коня, сытого, с мощным крупом, так и слышишь, как он хряпнулся о землю. Вот где настоящий реализм-то! Какие там достаточно условные и сразу же узнаваемые «стрелы ирисов» или снопы золотых шаров. Метафизическая реальность оказывается реальней земной картинки.
А вот другая, «верхняя» сторона метафизической реальности в чудесном стихотворном триптихе, посвященном гибели Леонида Губанова. Оплакивая друга, Кублановский зрит дальше:
- Скоро приступим чуть не гуртом,
- благо в дорогу не надо добра,
- прямо к сторожке с открытым окном
- старого ключника дядьки Петра.
- Ласково ль глянешь на прежних друзей,
- Божьих конюшен верный слуга,
- ты – выводя белокрылых коней
- на замутненные солнцем луга?
И снова – кони, и снова – зримые, сияющие до рези в глазах. Вот где «реализм»!
«Поэзии Кублановского свойственны упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка, интимная сродненность с историей и неуходящее ощущение Бога над нами» (Александр Солженицын).
«Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина. Его техническая оснащенность изумительна. Кублановский обладает, пожалуй, самым насыщенным словарем после Пастернака» (Иосиф Бродский).
Два отзыва мировоззренчески очень разных писателей, и оба точные, почти исчерпывающие. Не каждый поэт может похвастаться таким единодушным сочувствием и разновозрастных и разномыслящих людей. Кублановский как бы «безупречен». У него нет откровенно плохих стихов. У него безукоризненный поэтический слух, он никогда не мазнет кистью куда не следует. На его стихах хорошо тренировать молодых стихотворцев, показывая «как это сделано», как надо искать незатертые слова, метафоры. Ну вот хотя бы – стихи Елене Шварц:
- Тебе, чья стопа на земле невесома,
- шершавую блузу носить
- и крепкую корку латинского тома
- золой сигаретной кропить.
Как это здорово сделано, какие неожиданные слова, как играют они друг с другом!
Безупречность для него не форма, а содержание. По меткому замечанию покойного Генриха Сапгира, Кублановский – из «юнкеров», из «студентов-белоподкладочников». Он никогда не выходит к читателю расхристанным, не «грузит» его жалобами на неудавшееся житье-бытье, не плачет и не просит теплого сочувствия. Здесь чувствуется выучка, причем самостоятельная, выправка, не казенная, а какая-то внутренняя и, по-видимому, родовая…
Сам Кублановский нигде свою поэтическую задачу не формулирует, ни прозаически, ни стихотворно. Но общее состояние русской поэзии он переживает как свое собственное. В конце своего этюда о Твардовском он пишет: «Твардовский жил и творил в те баснословные теперь уже времена, когда казалось, что поэзии ничего не грозит, что она будет существовать всегда и читателей в России пруд пруди: дай им и ей волю – и наступит настоящий поэтический ренессанс. Причем так думали и стихотворцы, связанные с советским режимом, и те, кто был почти подпольщиком. Только теперь, при наплыве новейших культурных технологий, отличающихся подспудной неуклонной агрессией, проясняется, что поэзия вещь хрупкая, что она вымывается ими из цивилизационной духовной толщи. Неужели настоящая поэзия в новом веке окажется потерянной для России? Такую лакуну в духовном и культурном ландшафте уже нечем будет восполнить; такая потеря, естественно, повлечет за собой новый виток деградации языка, а значит, и национального духа – со всеми вытекающими для России последствиями. Как говорится, “потомки нам этого не простят”. Тем важнее сейчас поэтам свести с приходом расчет, провести вдумчивую ревизию наработанного до них…»
Когда я это прочитал, я понял, почему Кублановский «не эмигрант». Не только потому, что сильно чувство родины, ее речи, ее земли (у Кублановского это и Север, и средняя полоса, и Крым). Но еще и потому, что некуда эмигрировать. Настоящий поэт может сегодня только мигрировать в поисках тех духовных островков, где еще жива и нужна поэзия. Речь не о поэтических салонах, разумеется, а о духе поэзии, который дышит где хочет, и всё реже, слабее.
У Кублановского ее дух почти всегда интимно связан с русским православием:
- Соловки от крови заржавели,
- и Фавор на Анзере погас.
- Что бы ветры белые ни пели,
- страшен будет их рассказ.
- Но не то – в обители Кирилла:
- серебрится каждая стена,
- чудотворца зиждущая сила
- тут не так осквернена…
Это сравнение Соловков и Кирилло-Белозерска, но это еще и поиск поэтического воздуха. Того, которым может дышать Кублановский.
У него нет собственно духовных стихов, и я заметил, что он никогда не обыгрывает в стихах строки молитв. И здесь он сдержан. Но религиозный пафос присутствует везде, иногда прорываясь с необыкновенной силой, как, например, в этом стихотворении, посвященном Соловкам:
- Волны падают стена за стеной
- под полярной раскаленной луной.
- За вскипающею зыбью вдали
- близок край не ставшей отчей земли.
- Соловецкий островной карантин,
- где Флоренский добывал желатин
- в сальном ватнике на рыбьем меху
- в продуваемом ветрами цеху.
- Там на визг срываться чайкам легко,
- ибо, каркая, берут высоко,
- из-за пайки по-над массой морской
- искушающие крестной тоской.
- Всё ничтожество усилий и дел
- человеческих, включая расстрел.
- И отчаянные холод и мрак,
- пронизавшие завод и барак…
- Грех роптать, когда вдвойне повезло:
- ни застенка, ни войны. Только зло,
- причиненное в избытке отцу,
- больно хлещет и теперь по лицу.
- Преклонение, смятенье и боль
- продолжая перемалывать в соль,
- в неуступчивой груди колотьба
- гонит в рай на дармовые хлеба.
- Распахну окно, за рамы держась,
- крикну: «Отче!» – и замру, торопясь
- сосчитать как много минет в ответ
- световых непродолжительных лет.
А иногда он, напротив, проливается тихим, согревающим душу светом:
- Вмещает и даль с васильками и рожью,
- и рощу с пыльцой позолот
- тот – с самою кроткою Матерью Божьей
- родительский тусклый киот.
Прекрасные, трогательные и пронзительные строчки!
В моем представлении образ Кублановского раздваивается от великолепного стихотворца, несомненного мастера и даже в некотором роде стихотворного аристократа до смиренника, послушника, сторожа или служки в поэтическом храме, где ему любовно знакома каждая мелочь, где он может передвигаться в темноте с закрытыми глазами и никогда не оступится. И странно: эти образы каким-то чудом не противоречат.
Виктор Пелевин: человек эпохи реализма
Читать критические мнения о Викторе Пелевине куда любопытней, чем его самого. Тут-то и начинается самое интересное. В газете «Время MN» Андрей Немзер разражается многократным: всегда. Я всегда это знал, говорит он. Пелевин всегда писал на воляпюке серых переводов с английского, всегда склеивал сюжет из разрозненных анекдотов, всегда накачивал свои тексты гуманитарными мудростями, всегда интересовался только одним персонажем – самим собой.
Возникает вопрос: отчего критик так сердится? Разве он не слышал, что в России ежедневно выходят десятки книг, изданных бог весть кем и на чьи деньги и написанных языком, в сравнении с которым пелевинский воляпюк – эталон художественности?
И тут начинается самое интересное. В «Известиях» Александр Архангельский с глубоким удовлетворением отмечает, что проза Пелевина наконец-то становится частью массовой культуры, «интеллектуальной попсой». Почему наконец-то? Уж не потому ли, что Пелевин напечатал роман «Generation “П”» не в «Знамени», а под глянцевой обложкой, рассчитанной на мгновенную реакцию «попсы» на всё цветное и дешевое? Бижутерия всегда лучше подделки, говорит критик.
Что-то я не понял. Тот факт, что Пелевина читают не только люди, на заседаниях критической Академии и Букеровского комитета встречающиеся, – это победа или поражение? И что такое интеллектуальная попса? Это, по Архангельскому, очередное быдло (вместе с поклонниками Доценко и Марининой), от которого академическая среда презрительно отмахивается, оставляя их фанатеть от своих кумиров и ничего не понимать в тонкой, «культурной» литературе?
Но ведь это обыкновенный расизм! Белый ест ананас спелый, черный – гнилью моченый.
И тут начинается самое интересное. В журнале «Новый мир» появляется статья редактора отдела критики Ирины Роднянской. Да не статья – вопль души! Она признается, что, несмотря ни на что (на «авторитетный приговор наиболее авторитетных людей»), она считает Виктора Пелевина очень серьезной и значительной фигурой, а его роман – крупным литературным событием. «Передо мной текст, задавший мне серьезную умственную работу», «полагаю его человеком умным и писателем в конечном счете серьезным», «тексты Пелевина спокойно встраиваются в ряд великих, значительных и просто приметных произведений», «меня всегда волновала эта область смыслов», «вблизи Пелевина мне было суждено оказаться» и проч.
Я уважаю мнение Роднянской. Но не могу понять этого надрывца, этого героического экстаза, в которых четко просматриваются неуверенность и закомплексованность.
И тут начинается самое интересное. «Вы слышали, слышали? – сообщают мне. – Пелевин вас изобразил в своем романе!» «Да? – говорю я, вспоминая, что когда-то написал о Пелевине отрицательную рецензию. – И что же?» – «Он вас утопил… в дерьме!» Прошу у знакомых «Generation “П”». Читаю. В самом деле – утопил. Буквально – в дерьме. «В кадре – дверь деревенского сортира. Жужжат мухи. Дверь медленно открывается, и мы видим сидящего над дырой худенького мужичка с похмельным лицом, украшенным усиками подковой. На экране титр: “Литературный обозреватель Павел Бисинский”. Мужичок поднимает взгляд в камеру и, как бы продолжая давно начатую беседу, говорит… (Говорит о России, особом пути, Пушкине, Чаадаеве, Вяземском. – П.Б.) В этот момент раздается громкий треск, доски под мужичком подламываются и он обрушивается в яму…» Рекламный клип. Мужские духи.
Хочу обидеться, а не могу. Что-то в литературной колкости Пелевина есть жалкое. И эта буковка, которую он трогательно заменил, и то, что, до сих пор ни разу не высказавшись о своем отношении к критике, сохраняя позу гордого писателя, которому наплевать на мнение экспертов о себе, он обнаружил свою злость так нелепо.
Дело, разумеется, не только во мне. Дело в занимательном сюжете, в который с недавних пор складываются отношения Пелевина с академической газетно-журнальной критикой. Эта критика (авторитеты, по словам Роднянской) Пелевина как бы в грош не ставит. А он ее как бы в упор не видит – идет себе, как крыловский слон, от романа к роману, от тиража к тиражу. И обе стороны, без всякого сомнения, лгут.
Но если пелевинская ложь легко объяснима извечной обидой писателей на критиков и уязвленным самолюбием литератора, которого выпихивают из «порядочного» общества, то критическое высокомерие Немзера и Архангельского ничем, кроме признания своего поражения и сдачи позиций, объяснить нельзя. Если, как полагает Немзер, Пелевин пишет плохо, тогда резонно спросить: почему его читают? Ну а барственный жест Архангельского, позволяющего «попсе» иметь своего Пелевина, и вовсе смешон. Разве «попса» спрашивала соизволения Архангельского на это?
Что-то всё это ужасно напоминает. В середине прошлого столетия «интеллектуальной попсой» из разночинцев были выдвинуты Добролюбов и Чернышевский, а также примкнувший к ним Некрасов. Молодой граф Лев Толстой в то время тоже морщился и говорил, что от Чернышевского воняет лампадным маслом, намекая на его поповское происхождение. Иван Тургенев прямо-таки в судороге заходился при виде Добролюбова, этой «очковой змеи». И оба старательно отговаривали Некрасова от сомнительной литературной компании.
Сравнение Пелевина с Чернышевским только на первый взгляд кажется странным. И литературно, и общественно они очень близки, как две культовые фигуры смешанных социальных эпох, когда в читательском мире обнаруживается множество трещин и разрывов, а господствующей идеологии (следовательно, и эстетики) либо совсем нет, либо она изрядно ослабела.
Любопытно, что даже сочувствующие Пелевину критики Александр Генис и Вячеслав Курицын охотно признают, что ни о каких художественных красотах здесь речь не идет. Грубо говоря, с точки зрения высокой эстетики Пелевин пишет плохо. Но зато живо, увлекательно, читабельно. А воляпюк или не воляпюк – это, мол, только Немзера и волнует. Курицын предложил такой демагогический ход: дескать, писать «плохо» – это и есть «хорошо». Без гордыни то есть.
Да и сам Пелевин на роль Мастера не претендует. Центральный персонаж романа Владилен Татарский – бывший студент Литературного института (как и Пелевин). И вот однажды он понимает, что все его мечты о служении вечности в высоком искусстве – это чепуха. Мир гораздо проще. Вечность существует нагосударственных дотациях. Из речей в «Generation “П”»:
«В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный грязный двор и жуя дрянную котлету». – «Интересно… а зачем для этого ехать в Нью-Йорк? Разве…» – «А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет. Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдет вся твоя жизнь. До тех пор, пока она действительно не пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности».
Ментальность «совка» в том, чтобы сидеть в дерьме и думать о вечном. Татарский не хочет. Он бросает писать стишки, идет торговать в ларек, потом в рекламу и, наконец, становится боссом.
Роман имеет посвящение: «Памяти среднего класса». То есть памяти того, чего нет и не было. Он сдавался в печать, когда произошел августовский обвал 1998 года и в одночасье рухнули мечты множества татарских об обеспеченной жизни с месячным доходом примерно от тысячи долларов. Посыпался мелкий бизнес, начались увольнения в глянцевых изданиях, резко сократились доходы от рекламы. Впрочем – ненадолго.
Кто такие татарские? Пелевин не скрывает, что Татарский – просто плохой стихотворец. В его стихах облака воняют рыбой. Но он не дурак и хочет жить не в вонючем дворе, жуя дрянную котлету, а…
Ну, скажем, в мифическом Нью-Йорке.
Что делать? Пелевин излагает целую программу для поколения «новых людей». Быть нормальным циником. Не доверять миру, который обманчив во всех своих проявлениях. Доверять только собственным ощущениям, понимая, что к реальному миру они не имеют прямого отношения. Но если тебе от них кайфово, то и ладно. Эдакий агностицизм, переходящий в эмпиризм и своего рода разумный эгоизм. Всё ложь и обман. Но именно поэтому в жизни можно устроиться весьма недурно.
Кстати, нигилистическая мысль прошлого века тоже была парадоксальной. Все произошли от обезьяны, поэтому мы все должны любить друг друга.
Кстати, Чернышевский тоже понимал, что писатель он «плохой». «У меня нет и тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо», – говорит повествователь в романе «Что делать?». Но, как заметила литературовед Ирина Паперно, «идея плохого писателя, то есть автора эстетически слабого, практического человека… не поэта, стала неотъемлемой частью его модели… В результате целого ряда чисто риторических операций одаренный писатель и бездарный писатель оказываются тем же самым» (И.Паперно. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996).
Такое возможно в эпохи тотального сомнения общества в традиционно вечном и высоком, которые рассматриваются как атрибуты уходящих классов. Тогда – дворяне с их «эстетикой», над которой издевался Дмитрий Писарев. Теперь – «совок» с наивной «вечностью», над которой изгаляется современный «яппи» (“young professional ”, «молодой профессионал»).
Какая разница? Суть, в общем, одна. Я не намерен спорить с Пелевиным по существу. От его философии отдает нафталином. Мне это просто скучно. То, что он называет дерьмом, я называю своей жизнью и нахожу в ней гораздо больше привлекательного, чем в мечтах о мифическом русском среднем классе. Эти мечты не менее пошлы и убоги, нежели швейная мастерская и коммунистические сны Веры Павловны. Всё это нежить. Поллюции незрелого социального воображения.
«Продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем», – рассуждает Татарский. И сочиняет пошленький рекламный слоган типа: «И родина щедро поила меня березовым “Спрайтом”». Всё – правильно. Торговать будет нечем, потому что сами же татарские, как тля, сожрут весь зеленый массив русской культуры, от Пушкина до последнего советского песенника. Но дела все-таки не сделают и среднего класса не создадут. Рылом не вышли. Рассуждают больно много. Они ведь заканчивали не деловой институт, а Литературный.
Но… Пелевин – это не Татарский. Он мог бы остаться Татарским (в персонаже много биографического сходства с автором), но каким-то образом проскочил. Может, потому, что был гораздо талантливей Татарского. Может, потому, что писал не стихи, а прозу. Может, потому, что быстрей и решительней Татарского разобрался с так называемой вечностью.
Самое обидное, что Немзер прав. Пелевин – писатель не плохой, а никакой. Такое впечатление, что, просидев в Литинституте какое-то время, он сделал один вывод: в литературе нет никаких школ, направлений, никакой «учебы». В литературе все средства хороши, если они приносят нужный результат. Особенно показательна в этом смысле повесть «Омон Ра». Она открывается крепким реалистическим зачином. Потом начинаются соцартовские фигулечки вроде отрезанных ног у курсантов в училище имени Маресьева. Потом вполне кондовый абсурдизм. И так далее. Но это не сознательное комбинирование чужих стилей, не игра в дискурс.
Пелевин отличается от Владимира Сорокина, как плебей от барина. Барин брезгливо перебирает чужие стили, отыскивая самое натуральное, будь то классический ХIХ век или классический соцреализм. Плебей хватает всё без разбора, абы в дело пошло. Кто из них хуже или лучше, я не могу сказать. По мне, оба неприятны как чтение и оба интересны как современные культурные феномены, отражающие распадающееся культурное сознание, которое уже не стремится к единству, а чувствует себя вольготно именно в самом процессе распада.
Ирина Роднянская с восхищением отмечает, что нашла в романе Пелевина философский термин, который она когда-то давно ввела в научный обиход. Чем здесь восхищаться? Просто оказался под рукой.
В Пелевине вообще есть что-то варварски свежее, как в рекламных роликах о жвачках и прокладках, где юноши и девицы с изумлением обнаруживают, какие они вкусные и тоненькие. Полистайте пелевинскую конференцию со своими фанами в Интернете. Полнейшая ахинея, но страшно энергичная! Эдакий разгулявшийся детский сад. Все воспитатели вышли. Киберпанки увлеченно стучат горшками рядом со своим заводилой.
Но при этом Пелевин создает литературу, которой не откажешь в содержательности и даже некой социальной прозорливости. Как такое возможно? Так же, как и в случае с Чернышевским, еще раньше – с Булгариным. Фаддей Венедиктович ведь тоже писал дурную, «лакейскую», с точки зрения светской публики, прозу, тоже ориентировался на среднее сословие, тоже презрительно отзывался о литературных аристократах, тоже дорожил своим массовым читателем.
Кстати, один из романов Ф.В.Булгарина назывался «Похождения Митрофанушки на Луне». Это была косвенная сатира на сословное общество, на особенности русского национального быта. Почти «Омон Ра».
Пелевин – это, конечно, сильный откат в прошлое. Это прорыв «масскульта» из-под тонкого слоя литературной культуры, который почему-то принято считать броней и называть могучим словосочетанием «великие литературные традиции». А это – тоненькая пленка, которая мгновенно рвется, если она не поддерживается воспитанием, образованием, сознательной культурной политикой нации. Снявши голову, по волосам не плачут…
Но при этом Пелевин обладает одним несомненным даром. Он умеет быть современным. Это, кстати, достаточно редкий талант в литературной среде, которая помешана на старомодности и чеховском пенсне со шнурочком. Притом Пелевин современен не искусственно, а натурально. Он не изображает болезни времени, а сам болеет ими. Он не стремится вдогонку за потоком, а расправляет в нем крылья. Самый стиль его, средний, смешанный, энтропийный, – это не конструкция. Просто иначе Пелевин писать не может. Возможно, хотел бы, но не может. Именно поэтому и достоверен.
Лет через сто ни один человек по современным романам не сможет понять, как жили люди в девяностые годы нашего века. Чем дышали, что слышали, какие образы постоянно мелькали перед их глазами. А по «Generatiоn “П”» – сможет. Это тоже, согласитесь, немало.
Захар Прилепин: новый Горький явился
«Санькя»
Сто лет назад, находясь в Америке, Максим Горький начал писать роман «Мать», который впоследствии стал ужасом не для одного поколения советских школьников. А роман-то был на самом деле интересный, но только в контексте своего времени. Новые времена рождают новый контекст.
Название романа молодого прозаика Захара Прилепина очень простое, но не без выверта: «Санькя». Так, по-простонародному, зовет молодого главного героя его деревенский дед. Народ в романе Прилепина – вообще одна из центральных тем. О народе постоянно говорят. Одни как правило, отрицательные персонажи – подписывают ему и всей России смертный приговор. Причем это не только демократы, но и приспособившиеся к власти патриоты. Но настоящим живым олицетворением народа в романе Прилепина, как и в романе Горького, является мать главного героя. Этот образ несчастной, затравленной, тяжело работающей за гроши женщины, не понимающей революционные устремления сына, пожалуй, действительно самый сильный в романе. Только вот Ниловны из матери Саньки не получается. Ну никак.
Трудно сказать, насколько сознательно автор проецировал свое повествование на знаменитое горьковское произведение столетней давности. Но аналогии тут слишком очевидны, чтобы их не заметить.
Итак, появилось новое племя революционеров. Это лимоновцы. И, хотя имя их вождя скрыто за прозрачным псевдонимом Костенко, догадаться о том, кто сей грозный вождь, поэт и философ, кумир революционной молодежи, сидящий «за оружие», несложно. Тем более несложно догадаться о его настоящем имени, когда его последователи захватывают башню в Риге и получают сроки по пятнадцать лет тюрьмы. Кстати, Костенко в романе представлен весьма неоднозначно. Он за пределами действия романа, но его тень присутствует в нем постоянно, и, надо признать, тень эта вызывает скорее отрицательные эмоции. В самом деле, его мальчики и девочки, одуревшие от обожания своего кумира, бьются с «режимом», получают по пятнадцать лет, погибают, страдают их матери, а вождь где-то там сидит, уважаемый «блатняком», чуть ли не как вор в законе. И еще герой почему-то отмечает, что любимыми словами вождя являются «великолепный» и «ужасный». Просто Великий Гудвин какой-то!
В целом же роман очень серьезный. Настолько серьезный, что я настоятельно рекомендовал бы ознакомиться с ним власть предержащим. Хотя бы для того, чтобы они понимали, с какой именно молодежью имеют дело. Откуда вырастает ее стремление крушить «Макдоналдсы», разбивать витрины дорогих магазинов и ресторанов и в конце концов (это уже, конечно, фантазия автора) захватывать административные здания в губернских городах.
…Вырастает из ощущения безнадежности. Вот, пожалуй, главное отличие романа Прилепина от раннего оригинала – «Матери» Горького. Весь роман пронизан этой ужасающей смертной тоской молодых людей по честным поступкам в атмосфере всеобщей лжи. По гибели всерьез.
Маленькая вроде бы деталь. Павел Власов, начиная свой революционный путь, бросил пить водку. В романе Прилепина герои пьют постоянно. Павел Власов, как бы то ни было, стремился к образованию. Никаким стремлением к образованию в среде новых революционеров не пахнет. Стремление одно – погибнуть, погибнуть всерьез, унеся с собой в могилу часть этого лживого, отвратительного мира. Что и происходит в конце.
Закончив его читать, с грустью думаешь: Боже, неужели сто лет ничему нас не научили? Неужели мы снова повторяем исторический виток, только в еще худшем качестве? Неужели все эти Павлы и Саньки так и будут расшибать себе лбы в кровь под руководством «великолепных» вождей?
Возможно, Захар Прилепин об этом не знает, но после романа «Мать» Горький пытался написать роман «Сын». Продолжить тему Власова. У него ничего не получилось, кроме двух совершенно безнадежных и малозаметных в его творчестве повестей. Как вы думаете: почему так?
«Не будите черных обезьян»
«Очень хорошая, с внутренней музыкой проза… Очень точно, очень здорово» (Лев Данилкин, «Афиша»). «Циничную халтуру я не люблю… Рецензии не будет» (Андрей Немзер, «Московские новости»). Так два ведущих литературных критика отозвались о романе Захара Прилепина «Черная обезьяна».
Трудно сказать, хороший это симптом или нет. Для прилепинской популярности, которая так раздражает Немзера («Прилепин давно орлит за облаками»), – наверное, хороший. Привкус скандала постоянно сопровождает этого прозаика. Однако если внимательно читать его интервью и публичные высказывания, он не говорит ничего принципиально скандального. Высказывается Прилепин, как правило, достаточно взвешенно и умно. Наше общественное мнение (если таковое имеется) удивительно инертно. Оно слушает не писателя, но его двойника, этим же «мнением» и созданного.
Успех Прилепина почему-то многих раздражает. Хотя это искус, который проходили и проходят как раз большие писатели, потому что на долю мелких он обычно не выпадает, и уж точно долго не держится. Заставить покупать чьи-то книги становится всё более и более проблематичным. Толпы писателей озабоченно рыщут в поисках читателя. Но вот появляется прозаик, каждая новая книга которого («Патологии», «Санькя», «Грех» и др.) становится новостью, особенно свежей на фоне увядающей популярности Пелевина и Сорокина и очевидной усталости королей и королев «массолита» вроде Акунина и Марининой. В топах продаж первые места занимают Дина Рубина, Людмила Улицкая и вот Захар Прилепин. Казалось бы, радоваться надо: наша, серьезная проза взяла! Нет, что-то не так, что-то тут не нравится штурманам от литературной журналистики, и не только старшего поколения, как Андрей Немзер, но уже и молодым, старающимся отыскать в Прилепине «не всё то золото, что блестит», вместо того чтобы разобраться: а что же в нем блестит?.. Получается, что критика ищет не золото, а его эрзацы.
«Черная обезьяна» – роман поразительно яркий, пугающе талантливый на фоне того, что остроумно принято называть «текущей» (вялотекущей, добавим) литературой. Начиная с неполиткорректного названия и китчевой обложки, где у мужчины с несгибаемой шеей и силиконовыми ушами вместо затылка крышка от пивной банки, эта книга бьет по глазам и смущает отсутствием явного смысла при явном же и каком-то даже избыточном таланте автора создавать свою видимую реальность, намечать и немедленно бросать сюжетные линии, каждая из которых стоит отдельных романов; вызывать к жизни, но не развивать героев, каждый из которых того заслуживает. Иногда кажется, что автор то ли шутит, то ли издевается над читателем. То ли слишком доверяет его читательскому слуху и чутью по принципу «нечего разжевывать, и так понятно».
В центре романа – журналист, который непонятно зачем проводит расследование о детях-убийцах, одновременно интересуясь историей детской жестокости вообще. В романе несколько вставных новелл: одна «африканская» и одна вымышленно-историческая, где армия «недоростков» берет штурмом условный средневековый город, неспособный противостоять слабосильным существам, не знающим жалости и страха смерти. Обе новеллы написаны мастерски, но смысл их опять-таки непонятен, они существуют как бы сами по себе. За время этого туманного расследования герой теряет свою семью, своих детей, нарисованных автором бегло (как и почти всё в романе), но с такой трогательной влюбленностью, что смеяться и плакать хочется.
В финале жена героя – в сумасшедшем доме, дети – неизвестно где, а он сам – в аду, своими же руками непонятно зачем созданном.
В сухом пересказе это, конечно, полный бред!
Но роман Прилепина и написан об отсутствии смысла. О его утрате. О том, как человек собственными руками мостит себе дорогу в ад.
Роман начинается с ключевой фразы, которую нельзя пропустить: «Когда я потерялся – вот что интересно…» После такого начала вполне естественно ожидаешь поисков героем своего подлинного «я», то есть того самого смысла существования. Но автор совершает неожиданный трюк. Не уверен, что правильный, но – интересный. Он доводит логику потерянного «я» до конца. Герой Прилепина не изживает в себе «черного человека», так явно рифмующегося с «черной обезьяно», но позволяет жить и действовать на полную катушку. Каждый поступок героя очень убедителен и внутренне мотивирован, однако нужно понимать, что эта мотивация не более (но и не менее) убедительна, чем мысль: «Всё равно все сдохнем». Беда в том, что герой Прилепина – очень сильный человек и даже более точно – сильный мужчина. От таких наша литература отвыкла, да и не свойственны они русской литературе изначально. Он движется в ад с такой уверенной и напористой силой, что это даже завораживает.
Прочитав роман, можно начинать читать его сначала. Не пропустив ключевой фразы. Потому что на самом деле важно не то, что с героем происходит, а «когда он потерялся». «Вот что интересно».
Когда, на каком этапе мы теряем детей, необязательно в буквальном смысле? Когда в человеке (в обществе) побеждает «черная обезьяна»? Когда он (оно) начинает жить такой внешне убедительной, мотивированной и абсолютно бессмысленной жизнью? Какой поступок первый? «Вот что интересно».
Путешествующие по девственным местам Индии рассказывают, что самое страшное – это встретиться в джунглях со стаей обезьян. Не черных. Простых, серых. Подобно птицам, они сидят на деревьях и словно дремлют. Но при вашем появлении эта огромная стая может вдруг проснуться. У нее тотчас обозначится вожак – ее «пахан», ее диктатор. Он может вступить с вами в непредсказуемый «диалог», но в любом случае стая послушает его, а не вас. Самое страшное – они очень похожи на людей.
Очень похожи на людей и «недоростки», слабо, но последовательно, «с муравьиным постоянством» штурмующие отлично укрепленную крепость. Вступать с ними в диалог бесполезно. Можно только задаваться поздним и праздным вопросом: когда, на каком этапе был остановлен их внутренний рост? Может быть, когда люди этого замечательного города брали другие города и убивали их родителей?
Новый роман Прилепина озадачивает.
Александр Проханов: отчего я титулярный советник?
«От чего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только кажусь титулярным советником?»
Н.Гоголь, «Записки сумасшедшего»
Вокруг Проханова-писателя давно и неслучайно возник своего рода «заговор молчания». Между тем, если бы меня спросили: какая из литературно-общественных фигур в поздней советской и постсоветской литературах кажется мне самой загадочной и в то же время симптоматичной, я бы не задумываясь ответил: Александр Проханов.
В самом деле, каким образом буквально из воздуха возникло это явление – писателя, трибуна, общественного деятеля, чуть ли не «властителя дум», о котором решительно все знают, но о котором никто ничего толком сказать не может?
Разве это не чудо? Тот факт, что в глазах либеральной критики Проханов – это скорее псевдофигура и псевдописатель, не дающий повода для серьезного разговора, – еще ничего не значит. В известных условиях и псевдофигура становится фигурой, знаком своего времени.
Его активность выросла в годы всеобщей смуты, превратив имя вполне рядового советского писателя в громкий общественный символ, вокруг которого порой кипят нешуточные страсти (чего стоит шум по поводу участия Проханова в августовском путче, его связи с ВПК и проч.) Там и сям бродит его призрак: «националист», «большевик», «диктатор», «соловей генштаба». Встает фигура почти титаническая! Между прочим, «левая» критика здесь оказывает Проханову неоценимую услугу. Вслушайтесь, например, в такое сочетание: «идейным вдохновителем военного переворота в стране явился…»
Но кто может ясно сказать, каковы общественные убеждения этого человека? Вот он возглавил новую оппозицию, которая называет себя «духовной» и объединяет разных людей (в том числе и такие серьезные фигуры, как В.В.Кожинов или И.Р.Шафаревич). Однако все хорошо помнят, что не так давно Проханов считался официально признанным певцом всех мировых революций (Афганистан, Мозамбик, Никарагуа), а также «второй природы» (НТР, ГЭС, АЭС, БАМ, целина, нефтепромыслы и переброс в пустыню северных рек).
- И улыбка познанья играла
- На счастливом лице дурака…
Неужели его взгляды так быстро изменились? Самый простой ответ: конъюнктура. От него придется отказаться по двум причинам.
1. Воспевать покорение Сибири и Афганистана в годы коммунистической власти было прибыльно. Братья-писатели, правда, воротили нос, зато книжки выходили без опозданий, складываясь в трилогии, тетралогии и т. д. И чем-то таким за них даже награждало правительство. Но вот вставать в «духовную оппозицию» набирающей силы демократии, защищать централизм и армию в условиях распада – какая же это конъюнктура?
2. Как бы ни оценивать выступления Проханова-публициста, следует признать, что вместе с тяжелым словоблудием (вроде «коммунизм – это отдаленная почти в бесконечность “цель-мечта”»), вместе с путаницей в голове в них можно обнаружить подлинную страсть и обрывки каких-то истин.
Например, читая статью Проханова «Трагедия централизма» («Литературная Россия», 5 января 1990 года), испытываешь странное чувство. Видно, что автор чего-то сильно хочет, но, похоже, сам твердо не знает чего. Какие-то куски из Данилевского, Ильина, Чернышевского, Ленина, Шафаревича… Жуткий волевой напор отсутствия сколько-нибудь определенной мысли. Воинствующий хаос. Местами он просто заговаривается, рассуждая о каких-то неведомых «чертежах», «планах» и «работниках», которых никто в глаза не видел, но которые, наверное, где-то есть. Они-то и призваны спасти страну. Мне кажется, что он заворожен не столько содержанием своей речи, сколько ему одному слышимой «музыкой» и ему одному видимой «картиной». Что-то из Апокалипсиса или четвертого сна Веры Павловны.
Проханов-политик опоздал родиться. В другие времена он, с его огромной энергией, мог бы стать «буревестником», вести за собою толпу, возбуждая ее и насыщаясь ее токами. Сегодня его воля (любимое слово Проханова) пульсирует в пустоте. «Буревестник» и рад бы взлететь, да крылья повисли. Массы устали от вождей. Не потому ли на всей деятельности Проханова лежит печать какой-то болезненности, надрыва, истерики, «декаданса»?
Иногда его просто жаль! Дело в том, что Проханов, что бы ни говорили о нем сегодня, все-таки очень талантлив. Мало кто помнит, что он начинал как автор двух обнадеживающих книг: «Иду в путь мой» (1971) и «Желтеет трава» (1974), где рядом с вещами очевидно проходными были и такие рассказы, как «Петров крест», «Соляной Петр», «Плавающие коровы», которые и сейчас составили бы честь любому журналу. Их очерковый характер меня ничуть не смущает. С очерка начиналась почти вся настоящая русская проза.
Проханов – это прежде всего зрительный талант. И хотя его изобразительная манера не лишена щегольства и самолюбования – до тех пор, пока Проханов претворял свое «я» в художественной пластике ранних очерков-рассказов, он, выражаясь старинным языком, создавал весьма порядочные вещи. Вот рассказ «Плавающие коровы» – пронзительная история об инвалиде-браконьере, которого «по должности» решил напугать рыбинспектор. Великолепное российское «скуки ради» с почти каноническим смертельным исходом. Будничность рассказа только оттеняла высокий и светлый трагизм бытия, где никто не виноват и всех ожидает одна участь. В жизни и смерти пожилого браконьера, как ни странно звучит, было всё непонятно и потому – всё ясно. В позднейших логических конструкциях Проханова-публициста понятно всё. Ясности же нет никакой.
Трудно сказать, что именно заставило его насиловать свой скромный талант, размазывая его на полотнищах политических и индустриальных романов. Да и какая разница! Каким бы искренним и, допустим, глубоким ни был изначальный замысел Проханова, возомнившего себя писателем со сверхзадачей, мертворожденность его крупных вещей о Сибири и Афганистане бросается в глаза.
Может, это обидно звучит, но Проханов-писатель оказался значительно меньше того Проханова-героя, каким он неожиданно предстал на страницах своей новой беллетристики. Конечно, более корректно называть его, как это делает Владимир Бондаренко, «единым лирическим персонажем», но суть не меняется. Суть в том, что Проханов, не лишенный изобразительного таланта писатель, не нашел ничего лучше, как выдумать самого себя, представ в позе советского сверхчеловека, мужественного рыцаря современности, геополитического мистика, носителя нового трагического сознания.
Сначала это было комично. В ранней вещи под названием «Их дерево» (1973) возникла фигура литератора Растокина, издавшего – вот совпадение! – первую книгу в столице. «Моя книга, – серьезно говорит Растокин, – была похожа на церковь, сложенную из белокаменных плит. А эта (вторая книга. – П.Б.) из бетона и стали, вся – взрыв сверхмощных энергий!»
Бедный! Он даже не чувствовал невыразимой пошлости этих слов. А вот диалог между Растокиным и по уши влюбленной в него редакторшей:
«– От вас исходит ко мне тончайший луч, – сказал Растокин, – вы облучаете то одну мою грань, то другую. И я весь на виду, как самолет…
– Вы такой стремительный самолет…»
Затем болезнь приобрела хронический характер. В книге «Кочующая роза» (1975) Проханов-герой вновь сравнивает себя с самолетом: «Я распят на кресте самолета… Алюминиевые голые плечи в татуировке заклепок, с черной надписью – СССР… Мое сердце, печень и легкие из легированных, чистейших сталей пульсируют, бьются и дышат… Мой торс, мои ласты и киль скользят по куполу неба. Мне хорошо. Я спокоен» – и обращается к себе-единственному на «ты»: «Ты пишешь быстро и бегло, разложив на столе блокноты, срывая со страниц не остывшие еще впечатления… Ты устал, ты измучен… А наутро статья, разнесенная поездами и самолетами, наполняет мир. Ты видишь, как шарят по ней глаза. О ней говорят, ее судят. А тебя готовят к новому запуску… И вот ты уже летишь».
Отныне в прозе Проханова начался настоящий карнавал в единственном лице, где главный герой менял маски (журналист, режиссер, архитектор, ученый, инженер, опять журналист), менял обстановку (Москва, Сибирь, Афганистан, Мозамбик, Никарагуа, Вьетнам, снова Афганистан), менял женщин (все были, впрочем, на одно лицо) – неизменным оставался только его психологический тип, который и составил «душу» новой прохановской прозы.
Что это был за тип? В социальном плане – простой советский человек, выполняющий то необходимую, то очевидно бесполезную работу для своей державы. Например, журналист-международник Волков в романе «Дерево в центре Кабула» ловко выручает «нашего» Бабрака Кармаля на пресс-конференции из щекотливого положения, в которое поставил его своим слишком прямым вопросом западный корреспондент, разумеется, «подосланный». В плане человеческом – довольно слабая личность, отягченная массой комплексов, иногда вялый участник какого-нибудь вялого адюльтера с чисто командировочным душком (где-нибудь в районной гостинице, в избе или на колхозном стоге сена с «высокой степной красавицей» – простые люди и должны воображать что-то простое, «киношное»). Словом, это был обычный персонаж прозы «сорокалетних».
В то же время в прохановском лирическом герое было что-то странное. Будучи вполне советским гражданином, он напоминал, с одной стороны, «маленького человека», вступившего в метафизический бой со своей социальной оболочкой и доведенного своей малостью до апофеоза гордыни («Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я»); с другой – ницшеанского сверхчеловека, мечтающего «синтезировать в себе исчезающую эпоху и нарождающуюся грандиозную реальность во всей ее, пусть устрашающей, красоте» (роман «Вечный город», 1981).
Разве не замечательно, когда какой-нибудь залетный лектор из Москвы, выступив перед рабочими Сургута о перспективах освоения Сибири и прочих понятных вещах, вдруг наедине с собой впадал в бред почище, чем бред героев Достоевского: «Да знаете ли вы, что мое непонимание дороже ваших всех пониманий? Мои осколки дороже всей вашей целостности! Да вы за моими осколками днем с огнем охотиться станете! Каждый осколочек еще на тысячу раздробите, отшлифуете – и в оправку, и себе в украшение!» («Время полдень», 1977).
Но вот закончилась «прекрасная эпоха». И наступило время платить по счетам. Лирический герой Проханова оказался в сложном положении, опять же напоминающем гоголевские «Записки»: «Сначала я объявил Марфе, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля».
А на вопрос: почему я именно титулярный советник, а не граф, не генерал, не испанский король? – ответ не знает никто. Нам остается утешаться мыслью: а что, собственно, дурного в том, чтобы быть титулярным советником?
Валентин Распутин: уроки русского
Несомненно, лучший рассказ Валентина Распутина – это «Уроки французского» (1973). Он и сам выделяет его среди других, воспринимая почти как реальное возвращение долга. «Мне ничего не пришлось придумывать… Мне нужно было вернуть людям то добро, которое в свое время они сделали для меня…» Очень характерная для Распутина фраза.
Одна из главных, быть может, особенностей его мышления, восприятия мира – это совершенно реальное переживание вещей, которые для большинства людей являются все-таки абстракциями. Например, совесть. Не помню точно где, но Распутин писал, что совесть – такой же орган чувства, как слух, зрение, обоняние, осязание. Человек может притупить его в себе или забыть о нем, но больная или недостаточная совесть всё равно будет напоминать о себе. Так или иначе, вне зависимости от желания человека.
Вот откуда эта загадочная и далеко не всеми принятая «мучительность» прозы Распутина, которую не очень умные критики называли «экзистенциализмом». Распутин никакой не «экзистенциалист», просто его герои реально, материально мучаются совестью. Это один из главных уроков его прозы. Об этом его первая повесть, которую он считал началом своего самостоятельного пути, – «Деньги для Марии» (1967).
Другой урок – смерть. О ней мы тоже стараемся не думать. Для Распутина же это вещь обыкновенная, такая же, как рождение. И как рождение требует известной подготовки роженицы и ее окружающих, так и смерть – это процесс перехода в мир иной, к которому нужно быть приготовленным, собранным в дорогу, в том числе и с помощью близких. Повесть «Последний срок» (1970) о смерти, точнее, об умирании старухи Анны – это, странно сказать, почти наглядное пособие к тому, как нужно умирать. О чем думать, как прощаться с родными, да просто – что в это время делать.
Советская критика, причем именно хвалебная, размазала смысл его прозы в кашу какой-то абстрактной «духовности». А это очень строгий и точный писатель, предлагающий нам вполне конкретные уроки. Почему это не мешает ему быть художником высочайшей пробы – загадка. Как сплавились воедино педагогика и художественный полет – тайна.
Такая же тайна, как его писательское рождение. Каким образом обыкновенный иркутский журналист, воспевавший стройки коммунизма, вдруг написал рассказ «Василий и Василиса» (1967) – очевидный шедевр, лучшую в русской литературе иллюстрацию к теме Прощеного Воскресенья? Мне лично непонятно. Для меня это какое-то почти химическое чудо. Помните фокусы, которые показывали нам учителя химии? Произошло мгновенное соединение каких-то веществ, и в один миг родился классик. Впрочем, таких уроков в нашей литературе немало: «Бедные люди», «Хорь и Калиныч», «Севастопольские рассказы».
Распутина называли и называют «деревенщиком». Но это такая же глупость, как если бы Платонова назвали «пролетарским писателем». Хотя он считал своей родиной – «рабочий класс». Какой же он «деревенщик», если его «Живи и помни» (1974) буквально перевернуло сознание миллионов городских людей? Это был такой урок любви и милосердия, который не забывается уже никогда. А если и забывается, то всё равно остается в подсознании, в некой пожизненной памяти, которая сработает в критический, самый нужный момент.
Память – важнейший из уроков Распутина. Беспамятство – это тяжкий грех. У каждого из нас своя Матёра, с которой мы простились в свое время, но о которой обязаны помнить – чтобы душевно не окаменеть.
Наверное, Распутин сегодня несколько растерялся. Общество уже не слышит его, как раньше. Другое время, другие учителя. Но большинство из тех, кто осознанно жил в семидесятые – восьмидесятые годы, навсегда сохранили уроки Распутина в своей душе. И кто знает, возможно, это была та капля противоядия, которая спасла наше общество в девяностые от отравления ненавистью, от гражданской войны.
Кто знает…
Эссе
Хам уходящий
«Грядущий Хам» Д.С.Мережковского в свете нашего опыта
Минуло девяносто лет с выхода полного текста статьи Дмитрия Мережковского «Грядущий Хам»[4]. Событие это не было отмечено русской интеллигенцией, озабоченной политической злобой дня. Говорить же о «памяти народной» в этом случае – нелепо. Обидно! Не за народ – за интеллигенцию. Хороша или нет статья Мережковского, но название ее врезалось в жизнь, в нашу культурную память.
Традиционалисты ругают «хамами» постмодернистов, последние отвечают не хуже. Ясно, что и те и другие используют это слово не в бытовом, но в культурном контексте. Притом никто не сомневается, что «хам» давно не «грядет», но пришел, прочно воцарился в русской культуре и наша задача – только назвать имя этого негодяя. Однако именно культурный контекст должен заставить нас вспомнить о том, что Хам (Мережковский пишет с большой буквы) – само по себе имя и, следовательно, в обращении с ним надо быть очень осторожным. Кто-то сказал: понять значение слова – найти истину. Что на самом деле представлял собой Хам Мережковского? Был ли он родственником ветхозаветного Хама или новым мифологическим лицом?
У меня нет последних ответов на эти вопросы. Возможно, их и не надо давать, дабы не испортить шарм апокалиптического бормотания «Грядущего Хама», оригинальная идея которого мало кого сейчас интересует, зато сохранилось поразительное, всеми культурными русскими и без слов переживаемое ощущение угрозы, исходящей от названия с такой электрической силой, что почти целый век искрит и искрит на немыслимо длинном коротком замыкании.
Кто грядущий Хам?
После выхода статья не породила особых полемик, хотя явно выделилась на фоне остальных статей «пирожковского» сборника. Главное, никто не спросил себя: да кто, собственно, такой, этот Грядущий Хам? Та эпоха вообще отличалась какой-то легковерностью. Никто не спрашивал: да кто, собственно, такие эти горьковские Человеки, блоковские Прекрасные Дамы, леонид-андреевские Анатэмы? Не воздух ли они? Думалось: какая разница? Мифологическая машина работала на всех парах, производство «симулякров» было отлично налажено, хотя еще не поставлено под государственный контроль.
Всех занимал не Хам, но Грядущее. В «Золотом руне» (1906, № 4) Федор Сологуб обвинил Мережковского в страхе перед будущим. «Он боится Грядущего и, плюя в него против дико веющего ветра, называет Грядущего Хамом». Под такой фразой подписались бы и Луначарский, и Иванов-Разумник. Последний назвал статью о Мережковском выразительно: «Клопиные шкурки»[5].
Либеральная критика статью, разумеется, не приняла – за ее религиозный пафос. В «Вестнике Европы» Евгений Ляцкий противопоставлял религиозному индивидуализму Мережковского идею социализма без Бога, но «с человеческим лицом»[6]. Напротив, «правая» печать обиделась за Христа. «Хама грядущего победит Грядущий Христос… Только Христа-то надо разуметь попросту, не сочиняя новых вероучений»[7].
И – ничего о Хаме.
Сохранилось свидетельство и о том, как статью читал «народ», близостью к которому Мережковский, быть может, излишне подчеркнуто гордился всю жизнь. Его ранние контакты с Глебом Успенским и Николаем Михайловским известны. Но не все знают, что в молодости он проделал своеобразный «горьковский» путь: странствовал по Руси, жил в крестьянских избах и изучал старообрядцев[8].
Так вот: народный читатель статью не понял именно потому, что, в отличие от интеллигенции, хотел разобраться: кто Хам?
В книге о муже Зинаида Гиппиус вспоминает, как в 1906 году они с Дмитрием Сергеевичем отбыли в Париж на два года с лишним (кстати, на деньги, полученные от Пирожкова), где сняли квартиру – «хорошую, большую, с балконами на все стороны» и прекрасным видом на Эйфелеву башню, на улице Тheophile Gautier. В Париже они, между прочим, познакомились с явлением новой эмиграции, «какой не было ни прежде, ни потом. 1905 год, неудавшаяся революция выкинула толпу рабочих, солдат, матросов – совершенно не способных к жизни вне России. Они работы и не искали и ничего не понимали. Эмиграция настоящая, политическая, партийная, о них мало заботилась, мало и знала их. Устраивались будто бы какие-то “балы” или вечера в их пользу, но в общем они умирали с голоду или сходили с ума. Один, полуинтеллигент или мнящий себя таковым – по фамилии Помпер, – пресерьезно уверял, что он “дух святой”. Другие просто врали, несли чепуху и просили Мережковского объяснить, кто такой хамовина, о котором он писал»[9].
Вопрос наивный, но законный!
Меньше всего нам поможет Мережковский. Его Хам слагается как бы из трех компонентов: грядущий мещанин, грядущий китаец и грядущий босяк. И все три рассыпаются в прах от легкого прикосновенья.
ГРЯДУЩИЙ МЕЩАНИН. Мережковский неоригинален. О «грядущем мещанине», «среднем европейце» писали Герцен и Леонтьев. Цитатой из первого начиналась статья. Второй – даже не назван, видимо, по причине своей скандальной консервативности. Между тем на пути от Леонтьева до Шпенглера станции под названием «Мережковский» просто нет. В отличие от Мережковского, Леонтьев не кричал, а трезво констатировал: да, Герцен был прав и победа «среднего европейца» неизбежна. Как изменение климата и развитие путей сообщения. Этот процесс можно сдерживать (здесь необходим определенный охранительный героизм), но нельзя в принципе остановить. В России он победит с такой же очевидностью, как и в Европе; возможно, немного позже, но возможно, и раньше, принимая во внимание, что процесс этот в основе своей апокалиптический, а Россия охотнее всего принимает именно апокалиптические веяния[10].
За Леонтьевым – Ницше и Шпенглер. Они заставили мир оценить феномен «заката культуры» на опыте «метафизически истощенной почвы Запада»[11]. Русская мысль поняла это едва ли не раньше европейской[12]. Однако XX век так изменил наши представления о мещанстве, что грозные опасения-восторги Шпенглера видятся наивными в свете опыта последней мировой войны и реально переживаемого многими «заката» всего человечества. На этом чудовищном (и завораживающем!) фоне вот именно доморощенный, барский эстетизм Герцена и Мережковского представляется даже и художественно неинтересным, почти пошлым, вроде трости и цилиндра в переполненном метро. Не говоря о том, что писать о «паюсной икре мещанства» – после Хиросимы, «Бури в пустыне», чеченских и балканских бомбежек, где погибали дети и беременные женщины, – почему-то не хочется.
ГРЯДУЩИЙ КИТАЕЦ. Об угрозе «панмонголизма» как возможной почвы для появления антихриста гораздо ярче и конкретней писал Владимир Соловьев в «Трех разговорах…». И в прилагаемой «Краткой повести об антихристе» он назвал своего героя «грядущим человеком», что звучит хотя и не так выразительно, как «Грядущий Хам», но (в философском и религиозном ключе) более точно. Сам Мережковский в статье «О новом религиозном действии» поставил знак равенства между Хамом и антихристом. Но в главной работе сборника загадочным образом не вспомнил о Соловьеве, не забыв, между прочим, всех без исключения революционных демократов, Дж. Ст. Милля, Гёте, Лао-цзы и Конфуция, Руссо и де Лиль-Адана, Борджиа и Тамерлана, Ницше и Флобера, Лассаля и Бисмарка, Петра Первого и Наполеона, Нила Сорского и Аввакума, Маркса и Энгельса, Базарова и Смердякова, Карамзина и Лермонтова, Горького и символистов.
Но и с поправкой на Соловьева это место в концепции Грядущего Хама выглядит наиболее уязвимым. XX век не подтвердил этих пророчеств. Соединения мещанского позитивизма и позитивизма «желтой расы вообще и японской в частности» в новейшем милитаризме, о котором с таким отрицательным пафосом говорил Мережковский, напуганный не так Соловьевым, как русско-японской войной, что-то не получилось. Не японцы, не китайцы кидали атомные бомбы на чистокровных арийских детей. Их кидали дети ариев, и именно на «желтых» детей.
Какие-то более тонкие прозрения Мережковского нашли подтверждение, скажем, в неистребимой тяге части русской интеллигенции к «евразийству» или в мировой популярности разнообразных восточных сект. Но общей картины мира это существенно не меняет, а главное, не отвечает на вопрос: где тут Грядущий Хам? Не Никита ж Михалков с его «евразийством», отдающим парижским дезодорантом? Не Гребенщиков же с Ерофеевым, от времени до времени совершающие туры за «светлой духовностью» на Тибет?
ГРЯДУЩИЙ БОСЯК. На первый взгляд, это самое интересное в статье – слова о горьковском босяке как антикультурной силе, загадочным образом связанной через Ницше с высоколобым течением русского декадентства. На то надо было решиться: поставить на одну доску Пляши-Нога и Вячеслава Иванова, ночлежников и «оргиастов».
Но вряд ли автор мог не знать о двух статьях видного публициста консервативного лагеря Михаила Осиповича Меньшикова в «Книжках “Недели”» (1900, № 9, 10) – «Красивый цинизм» и «Вожди народные». Меньшиков впервые написал о духовной связи лирического персонажа Горького и беспочвенной интеллигенции: «Горький со своею голью, может быть, потому так стремительно принят и усыновлен интеллигенцией, что он и в самом деле родствен ей – по интимной сущности своего духа… Оторванные от народа классы иначе думать и не могут, но сам народ, пока он организован, так не думает… Вот эта потеря чувства родства с божеством, чувства первородства своего в мире, составляет грустную черту обоих оторвавшихся сословий. Нисколько не удивительно, что голь напоминает интеллигенцию, а интеллигенция – голь…»
И выходит странное дело: с какой бы стороны мы ни подходили к этой, безусловно, самой знаменитой статье Мережковского, мы так и не сведем концы с началами; не ответим на главный вопрос: кто же, собственно, Грядущий Хам? Его образ двоится, троится, распадается на многие элементы, каждый из которых обладает несомненной внутренней логикой, пусть и сомнительной в свете реального опыта; но, соединенные вместе, они представляют собой нелепость даже с точки зрения отвлеченного смысла. Ну при чем здесь Герцен и Конфуций? Горький и Тамерлан?
И почему в статье с этим названием (Хам с большой буквы) ни разу ни одним словом не упомянут тот, с которого и пошла гулять по свету сама история, – сын Ноя и отец Ханаана, родоначальник одной из трех ветвей человечества?
Одно из двух: или публицистические цели автора не требовали глубокого погружения в древность (но тогда для чего китайцы и Лао-цзы?), или мы оказались жертвой магии имени, изначально насыщенного мощным мифологическим смыслом, но в новом контексте пустого и бессмысленного, однако гениального в своем звуко-образе. Почему Грядущий Хам, а не Грядущий Человек или Грядущий Антихрист? Да потому, что второе звучит невкусно, третье же является тавтологией. Словесное чутье не обмануло Мережковского. «Грядущий Хам» вырывается из глубины тела с дыханием. Восхитительный контрапункт: банальное ругательство с церковнославянским «грядеши»! И что-то подсказывает: то, что отлилось в такой блистательной форме, не может не иметь глубокого и оригинального смысла. За такой внешностью должно быть и соответственное содержание. Доверимся же автору и всмотримся в его сомнамбулические зрачки, что притягивают на известных фотопортретах.
В то время еще не было компьютеров и слыхом не слыхивали о «гипертекстах». Но тем не менее статья Мережковского представляет собой именно зародышевый образец «гипертекста», где основной сюжет не более чем начало пути. Внутри разбегаются дороги – выделенное на мониторе другим цветом или шрифтом слово (после наведения курсора) открывает новый текст, уводящий в сторону, но событийно связанный с основным.
Например, зачем в «Грядущем Хаме» наличествуют Борджиа и Наполеон? Выделим их мысленно цветом, наведем курсор, «раздвинем» текст. Право, автор искушает нас на подобные операции! Наведем на «Хама».
Хамово отродье
Сошедши с ковчега на землю, Ной и его семья, среди которой был и средний сын Хам, заключили с Богом завет. Началась новая, «послепотопная», эра человечества. Среди многих трудов Ноя был такой: он посадил виноградник. Первый результат оказался плачевен. Не зная ничего о свойствах виноградного сока, патриарх напился и заснул обнаженным в шатре, где его и подсмотрел Хам. Об увиденном же – судя по фреске Микеланджело в Сикстинской капелле, посмотреть было на что! – он немедленно рассказал братьям Симу и Иафету. Братья повели себя благоразумно: отвернув лица, вошли в шатер и накрыли отца одеждами; когда тот проснулся, обо всем доложили. Взбешенный Ной проклял четвертого сына Хама, Ханаана. Его потомки будут «рабами рабов» потомков праведного Сима! Так и вышло, по Библии: евреи после долгих сражений завладели ханаанской землей. Вот и вся история.
Но из нее непонятно одно: что так разгневало Ноя, что он проклял – подумать странно! – четверть одной трети своего рода! Комментаторы Торы, где история Хама ничем существенно не отличается от синодального библейского варианта, естественно, задумывались над этим, предлагая более подробные версии хамского поступка, среди которых встречаем такие страшные вещи, как оскопление отца, гомосексуальный акт с ним и даже инцест с матерью. Отсюда вроде бы понятным становится проклятие Ханаана, «четвертого» сына, – ведь после трех сыновей Ной не смог родить четвертого (в Талмуде это объясняется так: Хам поглумился над своим отцом и сказал: «Мой отец имеет трех сыновей и хочет иметь четвертого»). Христианские комментаторы просто оценивали хамский поступок в символическом плане: праведнику отцу противостоит циничный, чувственный сын («Хам» в переводе означает «жаркий»), чьи африканские потомки были наказаны еще и тем, что оказались «черны лицом».[13]
Всё это не имеет прямого отношения к нашей теме. Выделим курсивом только одно несомненное обстоятельство: после какого-то неизвестного поступка Хама Ной навеки лишился плодоносящей силы. Хотя к тому времени Ной, проживший всего пятьсот с небольшим лет (всего он прожил девятьсот пятьдесят), был мужчиной примерно среднего возраста, он до конца дней не имел больше детей. Но его плодоносящая сила оказалась распределена неравными частями: самая значительная досталась праведным Симу и Иафету и довольно существенная перепала (в метафизическом плане – была похищена) Хаму и его «отродью».
И отныне человеческая культура имеет двойственный характер. В ней одновременно наличествуют «сокровенный» и «откровенный» элементы, каждый из которых обладает собственной силой и определенным преимуществом. Вернее сказать, есть воля, которая стремится к охранению таинства, оказывая ему довольно смешное, на посторонний взгляд, уважение (сыновьям Ноя было неловко двигаться к отцу, пятясь задом); и воля, которая относится к таинству легко и просто, как к чему-то равнозначному прочим вещам.
Это можно показать на одном жизненном и одном литературном примерах. Вдова русского поэта и мистика Даниила Андреева рассказала мне случай из своей жизни. Уже после отсидки в лагере она однажды оказалась далеко от Москвы, в заброшенном храме, из тех, где обычно были склады или гудели трансформаторы местных электролиний. Проход к бывшему алтарю был свободен, но она – мирская женщина! – не посмела войти туда, хотя и испытала на какое-то мгновение соблазн. Ее никто не видел, как и Хама в шатре отца. Тем не менее она «отворотила лицо».
Другой пример. В романе Генри Миллера «Тропик Рака» описано, как автор (пусть – лирический герой) с пьяными товарищами забежали в католический храм и начали в нем бузить. Муки священника, пытавшегося выдворить хулиганов, но так, чтобы не уронить достоинство сана, доставили им особую радость. Смысл этой истории состоит вовсе не в том, что подонки кощунствовали, а в том, что они наивно и даже трогательно не понимали, а в чем, собственно, дело.
Сим и Иафет это понимали. Они поступали неестественным, но праведным образом. Хам поступал естественно (если, конечно, забыть дотошные комментарии к его поступку и принять его натуральным образом). Отец в пьяном виде и голый весьма смешон и интересен. «Таким я его не видел!» Почему не поделиться этой новостью с братьями? Для чего совершать какие-то неловкие и, главное, абсолютно бессмысленные действия, над которыми посмеялся бы всякий посторонний зритель (задом двигаться к отцу и накрывать его платьем)? «Еще чего!» Хам поступал естественно («Естественный человек, или попросту хам», – как сказал однажды на лекции Сергей Аверинцев), но почему-то неправедно. Почему? Но это и есть «хамский» вопрос!
За всем этим остается невыясненным одно обстоятельство. Какой была непосредственная (в буквальном смысле – мышечная) реакция Хама на проклятие отца? Он бился в плаче, молил о прощении, посыпал голову пеплом? Мы не знаем об этом. Между тем в ответе на этот вроде бы пустячный вопрос заключено будущее нашего героя. Грандиозная духовная трещина, которая расколола всё человечество, начинается именно отсюда, не с прежнего поступка Хама. Собственно, поступка-то и не было. Ну, подсмотрел, ну, разболтал. Можно списать на случайность, на темперамент, на молодость наконец!
Настоящим поступком Хама было вот что: услыхав проклятие отца, он просто повернулся и вышел из шатра. Ушел. Такая ситуация мне представляется почему-то наиболее правдоподобной, а вместе с тем – наиболее символической. В этом был заключен пародийный жест чудовищного значения: Хам дублировал поведение братьев («пошли задом и покрыли наготу отца своего»); но не тогда, когда Ной находился в жалком и беспомощном состоянии, а когда он был в силе и праведном гневе, то есть когда он был по-настоящему, божественно прекрасен! И в этот-то момент Хам и вышел из шатра задом к отцу, насмеявшись над братьями, перечеркнув священный смысл их поступка.
И отныне мы имеем дело с Хамом не вечно Грядущим, но вечно Уходящим. Даже странно, что виртуоз диалектик Мережковский этого не заметил и придал метафизическое значение только наступательной стороне хамства.
Хам Уходящий есть везде, где существует какая-то культура и, значит, – какие-то святыни и, значит, – нечто, что нуждается в охране и защите. Хам не откуда-то извне появился – он сын этой культуры, плоть от плоти, кровь от крови. Он такой же ее «вечный спутник», как и праведные сыновья. С ним ничего не поделать.
В сущности, он – это мы.
Куда он шел?
Просто себе шел. И, может быть, бормотал про себя: «Да ну вас… с вашим Богом!»
Конечно, такое предположение видится весьма рискованным: ведь проклятие Ноя падало лишь на Ханаана. Хам оставался Божьим избранником в Завете; и ни один смертный не был в силах отменить это благословение.
Поэтому вся история разрыва Ноя и Хама оказывалась вроде бы человеческим делом, и только. Допустим, Ной мог – опять же в сердцах – проклясть и Хама, но только «про себя». «Не удалось семечко, выкинем его вон!» Но семечко-то обладало своей первоначальной силой и вопреки отцу проросло.
Кроме Ханаана у Хама было еще трое сыновей: Хуш, Мицраим и Фут. От них пошли свои дети; их перечисление занимает в Библии немногим меньше места, чем перепись внуков, скажем, Сима. Между прочим, один из внуков Хама, Нимрод, «был сильный зверолов перед Господом…», был «силен на земле…» (в русском издании Торы такой перевод: «он первый сделался богатырем на земле»). Нимрод владел обширной империей, в которую входили Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар.
Как это важно, что первое упоминание Вавилона прямо связано с ближним потомком Хама! Ведь именно строительство знаменитой башни «высотою до небес» и стало первым в библейской истории актом инженерного и художественного творчества человека не просто без Божьего благословенья, но и прямо вопреки Его воле!
Каждая деталь этой грандиозной стройки очень символична. Вспомните: Ной строил ковчег. Создается впечатление, что Бог не просто не желал самостоятельного творчества людей, но относился к ним как к малым детям, которым нельзя довериться решительно ни в чем! Описание ковчега, предложенное Богом Ною, напоминает инженерный проект, где всё учтено до мелких деталей: «Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье» (Быт. 6: 14–16).
Всё здесь учтено: стройматериал, размеры, конфигурация и даже расположение окон и дверей! Ничего подобного этому проекту вавилоняне, разумеется, не получили; а, между тем, затеянная ими постройка до сих пор не имеет равных на земле. Согласно легенде, на верхние этажи еще не достроенной башни камни поднимались (с помощью лебедки – что изображено на гравюрах) в течение целого года! Да и не камни это были, а кирпичи – в сущности, первое изобретение человеческого инженерного гения без помощи Бога! «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести» (Быт. 11: 3). Кстати, это совсем не «мифы народов мира», изобретение кирпича в Вавилоне подтвердилось археологическими поисками[14].
Не приходится сомневаться, что в более благоприятной ситуации, чем та, что выпала на долю вавилонян, башня была бы достроена. Иначе зачем было Богу вмешиваться и держать совет с ангелами? «И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать…» (Быт. 11: 6). В Торе такой перевод: «Ведь народ один и речь у всех одна, и это лишь начало их деяния, а теперь не будет для них ничего невозможного – что бы они ни вздумали делать».
Дальнейшее известно. Духовное значение Вавилонской башни волнует человечество по сей день. Одни считали ее прообразом всей человеческой культуры – изначально задуманной как вызов Богу; другие (Достоевский в «Братьях Карамазовых») сравнивали с социализмом, то есть допускали возможность другой санкционированной Богом культуры.
Так или иначе, надо признать: строительство башни оказалось первым в Библии намеком на цивилизованный шаг человечества. Согласно наиболее простому толкованию, построение башни не было действием против Бога. Население земли было весьма малым, и люди боялись, что они разбредутся в поисках пастбищ по всему миру и навеки потеряют связь между собой. Башня – это маяк, а Вавилон – столица мира. «Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли…» – говорили строители башни, то есть назовемся, определимся для самих себя: кто мы? Не в том ли и состоит внутренний смысл всякой цивилизации – в элементарной организации безбрежного человеческого хаоса? Но кроме того, в плане «столицы мира» и создания единого маяка для всего человечества смутно брезжит главная идея европейской цивилизации – «мира без границ» и, в частности, «единого информационного пространства». И можно только догадываться, чего стоило древним вавилонянам, имея под рукой лишь кирпичи и земляную смолу, проводить эти идеи в жизнь, когда и современное человечество, владеющее средствами ТВ и Интернета, не может с этим справиться!
Но есть и более изощренные версии толкования Вавилонской башни. По одной из них говорится, что башня – это мысль о том, что не Бог управляет миром; и сам Потоп был следствием перемещения небесных сфер, которое может время от времени повторяться. Башня до небес нужна, чтобы воздействовать на сферы; таким образом, она была задумана как первая в истории попытка «научного управления миром», что совпадает с идеями наиболее радикальных мыслителей гуманистического направления от Фурье до Федорова и Вернадского.