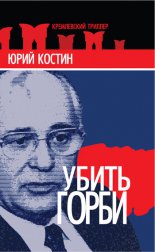Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка Качан Владимир

Так вот именно Сережа рассказал мне, что Лена разошлась почему-то с Сашей и живет теперь здесь.
- Где? - встрепенулся я.
- В Иерусалиме, - ответил Сережа.
- Так надо же ее повидать. У нас там один спектакль, но приедем утром, я успею.
- Не выйдет, - говорит Сережа.
- Почему?
- Да потому, что она в монастыре.
И он рассказывает мне, что Лена не просто в монастыре, она вглухую там, она приняла постриг и вообще ушла из внешнего мира, у нее даже имя теперь другое, монашеское. И когда Сережа сам узнал о том, что его однокурсница здесь, и захотел ее найти, и нашел, то его не пустили, потому что она не хочет никого из той, мирской жизни видеть.
Еще один парень, Валера, был отчислен за участие в демонстрации в защиту Даниэля и Синявского.
А вот Игоря выгнали за изнасилование. В общежитии. Девушка в решающий момент не уступила, Игорь обиделся, и ударил, и даже придушил слегка.
Игорь старше и опытнее всех на курсе, ему уже двадцать шесть лет, и он приехал в Щукинское училище, уже побыв артистом Бакинского театра. Он там в Баку играл Отелло. Не учел Игорь, что темперамент венецианского мавра по бакинской лицензии в московском общежитии не пляшет, что не всякая студентка - Дездемона, с которой можно аналогично разобраться.
А еще была Тоня. Она воровала. Воровала белье в общежитии, в женской душевой. Это долго продолжалось, но потом моющиеся студентки поймали Тоню практически за руку. До милиции дело не дошло, они ее просто взгрели, а потом рассказали в деканате. Тоню не спасло и то, что она все время выдавала себя за сестру самого популярного тогда писателя. Ее выгнали.
Ну и, наконец, венцом отчислений был парень, даже имени которого я не помню и не хочу вспоминать. Он объявил, что у него умерла в родном городе мать, собрал со всех деньги на дорогу и на похороны и уехал. А тремя днями позже мать приехала его навестить...
В общем, палитра отчисленных была богатой. Сами посудите: диссидент, насильник, воровка и подлец. Одна только манекенщица Галя, беспечный мотылек, не укладывалась в это буйство красок. Но это и правильно, Галя в стороне, она отдельный человек, и об этом вы уже знаете.
Нельзя сказать, что курс без них осиротел, потом были и другие, но отчего-то они, первые отчисленные, вспоминаются рельефнее и ярче, чем даже многие из тех, с кем мы заканчивали.
А мы продолжаем учиться. Не без страха, потому что наша профпригодность для руководителей курса тоже не безусловна. Смешно, конечно, если бы, допустим, Леонида Филатова признали профнепригодным, но случилось же такое с Валерием Гаркалиным, которому пришлось пробиваться в большое искусство через театр кукол. И это сейчас смешно, а тогда было не до смеха. Этюды "Я в предлагаемых обстоятельствах" давались с трудом: "я" было ничем не прикрыто и стеснялось. Или - по специфической театральной терминологии было зажато.
Все изменилось на втором курсе, который почти весь был посвящен наблюдениям.
Что это такое? Отчасти специфика вахтанговской школы (в то время наблюдения не практиковались больше ни в одном театральном вузе), но для нас - увлекательнейшая охота за характерами, походками, говором, необычной жестикуляцией и прочим. Мы рассыпались по базарам, вокзалам, буфетам, сберкассам и улицам в поисках наблюдений. Кто больше добычи принесет, тот и молодец. Вот тут-то наше "я" можно было и прикрыть и спрятаться под маску чьей-нибудь характерности. Характерность вообще сильно ценилась в нашей школе. После наблюдений, например, нам с Филатовым прочно приклеили ярлык "
характерный артист". Что это такое, я до сих пор плохо понимаю. Джек Николсон или Жерар Депардье по канонам нашего училища непременно попали бы в характерные артисты, однако они играют все, и другое дурацкое амплуа, "
герой-любовник", которое даже и звучит-то по-дурацки и никуда, кроме оперетты, не подходит, тоже, как мы все знаем, им не чуждо. Характерный артист вроде как обречен всю жизнь кривляться и в герои не лезть. Но жизнь, как уже сказано, поправляет, и Юрий Никулин играет "20 дней без войны", а Жерар Депардье - Сирано де Бержерака и графа Монте-Кристо.
Мы тоже перейдем потом мягко в другое амплуа. Характерный артист Володя исполнит вскоре главную роль в тюзовском спектакле "Три мушкетера", а несколько позднее, у Эфроса, - Джона в спектакле "Лето и дым". Это его удивит, потому что и там, и там есть очевидные черты амплуа героя-любовника, на которое он никогда не претендовал.
Но это, так сказать, было скромно и локально, на уровне театра, а вот что касается Филатова, то тут опровержение амплуа оказалось практически всенародным, потому что фильм "Экипаж" смотрела вся страна. Он уже играл довольно много и в кино, и на ТВ, но "Экипаж" прочно возвел его на пьедестал "героя-любовника". Филатову на этом пьедестале было несколько неуютно, и он все норовил с него спрыгнуть, играя даже бандитов или чиновников, но и бандиты у него получались как герои, а чиновники - как печальные герои. Он влип в свое новое амплуа с комфортом Алена Делона, романтического кумира своего кинодетства.
- Ох, - мечтательно вздыхала одна артистка Театра на Малой Бронной, стоя перед выходом рядом со мной за кулисами, - вот кому бы я дала. Ух, как бы я ему дала-а-а!..
- А он бы взял? - невежливо спросил я тогда, втоптав в слякоть мечту кованым сапогом солдатской прямоты.
Так мне казалось только, потому что она с немотивированной уверенностью ответила: "Ого-о! Еще как бы взял!!!"
И почему это многие женщины убеждены, что их готовность отдать себя такой уж драгоценный подарок, от которого ну никак нельзя отказаться, что их предложение рождает немедленный спрос.
И к тому же - это грубое "дала"... Ведь есть же в конце концов песня : "Я не уважила, а он пошел к другой". И почему бы не сказать вместо "я бы ему дала" - "я бы его уважила"?
Впрочем, вопрос это чисто теоретический, потому что у Филатова была тогда уже...
Нина
Говорят, что каждый мужчина стоит той женщины, с которой живет. Он заслуживает ровно столько, не больше и не меньше. И когда мы задаем себе вопрос, отчего часто нравимся женщинам, которые нам вовсе не нравятся (впрочем, и наоборот), то имеем в виду и другое: что бывают совпадения. И тогда!.. Если бы автор встретил в жизни только одну любовь, да и то не свою - любовь Лени и Нины, он бы и тогда поверил в нее слепо, безоговорочно и обливаясь слезами умиления.
Шутки в сторону, я спою сейчас песню о Нине. Пусть слушает! А вы, если хотите, назовите это одой, не ошибетесь.
Я не буду вам петь о том, как все началось, это почти у всех похоже. А не похоже то, что они встречались тайно девять (!) лет, и никто, даже самые близкие друзья, об этом не подозревали. Они оба были не свободны, поэтому было так. Они долго мучились, не желая строить свою радость на чужих костях, и даже не "чужих" вовсе, а близких в то время людей. Долгая проверка! Не одно чувство погибло под давлением такого срока, и даже в зарегистрированном браке. А потом стало ясно: больше друг без друга невозможно, надо жечь старые мосты и соединяться. Они поженились и стали жить вместе.
И вот через много лет Леня - в самом критическом периоде своей жизни. С почками совсем плохо, если точнее - их попросту нет. Три раза в неделю его возят на гемодиализ, кладут на процедурный стол и четыре часа перекачивают кровь. Нина всегда рядом. Он, лежа на столе, сочиняет веселую пьесу в стихах "Любовь к трем апельсинам", парафраз из Карло Гоцци. Сочиняет и запоминает свои озорные строки, совершенно не подходящие к обстановке, потом он их Нине продиктует, и она запишет, как и все другое, что он в этот период сочиняет.
Скоро будет операция. Мало кто верит в успех, близкие готовы ко всему, даже врачи сомневаются и ничего не гарантируют, а многие из них совсем не верят.
Нина - верит! Ее вера неистова и выглядит иногда фанатичной. Но она свято верит, что все будет хорошо. Она говорит все время : "Он сильный, он выдержит",- и заражает этой верой Леню. Он тоже верит и не сомневается.
Когда одни мои знакомые врачи из более чем солидного лечебного учреждения заподозрили рак, причем одну из его смертельных форм, без шансов на выживание, Нина сказала: "Нет! Ничего этого у него нет! Я знаю!" Врачи не знали, а она ЗНАЛА! И ее правота потом подтвердилась. А врачи легко так, будто ничего и не было, сказали: "А-а! Ну слава Богу, поздравляем".
Вы прочтите эту сказку - "Любовь к трем апельсинам". Или первую часть его следующей пьесы "Лисистрата". Веселая игривость и даже гривуазность некоторых строк в то время, когда жизнь бултыхалась посреди реки под названием Стикс, не зная, к какому берегу прибиться.
"Да не может быть!" - скажете вы, прочитав.
"Может!" - отвечу я, если это Леня, а рядом - Нина.
Все это время в их доме весело. Никакого уныния, печали, никакого тягостного ожидания операции, никакой ущербности или неполноценности! Только веселье, анекдоты, смешные случаи из внешнего мира, с Большой Земли. Нина ограждает его от любой негативной информации, от любого известия, что кому-то плохо или того хуже - кто-то из знакомых умер. Филатов со своей передачей "Чтобы помнили" и так в этой воде искупался вдосталь.
Она первый и самый благодарный слушатель того, что он сочиняет. Все новое он читает приходящим друзьям - Задорнову, Ярмольнику, Розенбауму, мне... Всем.
Она слушает в десятый раз и все равно - в смешных местах смеется, а в трогательных плачет, как в первый раз. Я прихожу, она, смеясь, меня встречает. И провожает, смеясь. Энергии у нее - и за себя, и за него, она как энергоноситель, от которого он получает питание. Хорошее настроение дома всегда, когда бы я ни пришел, - один или вместе с Мишей. И это тоже она.
Нина светится оптимизмом и верой в то, что все будет хорошо. А чего ей это стоит - знает только она. Я не знаю, никогда не видел, она никогда не показывала.
Она соскочила с гребня своей артистической карьеры, чтобы ему помочь, чтобы он встал, чтобы не потерял надежду. Она бросила Маргариту в булгаковской пьесе и другие любимые роли, чтобы быть с ним рядом. Все время, пока ему плохо. И в те кризисные дни перед операцией он написал: "Вставай, артист, ты не имеешь права скончаться, не дождавшись крика "Браво". Вставай, артист, ты профессионал! Ты не умрешь, не доиграв финал".
Теперь, Бог даст, финал не скоро, и авторство в этой надежде принадлежит не только блестящему хирургу Яну Мойсюку, который делал операцию, но и, конечно, Нине.
Итак: любовница, жена, друг, медсестра, сиделка, нянька, кормилица и водитель транспортного средства "Жигули" - что еще надо интеллигентному человеку, да к тому же поэту! Я верю, что и я живу с такой женщиной, что она меня не бросит в случае чего...
А они... Они недавно повенчались. Они и там хотят быть вместе.
Давай, Нина, улыбайся! Еще и еще. Опять и опять. Давай! Птичку помнишь, смешную такую? Ну! Давай!
Перенесемся обратно в тот год, когда мы бегаем как угорелые в поисках наблюдений по всем присутственным местам города. Это охота и спорт, это азарт. Благодаря наблюдениям автор, например, чувствует себя на курсе гораздо увереннее. Он шлепает этих наблюдений по четыре-пять на каждом занятии, и некоторые оказываются смешными и удачными, но вершиной этой наблюдательской деятельности является его открытие, что далеко бегать не надо, можно показывать то, что буквально под боком. Абитуриенты, поступающие в тот же театральный вуз, оказываются просто-таки золотой жилой для смышленого студента. Характеров, типажей - море, и из этого неисчерпаемого источника с тех пор утоляют жажду многие учащиеся театральных вузов.
Действительно, зачем далеко ходить, возьмем Китай, как говорил один чиновник управления культуры.
Еще одно открытие было у "наблюдательного" второкурсника: в Щукинском училище работал оформителем учебной сцены Николай Дмитриевич Берсенев. Он всегда ходил в одном и том же синем рабочем халате и черном берете, лихо сдвинутом набок. Но ходил, как ректор или как лорд. Нет, все-таки как ректор, но ректор всего, что живет, как начальник землетрясения, ходил Николай Дмитриевич по училищу. К тому же он разговаривал густым, прокуренным басом, плохо выговаривал буквы "с", "ц" и "з" и ко всем студентам и выбранной ими профессии относился с ярко выраженным сарказмом, переходящим иногда в презрение. Приехавших из Риги Пярна, Галкина и меня он называл не иначе как "погаными латышскими стрелками, которые помогли Ленину в восемнадцатом году". А иногда для разнообразия - "латышскими недобитками"
и "фашистскими прихвостнями". Если хотя бы двое из нас стояли и курили перед входом, он подходил к нам с важностью члена комитета по Нобелевским премиям и, держа в зубах изжеванную папиросу, как сигару ценой в десять долларов за штуку, брезгливо спрашивал: "Ну, что, латышские стрелки, просрали Россию?!" А потом вальяжно просил прикурить, давая этим понять, что он нас простил.
Вот его-то я и показал однажды. С невероятным успехом, сравнимым разве с тем случаем, когда мы с Задорновым в школе играли Чехова и у меня падали штаны.
И после этого его стали показывать многие, так что можно было даже образовать клуб имитаторов Николая Дмитриевича.
Самые удачные наблюдения потом составили что-то вроде концертной программы, с которой мы иногда выступали.
Наблюдения продолжаются и сегодня, но приобретают характер более литературный, нежели актерский. Кажется.
Кажется, мы стареем вместе с нашими наблюдениями, однако в старении больше усмешки, чем печали; ведь это как посмотреть, можно, конечно, и погрустить, глядя в заплаканное окно на свою дождливую осень, а можно и посмеяться.
Вот, например, артист Театра на Малой Бронной Георгий Мартынюк переодевался в своей грим-уборной. Другой артист, значительно моложе, посмотрев на его обнаженный торс, решил сделать ему комплимент. Он не сказал, что у вас, мол, тело молодого человека, не сказал даже, что, если посмотреть на фигуру, вы еще дадите фору и т. д. - что-нибудь такое, что порадовало бы коллегу. Он похвалил иначе, я бы сказал, простодушнее. Он сказал: "Георгий Яковлевич, а ведь если вам голову отрезать, вы еще совсем молодой".
Или вот уж совсем очаровательное. Мы на гастролях в Томске со спектаклем "Чайка". Спонсор наших гастролей по всему очень богатый и авторитетный в области человек и к тому же очень радушный. Банкет с деликатесами - это так, вздор, он ведет нас знакомить с настоящими вложениями своего капитала: вот здание, это мое, там магазины, тоже мои, а вот деревянная скульптура, я вложил деньги в этого художника. Скульптура, к слову сказать, - чудовищное, громоздкое сооружение, плод запредельных алкогольных фантазий, шедевр абстиненций, но это ладно, а вот еще массажный кабинет, настоящий тайский массаж, я тут выписал настоящих девушек из Таиланда. Ладно, идем. Бассейн, джакузи, атмосфера знойных субтропиков и девушки-массажистки, которые имеют такое же отношение к Таиланду, как я - к Зимбабве, в лучшем случае они из Казахстана. Но не специалист, не этнограф - все равно не поймет: главное - в них есть восточный колорит. Кроме того, чувствуется, что девушки готовы за определенную плату (или если хозяин прикажет) выйти далеко за пределы оздоровительного массажа. "Давайте, - говорит одна, облизывая кончиком языка ярко окрашенный рот, - мы вас... помассируем". Она хочет угодить бизнесмену, ведь я его гость. Но я говорю им, что боюсь оказаться слишком потрясенным, и отказываюсь.
Идем дальше, и он показывает нам свою гордость: стриптиз в баре на втором этаже. Он сам это организовал, устроил, набрал девушек, заплатил за их обучение, вывел зрелище на европейский уровень и придал ему, как он думает, художественный смысл. Что артистам стриптиз, что они, не видали его? Вот пластические этюды с раздеванием, даже сценки, в которых две девушки покажут нам красоту и преимущества лесбийской любви - вот это артистов приятно удивит. Оказался, однако, обыкновенный стриптиз; все то же самое, музыка, шест, вокруг которого смешиваются хореография и акробатика, и стереотипные образы: или женщина-вамп, или опытная, гиперсексуальная блондинка, изнемогающая от собственной похоти, или, наоборот, застенчивая юная девочка, почти ребенок, в кружавчиках, которая раздевается, якобы жутко стесняясь.
Апофеозом номера является момент, когда обнажается грудь. Это подается, как смертельный трюк, который не всякий зритель может вынести.
Все, по замыслу режиссера, которым наш хозяин втайне себя считает, должно иметь предельный эротический эффект тогда, когда персонифицировано, направлено на одного выбранного стриптизершей человека, когда все делается для него и соблазняют его лично.
В этот раз объектом сексуальных домогательств выбирается М. А. Глузский, чей восьмидесятилетний юбилей мы в театре недавно отметили. Глузский сидит у стойки бара, ближе всех к зрелищу. Хозяин делает знак кому-то, чтобы занялись именно Михаилом Андреевичем, и тот передает задание девушке, как раз той самой, которая воплощает образ гиперсексуальной эксгибиционистки.
Она начинает мощную обработку Глузского, но человеку восемьдесят лет, не всякий даже кавказский долгожитель способен на возбуждение в этом возрасте.
Однако надо знать Глузского. Он делает вид, что страсть пожирает его, просит, чтобы ему немедленно принесли выпить. Девушке кажется, что успех уже достигнут, ее зад вертится прямо перед лицом Михаила Андреевича, она уже просто-таки совершает половой акт с воображаемым партнером, то есть с ним, о котором мечтала всю жизнь, и вот он наконец явился. Крещендо! Девушка разворачивается, бросает голую грудь на стойку рядом с бокалом Глузского и уже лицом и губами, совсем рядом обещает ему райское наслаждение. И тут Михаил Андреевич почти вплотную приближает к ней свое лицо, будто готовясь к неизбежному поцелую, и тихонько спрашивает: "А мама знает?"
Ну чем вам не наблюдение, которое даст сто очков вперед любому показанному наблюдению! Или вот эта трагикомическая история с одной красивой женщиной, которая захотела стать еще моложе и красивее к приезду из длительной командировки любимого мужа. Она решила сделать себе пластическую операцию, но муж вот-вот приедет, поэтому торопилась. И все получилось наспех и неаккуратно. Не были сделаны предварительные анализы на аллергию и многое другое. Да и врач, решивший пойти ради денег на нарушение врачебной этики, сделал все топорно и грубо. В результате все лицо у нее распухло и покрылось синяками, в особенности у глаз. И чувствовала она себя так, что ей впору в реанимацию, а не то что красоту наводить. Слава Богу, муж возвращается на несколько дней раньше и застает дома жену в таком плачевном состоянии. Он в ужасе, везет ее как раз в реанимацию.
В приемном покое института Склифосовского их первым делом встречает дежурная медсестра, которая видит травмированную жертву, всплескивает руками и, совершенно не ориентируясь в сфере чуткости и такта, обращается к мужу с вопросом: "Кто же это вашу бабульку (!) так побил?" Ну ладно бы еще побил, но "бабульку"! Мечта о быстром омоложении рухнула на самое дно старушечьего триллера. Хорошо, что временно и все было поправлено, но каков эпизод, в котором смерть с водевилем танцуют в паре!
Или вот какая прелесть! У моего приятеля в Риге есть телохранитель. Его зовут Шура. Шура давно уже перестал быть просто телохранителем. Он для босса и водитель, и товарищ, и помощник в доме, и многое другое. Но главное все же - телохранитель, со всеми признаками профессии: у Шуры литой торс, широкие плечи, кобура с пистолетом всегда под пиджаком справа, потому что Шура левша; шея диаметром с голову, но главное - лицо. Убедительное, невозмутимое, гранитное лицо солдата-наемника и слюдяные глаза, глядя в которые, человек с агрессивными намерениями сразу эти намерения теряет.
Когда мы стояли возле машины, к нам подошел паренек и попросил десять сантимов. Остап Бендер на аналогичный вопрос беспризорного отвечал многословно и неконкретно: "Может, тебе дать еще ключи от квартиры, где деньги лежат?" Шура же обернулся к попрошайке, посмотрел на него и тихо сказал одно только слово: "Потеряйся". Тот заглянул в Шурины глаза и исчез с быстротой карты в руках у фокусника. Хотя в слове не было угрозы, это был скорее совет. При всем этом Шура много читает, каждую свободную минуту он с книжкой, складно и грамотно говорит, слушает музыку. А любимое музыкальное произведение у него - как вы думаете, что? "Реквием" Моцарта. Хотя... может быть, "Реквием" - это чисто профессиональное?.. Не знаю, не знаю, одно скажу: наблюдения за Шурой доставляли мне и актерские, и, если угодно, литературные наслаждения.
А филатовские наблюдения ? Чего стоит один только рассказ о чиновнике из Госкино, приехавшем проверять, как идут съемки фильма "Чичерин". Почему бы не прокатиться даром в Италию и не проверить? Первый день для него как для деятеля культуры, естественно, - это ознакомление с культурными и историческими ценностями, музеи и прочее, а уже второй - самое главное, для чего приехал, - магазины.
Странный каприз одолел чиновника - спрашивать в магазинах "сколько стоит"
именно по-итальянски. Его научили, что надо говорить: "Куанто косто?" слегка подивившись его капризу, потому что во всей Европе, если спросишь по-английски: "How much?" - будешь понят. Но он хотел именно по-итальянски.
Поэтому прилежно учил фразу, запоминал: "Куанто косто, куанто косто",что, однако, не помешало ему, войдя в первый же магазин, небрежно обронить: "
Коза ностра". И все попадали на пол, приготовившись к нормальному ограблению. Даже если Леня все придумал, то это придумал поэт.
Он и в училище конструировал ситуации, которые не могли быть показаны на сцене, но как рассказы были замечательны. "Вот, - говорил, - представь, идет по пустыне человек, и вдруг прямо перед ним - королевская кобра, огромная, метра два. Он замирает в ступоре и не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. А кобра шипит, постепенно подымается, раздувает капюшон, и ее немигающие глаза приговаривают путника к смерти. Никого нет, никто не поможет. Воздух застыл, ни одного движения, только язык кобры - туда-сюда, туда-сюда, ни звука - только зловещее шипение, сейчас последует бросок - и все. Момент истины. И тут... над ними пролетает птичка и роняет на голову королевской кобры помет.
Прямо на корону, на раздувшийся капюшон грозного пресмыкающегося.
Неприлично! И вот помет медленно стекает по кобриному немигающему глазу, лучше бы он мигал, зараза! А так ведь - никакой защиты!" - И дальше Филатов излагает нам внутренний монолог кобры во время того, пока это стекает.
Птичка невольно разрушила весь драматизм ситуации, кобра - уже не хозяйка положения: глупо как-то оставаться грозной, когда у тебя с головы течет такое, совершенно не подходящее для смертельного броска. "Вот незадача-то",- думает кобра, и так далее, - все, что она думает, рассказывает Филатов, и это смешно до слез, до боли в животе. Он часто сталкивает в рассказах высокое и низкое и тычет пресловутую романтику в земной перегной, несмотря на то, что относится к ней более чем лояльно...
"Ползут альпинисты, - начинает Леня новый рассказ. - Трудное восхождение, но им надо добраться до вершины и водрузить на ней флаг нашей Родины. Они дали клятву, они должны! А тут еще непогода, шквальный ветер, метель. Они начинают терять людей, кто-то уже не в силах ползти и остается ждать товарищей в промежуточном лагере. Остаются двое. Обмороженные, ослабевшие, они уже еле двигаются. Один из них не выдерживает за пятьдесят метров до вершины и говорит товарищу:
- Ползи один, я останусь.
- Нет, - отвечает тот, - я тебя не брошу.
- Ползи, я сказал, у тебя одного больше шансов. Не забывай о флаге, мы обязаны его установить, и вымпел тоже. Флаг нашей страны должен там реять, и поэтому ты дойдешь, сдохнешь, а дойдешь и поставишь...
Альпинист смотрит на товарища, слезы замерзают и остаются круглыми льдинками на его обмороженных щеках. "Иди",- говорит тот и остается лежать в снегу. И наш последний альпинист преодолевает оставшиеся метры, уже полумертвым делает последний судорожный рывок и втаскивает свое израненное тело на крохотную площадку вершины. Все! Победа! "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем",- как в песне Высоцкого. Значит, не зря пот, слезы и потери, не зря замерзающие друзья там, внизу. Он вынимает флаг и вдруг видит, что воткнуть его не во что! Абсолютно ровная поверхность. И реять флагу нашей Родины, стало быть, тут не суждено".
Филатов рисует нам жуткую картину, в которой очевидна никчемность цели по сравнению с колоссальными затратами на нее, и не знает, как закончить.
- А что дальше-то? - спрашиваю я, зачарованный страшной сказкой и надеясь все-таки на счастливый конец.
- Да что, что? - говорит Леня.- Все...
- Как все?!
- Ну... он там лег и умер. - И, немного помолчав: - А флаг - сдуло! заканчивает он категорично, с ненавистью к этому куску материи, из-за которого все и случилось.
Сегодня, я думаю, Леня пожалел бы последнего альпиниста, сказал бы, что тот заплакал и стал спускаться, подобрал товарищей, и они бы все благополучно вернулись домой. Но флаг все равно бы сдуло! Он бы ему не простил того, что у нас всю дорогу флаг выше человека, что тот - с серпом и молотом, что сегодняшний - с долларом на полотнище.
Словом, наблюдения сильно помогли тогда и продолжают помогать теперь. Но были еще и самостоятельные отрывки. И теперь я понимаю, что, говоря о Филатове, что он пришел на курс поэтом, а потом была многолетняя пауза, и вот теперь он снова к этому вернулся, я непростительно неточен. Паузы, в сущности, не было, он все время что-то сочинял, и в нем всегда жил писатель и еще отчасти режиссер. Не спал и тем более не умирал, а вел какую-то свою постоянную внутреннюю работу, и нельзя сказать, чтобы незаметную.
Когда у меня еще на первом курсе не получался самостоятельный отрывок, да что там не получался, он был готов к провалу, Филатов помог мне как режиссер, но своеобычно. Что за отрывок, из какой пьесы - это уже и не важно.
Важны деталь, подход, парадоксальность мышления. Своей партнерше я что-то темпераментно выговаривал, ругался с ней, выгонял из квартиры со словами: "
Я не могу больше терпеть вас у себя! Выселяйтесь немедленно!" - и т. д.
Получалось неубедительно и хило. А уже вечером показ. "Что делать-то, Леня ?" - спрашиваю его, только что посмотревшего отрывок, который не тянул не только на плюс, но даже на поощрение. (У нас система была такая. Хорошие отрывки отмечались плюсом, менее удачные - поощрением, и наши плюсы и поощрения шли в конце года в зачет экзамена по актерскому мастерству. Если, скажем, ты сдал экзамены на тройку, но в течение года у тебя были два плюса за отрывки, ты получал уже четверку. Плохие отрывки не отмечались никак. Вот и мой отрывок мог рассчитывать разве что на ноль, на ничего.)
- Так что, Леня ? Можно что-то сделать?..
Он молчит, думает.
- Ну, Леня,- тереблю я его.
- А ничего не делай, - говорит, - поменяй буквы в словах - и все.
- Как это?
- Да так. Веди себя точно так же, кричи на нее, но только вместо "терпеть вас у себя" кричи "не могу пертеть вас у беся", а вместо "выселяйтесь немед-ленно" - "вылесяйтесь немедленно!"
- И все?!
- И все!
- Поможет?
- Уверен.
Я так и сделал, поменял кое-где буквы и перемены даже выучил на скорую руку для верности. И кончилось все дело тем, что совершенно детская простота этого совета спасла мой отрывок, все хохотали, и я получил за него плюс.
Малыми средствами, что называется. Моя партнерша, к сожалению, получила только поощрение, так как постоянно "кололась" - не могла сдержать непроизвольный смех. Да и как могло быть иначе, если сшитый на скорую руку прием все время повергал меня самого в паническое изумление. Я был в ужасе от самого себя : "Господи! Что я несу?! Это же надо - пертеть вас у беся!"
Но Филатов знал, что изменение одной буквы может изменить не то что отрывок, а даже жизнь. У него был друг в Ашхабаде, радиожурналист. Вся страна наша возмущалась тогда поведением африканского диктатора Чомбе и всем сердцем сочувствовала его противнику - борцу за свободу Африки с социалистической ориентацией Патрису Лумумбе, которого Чомбе всячески терзал и мучил в застенке. Вся страна переживала! И тот журналист тоже сделал репортаж о судьбе Лумумбы для ашхабадского радио. И шел он не в записи, а в прямом эфире, и все прошло блестяще, только в самом конце журналист, видно, расслабился. А в конце у него было намечено патетическое восклицание: "Мы с тобой, Лумумба!" И он, разогретый собственным возмущением и пафосом, голосом, звенящим от восторженного единения со всей страной по поводу неправильного поведения узурпатора Чомбе, выкрикнул в эфир слова, поставившие точку и в репортаже, и в его радиокарьере: "Мы с тобой, ЛуКумба!" Одна буква, а как все меняет...
Одна серьезная тайна стояла за некоторыми нашими самостоятельными отрывками.
Материал, сами понимаете, не сразу отыщешь. И мы выходили из положения способом дерзким и опасным: отрывки писал Филатов. На экзамене они выдавались за произведения малоизвестных у нас зарубежных авторов.
Подразумевалось, что они малоизвестны только у нас, а за рубежом о них уже все говорят, но железный занавес нашего театра не пропускает пока тлетворного влияния Запада. Расчет был нагл и точен, по принципу "Голого короля" Евгения Шварца. Ни у кого из педагогов не хватало смелости признаться, что и драматургов они этих не знают и об их пьесах ничего не слышали. Все боялись показаться невеждами друг перед другом и говорили, что, мол, как же, как же, конечно, знаем. "И этого одаренного поляка, как его? Ну да, Ежи Юрандота, и итальянского драматурга тоже. Да, конечно, и книги его у меня, кажется, в библиотеке есть. Надо посмотреть, освежить в памяти, интересный автор".
Словом, "зарубежные писатели" имели большой успех на учебной сцене, а мы почти все регулярно получали плюсы за отрывки из их фиктивных произведений.
Один раз наглость уже достигла предела, когда игрался отрывок из неизвестной, еще не опубликованной якобы пьесы Артура Миллера. Не последняя фамилия в мировой драматургии, но Филатов и за него написал. Анонимный версификатор не обнаруживался долго, и не нашлось ни одного мальчика, который усомнился бы в том, что на короле красивое платье.
Этот мальчик нашелся среди нас. На одном обсуждении в присутствии всей кафедры шел разбор отрывков. Дошла очередь до нашего. Педагоги отметили наши работы и стали наперебой хвалить изумительную драматургию Артура Миллера, в произведениях которого просто невозможно играть плохо; и тем, что мы играли хорошо, мы в первую очередь обязаны этому гениальному американцу. И тут наш искренний и честный Боря Галкин радостно и громко заявил: "А это Леня Филатов написал!" Он всем сердцем желал сделать хорошо, он хотел, чтобы и Филатова похвалили, чтобы все было справедливо, а то все лавры успеха у нас, а автор - в тени...
Не прошло и минуты, как выяснилось, что искренность не всегда обаятельна, а порыв к добру не всегда уместен. И что они могут обернуться и большой неловкостью. Ректор Б. Е. Захава (один из тех, кто был в восторге от Миллера) побагровел и стал тяжело сопеть. Другие педагоги уставились кто в стол, кто в окно; кто в смущении, а кто еле сдерживая смех. Долгое и страшное молчание воцарилось в замершей от неудобства аудитории.
Да-а... в сложном положении оказался наш ректор. И большинство педагогов - тоже. Выйти с честью из такой ситуации почти невозможно. Чаще всего делают вид, что ничего не заметили, не слышали. Сейчас такое не проходило: Боря сказал громко, и первая реакция на его слова - смущение уже была. "Что ж вы из нас идиотов-то делаете? - с горечью произнес кто-то из учителей. - Ну сказали бы, что Леня пишет, мы бы только рады были". Тут мы стали наперебой извиняться, признаваться, что и другие отрывки тоже Леня написал, не сознавая, что это признание только усугубляет ситуацию; начали говорить, что ставили фамилии зарубежных писателей, чтобы отрывки пропустили; что боялись, как бы в противном случае не отнеслись к отрывкам без должного пиетета и т.
д. Но лица педагогов все мрачнели, и извинения они пока не принимали, ведь их унизили, можно сказать, при всех. До этой минуты они считались образованными, интеллигентными людьми, а тут выяснилось, что они не только не знают толком Артура Миллера, но и то, что и выдающийся итальянский драматург Нино Палумбо, и другие авторы - чистая фикция, их нет в природе, и что их вот таким образом бестактно разыграли...
Все в конечном итоге уладилось, но, кажется, Борис Евгеньевич Захава так до конца Лёне и не простил этого эпизода.
По-настоящему веселился только один из наших педагогов, Ю. В. Катин-Ярцев.
Он был одним из самых любимых, и он был единственным, кто сомневался в существовании целой плеяды зарубежных драматургов, внезапно появившихся в мировой культуре. В силу природной доброты и любви к нам Юрий Васильевич молчал и позволял событиям развиваться своим чередом, ожидая, видимо, что, когда Филатов напишет что-нибудь из Шекспира, все само собой и обнаружится.
Процесс сочинительства продолжался у Лени все время, даже когда он не был овеществлен - не только изданными книжками, но и простыми записями. Это называется устным творчеством. Я потом узнал, что почитаемый нами писатель Сергей Довлатов тоже проверял все сначала на слушателях, а потом, отшлифовав слова в "устном творчестве", записывал. И в тот период расцвета своей кинодеятельности, когда Леня писал очень редко, его монологи в разговорах были своеобразными литературными моделями. Писательское творчество воплощалось в монологе. К слову сказать, это то, чем сейчас занимается и Задорнов. Его концерт не что иное, как трехчасовой монолог на разные темы.
У Бориса Хмельницкого есть очаровательный рассказ о том, как однажды вечером он пришел в ресторан Дома кино и за одним столиком увидел Абдулова, Филатова и Панкратова-Черного. Они пригласили его присоединиться. Он сел и через пять минут понял: то, что он принял поначалу за оживленную беседу, представляло собой три отдельных монолога в автономном режиме. Каждый говорил о своем, только одновременно, а со стороны казалось, будто они, пыхтя тремя сигаретами, о чем-то оживленно дискутируют. Можно, конечно, сделать вывод, что большая слава обычно увеличивает объем монологов и приучает человека слушать преимущественно себя, но в данном случае я уверен, что Филатов собирал очередную литературную модель. Насчет остальных не знаю, а Филатов точно собирал.
А когда ничего серьезного на бумагу не шло, сочинялись пародии. Пародии Филатова стали чуть ли не легендой. Их успех был обусловлен глубоким знанием пародируемых, их стиля, манеры, и - самое главное (что труднее всего) - Леня находил и воплощал в пародиях их человеческие слабости. Актерский тренаж на наблюдениях и тут помог, он еще и показывал их всех: и Рождественского, и Вознесенского, и Михалкова, поэтому тут был двойной эффект - и литературная точность, и актерский показ. Были пародии и только литературные, без участия в них Филатова-артиста: на Окуджаву, на Слуцкого, на Самойлова. Чтобы так написать пародию, скажем, на Слуцкого, надо его хорошенько почитать и узнать. Он и читал. И знал поэзию не хуже любого литературоведа. То количество стихов, которые Филатов пропускал через себя, изумляло меня всегда. Знал он, конечно, поэтов любимых Кушнера, Коржавина, Галича и многих других, знал и не очень любимых; и почти не было для него ни одного незнакомого поэтического имени. Сейчас поменьше, но все равно знает. Я сознательно опускаю пока фамилию Пушкин, потому что об этом стихотворце пойдет разговор отдельный и несколько позже...
А тогда мы, и особенно Леня, постоянно читали друг другу образцы высокой поэзии. И сидел он в Театре на Таганке в одной гримерной с Высоцким, что тоже, наверное, не повредило. Стихов тогда у него было значительно меньше, чем в студенческие годы, и можно было бы тот период назвать поэтическим застоем, если бы... если бы не сказка "Про Федота-стрельца - удалого молодца", которую потом стали цитировать все, вплоть до Горбачева.
Однажды Михаил Сергеевич показал Лене, что близко знаком с его литературными опытами. Забавнее всего было то, что он процитировал фразу, самую характерную для всех наших королей и президентов. "Утром мажу бутерброд, сразу мыслю - как народ?" - сказал тогда Михаил Сергеевич, с удовольствием намазывая бутерброд. Зримая песня...
Но тут справедливости ради нельзя не отметить, что в тот тяжелый предоперационный период Горбачев был единственным из государственных деятелей, кто позвонил Лене и Нине домой и спросил: не нужна ли помощь?
Весело шла учеба. Отрывки игрались не только филатовского производства; встречался и Достоевский, и другие неплохие авторы... Был еще один принцип, по которому выбирался материал: это взаимная приязнь, желание поиграть что-либо именно с этим человеком (вот как теперь в антрепризах). Или поиграть во что-либо, например, в любовь.
Отрывок с любовным содержанием часто становился стартовой площадкой для любовной истории самих исполнителей. Короткой или длинной - как пойдет, но становился. Нельзя же, понимаете, долго репетировать сцену с поцелуем и на этом остановиться. Зачем же так мучиться ? Надо дать этому продолжение!
Бывало даже, что продолжение оборачивалось законным браком, а начиналось-то все - тьфу! - с отрывка! То есть получалось, что если юноша имел какие-то виды на девушку с курса, или, наоборот, девушке нравился юноша, то она или он предлагали совместную работу. Примитивное притяжение полов, таким образом, приобретало благородные черты случайности, красивого романа, который начинался всего лишь от добросовестного погружения в материал, - короче, вы понимаете, что, если бы не Чехов, не Толстой, не Бунин, не этот Лопе де Вега в конце-то концов! - ничего бы и не было. Это они во всем виноваты, не надо было так хорошо описывать любовные страсти и поцелуи!
Не думайте только, что весь наш курс лишь то и делал, что лечил отрывками любовную лихорадку. Что вы! Были же еще и обычные работы, с товарищеским партнерством - и не более того! Были ведь еще и однополые, так сказать, отрывки... Вы скажете: ну и что? Будто, мол, нет однополой любви... Но не забывайте, что в то время в театре еще не было этого направления, этой "
голубой" дороги, которая в наши дни превратилась в широкую трассу, и что в песне "а вокруг голубая, голубая тайга" подразумевалась только тайга и не более. А название мультфильма "Голубой щенок" вовсе не означало, что щенок был нетрадиционной сексуальной ориентации и интересовался только кобелями...
Поэтому, например, мы с Кайдановским играли сцену из "Преступления и наказания", совершенно не опасаясь, что нас не так поймут. Конечно, отношения Раскольникова с Порфирием Петровичем носили несколько болезненный характер, но все же не до такой степени! А с самой, пожалуй, яркой и талантливой студенткой из нашей компании мы играли Хемингуэя. О ней я хочу вам рассказать особо. Впрочем, вы ее знаете, ее зовут...
Нина Русланова
"Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты",- спел когда-то Булат Шалвович Окуджава. Давайте! Нам всем, всей нашей стране до любви пока далековато, так давайте потихоньку учиться хотя бы не ненавидеть, не завидовать, не говорить друг о друге гадости. Понимаю, трудно, и все же, все же... Ведь комплименты говорить гораздо приятнее. И желательно - в лицо! Чтобы человек чувствовал, что он любим, понят, что он нужен. Человек от этого дольше проживет. А то мы привыкли, знаете, говорить хорошее за гробовой доской, когда уже поздно; когда красивая надгробная речь адресату уже не нужна и часто выглядит как акт творческого самовыявления говорящего. Поэтому лучше сегодня, сейчас и с удовольствием! И если получится, то выйдет прозаическая версия филатовской телепередачи "Чтобы помнили", только с небольшим добавлением: "О живых..."
Эх, да что там версия! Ведь была же и у меня своя телевизионная передача под названием "Окно", где я все это и пытался осуществить, где приоткрывалось окно в тот внутренний мир героя программы, в который он до меня и не пускал никого. Поэтому, например, все через то "Окно" увидели впервые Сашу Панкратова-Черного не только веселым, компанейским парнем из кинокомедий, клипов и реклам, не только участником ТВ-игр и всяческих шоу, но и человеком, сочиняющим, оказывается, грустные лирические стихи. Там Саша из привычного всем "шоумена" превращался, так сказать, в антишоумена. У нас на ТВ ведь кто платит, тот и музыку заказывает, а под негромкую музыку этого "Окна" разве потанцуешь, поиграешь во что-нибудь, разве под нее рекламу дадут? Вот и закрылось "Окно", едва открывшись... Но тем не менее восемь программ мы с режиссером А. Торстенсеном все-таки успели сделать. И одна из них была про Нину Русланову...
Мы долго с ней не виделись - почти со студенческих лет, ну, может, и встречались случайно раза два-три, не более, а тут я предложил ей сделать про нее передачу, и мы пообщались, что называется, плотно. Когда мы со съемочной группой и Сашей Панкратовым-Черным приехали к ней, выяснилось, что она живет в том же доме, где училась, подъезд в подъезд с театральным училищем им. Щукина. Ничто не изменилось. И никто! Мы встретились так, будто только вчера сдали экзамен по актерскому мастерству, а сегодня решили это отметить. Саша нужен был не только для дела, но и для радости. Водка плюс Сашино обаяние призваны были создать непринужденную атмосферу почти семейного праздника. Кто-то мне потом сказал, что если бы на столе стояла не просто водка, а водка, допустим, "Довгань", да к тому же этикеткой к камере, то это могло бы стать скрытой рекламой, за которую обычно платят.
Мне и в голову такое не приходило, тем более что незадолго до съемки с Ниной я побывал на юбилее бывшего хоккеиста Владимира Петрова. Помните знаменитую тройку: Михайлов, Петров, Харламов? Так вот, это тот самый Петров. На торжестве выступили два представителя фирмы "Довгань", которые рассказали о своих сомнениях по поводу выбора подарка. Долго думали, мол, что же такое Володе подарить, и наконец решили (тут они вынули толстый-претолстый фолиант) подарить... Библию.
"Ну что ж, хороший подарок, недорогой, но со значением",- подумал я... и поспешил, потому что один из дарителей закончил: "Библию с автографом самого Довганя..."
Ну что тут скажешь?.. Лучше бы, конечно, все-таки с автографом автора... или хотя бы его редакторов... Но это так, к слову...
Поэтому мысль о возможных инвестициях в мою программу со стороны фирмы, глава которой расписывается на Библии и фотографируется на водку, не могла украсить собой мое скромное воображение. Я не очень деловой человек, а если точнее - совсем неделовой. Поэтому и передача не идет. Ну а Русланова - тем более! Ни одного своего достижения - ни званий, ни премий, ни триумфов - она не обернула в свою пользу. Я уже говорил, что входить в рынок, будучи обремененным идеалами, трудно. А она с идеалами, непрактичным грузом, висящим на легких ногах благополучия. Идеалы, знаете ли, мешают свободе маневра, поэтому ни богатства, ни машины, ни бриллиантов, ни норковой шубы у Нины нет.
Есть скромненькая квартирка, в которой она живет вдвоем с дочерью, ежемесячная зарплата в театре, которую получает в день американский мусорщик, да гонорары за нерегулярную работу в кино. Эти гонорары, а тем более сумма ее оклада в театре вызвали бы только недоверчивую улыбку у любой европейской актрисы такого же ранга, а потом восклицание, что-нибудь типа "
не может быть!". Может, леди и джентльмены, еще как может!
Можно, оказывается, народной артистке быть одновременно знаменитой и бедной.
Бедной не только по сравнению с ведущими актрисами Запада, но и по сравнению с любой карликовой звездой нашего шоу-бизнеса. Быть далекой, во всяком случае, от элементарного благополучия и достатка...
Можно быть одновременно всенародно любимой и одинокой...
Можно купаться иногда в цветах и славе, но одновременно знать, что по большому счету тебе никто и никогда не поможет...
Можно сегодня быть у всех на устах, а уже завтра о тебе никто и не вспомнит, если ты не пойдешь все-таки "по пути реформ" и не подогреешь интерес к себе чем-нибудь вроде скандала...
Но еще лучше - внезапная смерть, тогда взлет популярности будет гарантирован. А самое сенсационное - это самоубийство, тогда, уж точно, все газеты... дня два... и по телевизору скажут...
Печально и слишком типично для нашей необъятной Родины. Хорошо бы все-таки, чтобы помнили и о живых, в особенности о тех, кто не способен раздеваться публично и не может предложить рынку ничего, кроме собственного таланта.
Хорошо бы, но это так... пустое, вялые призывы без минимальной даже надежды, что их кто-нибудь услышит...
"Все России верны, всем взаимности нет от нее",- как высказался однажды поэт Юрий Ряшенцев, написавший, оказывается, не только "Пора, пора, порадуемся" - этот радостный французский шлягер для захламленной русской территории, но и вот эту приведенную выше строку. Он еще там же написал: "
Всем вам счастья, друзья, ну а с горем - не будет проблем". Нина хлебнула горя предостаточно. Начиная с детдомовского детства, жизнь не переставала ее колотить. И она научилась обороняться. Держать удар. Научилась быть сильной и временами даже вредной. Поэтому у нее репутация "сложного человека", своенравного. А вы попробуйте-ка быть простым человеком с легким характером, имея за плечами такую судьбу. Ведь надо было выжить и стать той Руслановой, которую знают как одну из лучших актрис той самой любимой России, от которой нет взаимности. Поэтому так... Вот такой характер...
Конечно, Русланова - стихия, по сравнению с которой тайфун "Торнадо" легкий майский ветерок. Легенда о том, что она правой рукой может нокаутировать плотного мужика, тоже выросла на реальной почве. Да, был такой случай, причем с милиционером, который привычно хамски с ней разговаривал.
Все это есть, но ты одна, и надо растить дочь. И еще - свой талант. А таланты ведь у нас как растут? Да как сорняки: упрямо, дико и с колючками, вопреки всему. Не благодаря чему-то, а именно вопреки. Их выпалывают, с ними борются, а они все равно растут. Дикорастущие у нас таланты. Редко бывает, когда талант вырастает в тепличных условиях. У Нины не тот случай. Все - своим талантом и полагаясь исключительно только на саму себя, без "помощи"
папарацци и желтой прессы.
А ведь у нее не просто талант, у нее редчайшая его разновидность талант интуитивный. Если она и не знает, как играть, то догадывается. У нее редкое чутье на правильную форму, на юмор, на возможное проявление любви. "А откуда любовь-то в этих обстоятельствах?" - спросите вы.
А оттуда, что ей вовсе не хочется быть сильной, она вовсе не "битая тетка", как может показаться, а женщина, которой хочется быть слабой и нежной, но жизнь не дает ей шанса быть такой. Я помню, я знаю, я видел, какой неожиданно мягкой, женственной и красивой может быть Нина Русланова. Вы только перестаньте выпалывать ее, как сорняк, окружите ее нежностью, растопите в любви, и тогда!.. вы увидите...
Мы пришли к ней домой. Она, хоть и знала о встрече и съемке, все равно поначалу держалась напряженно и настороженно, готовая к отпору в любой момент. Но постепенно оттаяла, почувствовала, что никто ее не обидит сегодня, и вот мы сидим, выпиваем, балагурим и на камеру уже не обращаем никакого внимания; а если что-то не то проскочит - вырежут при монтаже.
Я беру гитару и пою ей песню с надеждой еще поднять наше, ее настроение, песню, в которой есть что-то очень важное и про нас:
Когда-то в юные года
Нам ворон каркнул: "Никогда!",
Но не случилось ни черта
Того, что он накаркал.
И есть на свете чудеса,
И есть на свете паруса,
И море есть, которое не значится на картах!
Да-да, то самое, которое озеро Чад с Кайдановским, которое было в нашей жизни и которое всегда есть у нас, что бы ни случилось. Как мечта... Или нет - высокая уверенность в том, что мы все-таки верно живем и себе не изменяем...
Мой друг, какая благодать - жить, восхищаться, рифмовать.
Не покупать, не продавать, давай содвинем рюмки.
Четыре сбоку, ваших нет, нам вместе скоро триста лет, Но в душах тот же вольный свет, мы нынче - снова юнги, - пою я, и лицо Нины светлеет, и мы сдвигаем рюмки, и Саша вытирает с усов "
непрошеную слезу".
Съемка закончена. Мы выходим на улицу, идем по переулку Вахтангова, мимо нашего училища, путем нашего театрального детства, к Арбату. Хохочем, валяем дурака... Саша в Нининой шапке, которую она на него в шутку нахлобучила, я в расстегнутой куртке и Нина - в розовом пальто за пятьсот рублей...
Суровый наш худрук Вера Константиновна Львова внушала страх всем студентам.
Когда она дребезжащим старушечьим сопрано кричала на кого-нибудь из нас, у жертвы ее гнева кровь не стыла в жилах, она просто сворачивалась. Но это была лишь форма поддержания дисциплины, по-другому с этими отпетыми студентами, наверное, и нельзя было. На самом-то деле Львова была добрейшим существом, она всем студентам одалживала деньги и часто забывала о долге, удивлялась, когда возвращали. Но больше всех она любила Нину, она чувствовала, что из девочки будет толк, а перед всяким талантом Вера Константиновна втайне преклонялась. Втайне потому, что нельзя было этого показывать опять-таки из воспитательных соображений.
Пожалуй, педагогика была основным даром Веры Константиновны, актерское ремесло или тем более режиссура - не самые сильные ее стороны. Спектакли ставили в основном другие. Вот, например, Этуш, чей актерский талант вызывал у нас безусловное уважение и доверие. К тому же тогда прошел по экранам фильм всех времен и народов "Кавказская пленница", в котором Владимир Абрамович блеснул исполнением роли человека, как сейчас принято говорить, кавказской национальности. И все студенты - уральской, каспийской, средневалдайской и балтийской национальностей - были очарованы экранным юмором Этуша. Эта роль потом навечно прилипла к Владимиру Абрамовичу, как и сказанное с акцентом: "Красавица, комсомолка, спортсменка" - к Наташе Варлей.
Когда мы с Ниной вышли из ее дома на улицу, то прямо на пороге Щукинского училища встретили Владимира Абрамовича. Стали вспоминать поставленный им дипломный спектакль "На дне". Жаль, что уже камеры не было и наша - действительно неожиданная, а не заложенная в сценарий - встреча не была снята.
В "На дне" были заняты почти все, кто уже побывал на страницах этой книги, ну, кроме Задорнова, разумеется, по объективным причинам, и еще Дыховичного, который в ночлежке Хитрова рынка смотрелся бы так же, как Людвиг ван Бетховен на дискотеке или, допустим, белый смокинг - на отдыхающем в подъезде бомже. Иван в ночлежке на нарах было бы почти то же самое, что Сережа - в Израиле (о Сереже вы уже читали в главе "Однокурсники").
Сережа в спектакле исполнял роль Васьки Пепла. Стихийное, удалое русское буйство воплощал Сережа в этом образе: то есть все то, что в Израиле совершенно не нужно. Саша Кайдановский был Сатиным, Леня Филатов Актером (лучшая, кстати, его роль в дипломных спектаклях), а Нина Русланова очень здорово сыграла Настю, подругу Барона. Барона изображал я, беззастенчиво и беспомощно копируя все то, что по описаниям современников делал в этой роли Качалов. Все - вплоть до картавости и внешнего вида. Между Качаловым и Качаном была столь же широкая пропасть, как и между фамилиями. То был Ка-ча-лов, а тут как бы усеченный Качалов - просто Качан, усеченная бледная копия. Не горжусь я той своей ролью, нет, не горжусь...
Сережа Вараксин играл небольшую роль Алешки, а Лукой был Стасик Холмогоров, с которым вы еще не знакомы. Имя Стасик ему очень шло, его иначе никто и не называл. Белокожий, полноватый, улыбчивый и весь такой кудрявый-кудрявый Стасик. Его кудри были "цвета беж", как написал Филатов в песне "
Оранжевый кот", но Филатов там - про апельсины, а я - про Стасика. Его белая-пребелая кожа имела одно свойство: если Стасика что-нибудь смущало, она рдела, и (даже не извиняюсь за штамп) нежный девичий румянец разгорался на его щеках. Стасик был награжден природой еще и светло-рыжими, в цвет волос, ресницами. Словом, Стасик - и все тут... И если бы определение "
кровь с молоком" не было так противно по содержанию (сами посудите кровь с молоком. Вдумайтесь только! Какой-то жуткий напиток для новорожденного упыря), то в общепринятом смысле оно бы Стасику очень подошло.
Когда мы через много лет встретились на Пушкинской площади, он был все тот же Стасик, точно такой же, только располнел побольше да кудрей чуть поменьше, но, когда он протянул мне свою визитку, я прочел: "Стас Холмогоров. Артист". Вот так вот! Сейчас я вас порадую игрой слов: став Стасом, Стасик статус сменил. Видно, нехорошо ему было в той стране, куда он собрался, оставаться Стасиком. И даже простое слово "артист" в его визитке выглядело как звание.
Стасик учился хорошо, играл на гитаре, пел некоторые наши с Леней песни, потом работал с Леней же в Театре на Таганке, ничего большого и значительного там не играл, а вскоре после нашей случайной встречи уехал далеко-далеко, в Канаду. Говорят, у них там есть даже какой-то русский театр, в котором Стасик, пардон, Стас и работает. Сережа теперь тоже туда собрался, видно, иврит дался ему не так легко, как хотелось бы.
Место нашей последней встречи - Пушкинская площадь - будто специально выбрано для того, чтобы я, после того как Стасик ушел, остался там, посмотрел на памятник и вспомнил то,что из нас делал...
Пушкин
...хотя, полагаю, формирование вкусов и личностей студентов театрального училища им. Щукина в планы поэта не входило. Но надежда на это у него явно была. Иначе не написал бы: "И назовет меня всяк сущий в ней язык",- что и высечено на пьедестале рядом с фамилией, без которой тут запросто можно было бы и обойтись. Точно так же возле каменного изваяния лошади можно не писать "лошадь". И так ясно, что не заяц.
Ведь стоит же в Швейцарии памятник человеку в котелке и с тросточкой, на котором высечено: "От благодарного человечества",- и всем ясно, что это Чаплин. Но у нас, видно, не всем.
И вот гляжу я на Пушкина, зеленого, с голубем на голове, и повторяю про себя его слова, в который раз удивляясь их "современности":
О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек, Над ним ругается слепой и бурный век.
Но чей высокий лик в грядущем поколенье Поэта приведет в восторг и умиленье?
Так ведь это поэта приведет, Александр Сергеевич, Блока или там еще кого, а другие назовут вашу площадь "Пушкой" и будут на ней "забивать стрелки".
"О, люди, жалкий род..."
Ах, не плачьте, бывший мечтательный мальчик Вова, бывший романтичный юноша Володя и нынешний сентиментальный дядя с идеалами и гитарой наперевес! Не сетуйте! Поэта ведь "приведет в восторг и умиленье"? Ну вот и все!
Большего и не надо! Поэт-то - в широком смысле этого слова - тот, для кого поэзией окрашено все: он так смотрит на все и на всех, он так живет, так любит и верит, так чувствует и думает.
Чувство и ум, конечно, предметы неосязаемые, да и вообще не предметы, а уж если и предметы, то не первой необходимости, во всяком случае, сегодня.
Даже ум сегодня имеется в виду иной, по принципу известной американской поговорки: "Если ты такой умный, где твои деньги?" А мы-то имеем в виду ум Пушкина. Он же умный? Бесспорно! А где же тогда его деньги, если сто тысяч долга после смерти? Значит, что-то здесь не то... И в американской поговорке тоже что-то не так...
Но пока... пока... вьется над "Пушкой": "Ты уехал прочь на ночной электричке" и "Голубая луна", и певец из племени "сексуальных меньшинств", которые еще чуть-чуть - и станут большинством, поет на его двухсотлетии романс на его же стихи: "Я вас любил, любовь еще, быть может",- и заканчивает якобы случайной оговоркой, пленительной, однако, для всех педерастов: "как дай вам Бог любимым быть другим". Женолюб Пушкин, конечно, хотел бы его наказать, но стреляться с дамой!.. Ну разве что надавать по попке... Но и этого он не может, он стоит теперь на пьедестале недвижный, закованный в бронзу, зеленеет от злости своей патиной и смотрит сверху, свесив курчавую голову, на наш безумный мир, на наше совсем несказочное Лукоморье...
Что же до нас, то он для нас, студентов, был, как бы сейчас отметили в средствах массовой информации, культовой фигурой. Сказать, что мы после школы, которая в те годы прямо-таки убивала интерес к Пушкину, вновь его для себя открыли, что мы любили его, - это ничего не сказать. Вернее всего - мы ему поклонялись, а еще вернее - мы его очень уважали. Мы вообще-то мало кого уважали, но его - очень! Но и это - неполно. Главным скорее всего было то, что все мы поголовно в душе были поэтами, что нас приводили в восторг игра ума, точная метафора, тонкая передача настроения, талантливое выявление страсти. Хорошие стихи рождали ложное, но манящее предощущение, что вот-вот, еще немного - и поймешь ВСЕ; зябкий ветерок пробежит по жилам как предчувствие того, чему не суждено сбыться, как перед грозой, которая пройдет мимо. И хочется побыстрее самому сотворить что-то такое хорошее, значительное.
И вот все такие ощущения от поэзии, весь этот набор чувств, сконцентрировались для нас в сверхплотной звезде под названием "Пушкин".