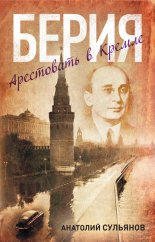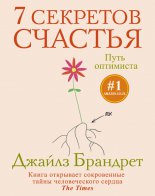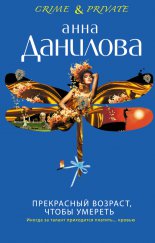Искусство существования (сборник) Пьецух Вячеслав
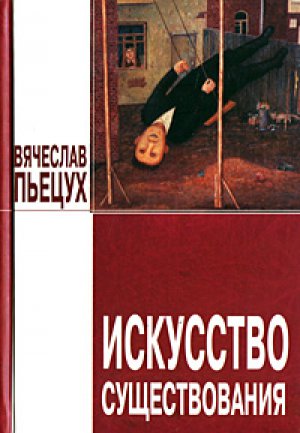
– Товарищ! – обратилась она ко мне. – Позвольте оправдаться!..
– Ну, оправдывайтесь, – сказал я.
– Главная причина, что я был скромного образования человек. А теперь представьте, что вас вызывают ответственные лица и говорят: «Алеуты, – говорят, – выдумали такую сверхпроводимость…» Кстати, вы в курсе, что такое сверхпроводимость?
– Ни сном ни духом.
– В том-то вся и вещь, что кругом у нас скромное образование! Ну, так вот: «Алеуты, – говорят, – выдумали такую сверхпроводимость, при помощи которой они могут запросто растопить вечные льды и устроить нам потоп вместо нашего реального-то социализма! Так вот нужно ударить по этим отъявленным алеутам, а то они нас утопят как котят и повернут вспять колесо истории…» Иначе говоря, поверил я этим разбойникам и разрисовал генетику в пух и прах. Вот и выходит, что я практически ни при чем, потому как не на биофак же мне было, в самом-то деле, предварительно поступать!
– Вы действительно ни при чем, – сказал я, чтобы умиротворить бедовую эту душу.
Душа угомонилась и задумчиво поплыла дальше воздушным своим путем. А я поворотился к Вергилию и продолжил:
– У вас здесь что, по-русски все разговаривают?
– Здесь по-русски, за границей по-своему, кто на чем.
– Во дают! – изумился я. – Значит, у вас есть и Россия, и заграница?..
– У нас все есть, но только в перелицованном виде, наоборот. Вон, видите, Брест в осаде!
И я вдруг явственно увидел далекий Брест, к западу от которого точно противоестественно солнце вставало – такая там толпилась масса антитеней.
– …Это все иностранцы, которые стремятся к нам на постоянное место жительства. И я отлично их понимаю. Ведь они после смерти, бедняги, всего лишились: ни «мерседесов» там у них, ни электроники, ни валюты, одна душа в почете, а где ты ее возьмешь!.. Ну и стремятся к нам, которые были люди, потому что у нас, конечно, занятнее, веселей. Вот ведь ирония судьбы: кто был пиковой шестеркой, тот стал козырным тузом.
– И принимаете? – спросил я.
– Выборочно, – пояснил Вергилий. – Если, например, американец способен ответить на вопрос, кто был первым президентом Соединенных Штатов, то мы еще посмотрим, а нет – освободите, пожалуйста, помещение.
– Однако строго…
– Нельзя иначе. Иначе нам самим будет не протолкнуться. Ведь сколько ежегодно народу-то помирает, и все норовят в Россию!..
– Погодите: вы ведь сами духовный, так сказать, эмигрант, вы ведь сами из древних римлян!
Вергилий сказал на это:
– Русский – это не национальность, а настроение.
Как раз на этом месте я как бы очнулся, как бы пришел в себя. За окошком было уже темно, голова трещала, кухня была пуста. Но зато в большой комнате разговаривал телевизор, – видимо, жена вернулась с работы и теперь набиралась сил, чтобы сделать мне нахлобучку. Через некоторое время она действительно появилась на кухне, увидела, что я бодрствую, и сказала:
– Так, а где два рубля с мелочью, позвольте поинтересоваться?
– Не брал я никаких двух рублей с мелочью, – сказал я. – Вообще этот вопрос не ко мне, а к пресловутому Розенпуду. Он вообще нас скоро по миру пустит: то мой итальянский галстук пропал, то две серебряные ложки, то вот теперь два рубля с мелочью, которые я прокутил лучше бы на такси! И целыми днями он скребется в стенном шкафу, скребется… ну чего он, спрашивается, скребется?!
– Пить надо меньше, – с укоризной посоветовала жена.
Пить надо меньше, никто не спорит.
1989
Я и дуэлянты
Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.
К. Бальмонт
Прежде чем перейти к делу, мне понадобится одно короткое отступление.
Я писатель. Правда, я писатель из тех, кого почему-то охотнее зовут литераторами, из тех, о ком никогда никто ничего не слышал, из тех, кого обыкновенно приглашают на вечера в районные библиотеки. Однако не могу не похвастаться, что и я немножко белая ворона среди пишущей братии, поскольку я работаю день и ночь, а кроме того, имею особое мнение насчет назначения прозы: я полагаю, что ее назначение заключается в том, чтобы толковать замечательные стихи. Подобное мнение ущемляет божественную репутацию моего промысла и мою собственную значимость как писателя, следовательно, я прав. А впрочем, один мой собрат по перу, некто Л., капризный и много о себе понимающий старичок, утверждает, что книги умнее своих сочинителей. Если это так, то я лишаю поэтов всех привилегий и не претендую на особенности моего литературного дарования, которое определило меня на второстепенные роли. И вот еще что: литературное реноме Николая Васильевича Гоголя вовсе не пострадало из-за того, что Пушкин науськал его написать «Мертвые души».
Разумеется, я вполне сознаю ценность своего творчества относительно литературного наследия Гоголя, почему и позволяю себе, как правило, трактовать поэтические недосказанности сошки помельче. В данном случае мое воображение задели два стиха Константина Дмитриевича Бальмонта, приведенные выше в качестве увертюры. С другой стороны, меня вдохновила одна неслыханная история, к которой я имел отношение и как свидетель, и как в некотором роде действующее лицо. История эта до того в самом деле дика и невероятна, что диву даешься, как такое могло случиться в наш деликатный век, в нашем добродушном, не помнящем зла народе, в каких-нибудь наших северо-западных Отрадных среди детского писка и развевающегося белья. Во всяком случае, для того чтобы дать теперь этой истории ход, я вынужден выворачивать наизнанку свое литературное рубище, и если этого покажется мало, то даже присягнуть на здоровье своего двенадцатилетнего сына, лгуна, балбеса и двоечника, что все, о чем пойдет речь в дальнейшем, правда и только правда.
Завязкой этой истории послужило изобретение инженером Завзятовым какого-то особенного пневматического молотка. Я знаю Завзятова понаслышке и никогда не видел его в глаза, но полагаю, что его последующие поступки обязывают меня изобразить Завзятова человеком лет тридцати пяти с неаккуратной прической, отсутствующим взглядом, непоседливыми руками, в брюках по щиколотку, в пиджаке с загнувшимися вперед лацканами и секущимися рукавами.
Насколько мне известно, вплоть до изобретения пресловутого пневматического молотка знакомые Завзятова были о нем самого ничтожного мнения, хотя одна женщина загодя говорила, что в нем есть что-то потустороннее, демоническое; с этой женщиной он потом жил.
Другой герой моего рассказа – молодой человек по фамилии Букин, ответственный секретарь одного технического журнала, почему я с ним, собственно, и знаком: когда-то, в незапамятные времена, я сам работал в этом журнале чем-то вроде мальчика на посылках. Вообще, Букин производит располагающее впечатление, разве что в нем смущает редкая в наше время и, по моему мнению, предосудительная страсть к игре на бегах и дымчатые очки, которые придают ему надменное выражение.
Кроме этих двоих в описываемой истории были замешаны женщина, редакция одной столичной газеты и кандидат юридических наук, специалист по римскому праву, некто Язвицкий.
Дело было так. В прошлом году, в сентябре, Завзятов подал заявку на авторские права. Одновременно он из тщеславных соображений принес в редакцию журнала, где служил Букин, статью собственного сочинения, в которой расписывал достоинства молотка. Отдел, куда попала статья, переадресовал рукопись Букину, а тот нашел, что все это в высшей степени чепуха. Букин еще не успел положить рукопись в «гибельный» ящик письменного стола, как Завзятов явился в редакцию за ответом. Его объяснение с Букиным, продолжавшееся вплоть до обеденного перерыва, относится к той категории разговоров, при воспоминании о которых внутри образуется нервное неустройство. Они разошлись врагами, воспылав (я этот глагол потом заменю) такой ненавистью друг к другу, что некоторое время просыпались и засыпали с одной только думой: как бы неприятелю отомстить. Вспоминая про Букина, Завзятов называл его титулярным советником, сволочью и тупицей, а Букин, вспоминая Завзятова, находил успокоение исключительно в том, что, вероятно, имеет дело с помешанным, каких на своей должности он видел немало; потом он даже наказал вахтеру, чтобы впредь Завзятова не пускать.
История эта, возможно, так и закончилась бы заурядным скандалом, если бы Букину не пришла в голову мысль и вправду отомстить изобретателю молотка за те оскорбительные намеки, которые тот по его поводу отпустил. В другой раз эта мысль вряд ли пришла бы ему в голову, так как Букин был человеком отходчивым и незлобным, но накануне его при всех ударила по лицу одна молодая женщина, которой он с год не давал проходу. Теперь он то и дело вспоминал про эту пощечину, и перед ним вставал ужасный вопрос: почему такое он терпит поношение от мерзавцев, почему не научится себя защищать – мужчина он или же размазня? Этим вопросом Букин со временем до того себя распалил, что решил написать в одну газету, где у него был приятель, тоже любитель бегов, язвительную статью под названием «Изобретатель велосипедов». Недели через две замысел был осуществлен, и статья увидела свет. А еще через неделю Завзятов подстерег Букина у подъезда, и между ними произошел следующий разговор:
– Это вы написали гаденький пасквиль о моем изобретении? – сказал Завзятов, бегая глазами и медленно вынимая из кармана правую кисть.
– Я, – сказал Букин и панически улыбнулся.
– Вы поступили неосмотрительно. Вы подумали, что скажут о вас потомки?
Букин смолчал, так как, по его мнению, потомки тут были решительно ни при чем. Завзятов же, не дождавшись ответа, неловко размахнулся и ударил Букина по лицу.
Теперь попробуйте представить себя на месте человека, который в течение месяца получил две пощечины, и если вы не лишены некоторого воображения, вам откроется самая мучительная комбинация чувств. Букину было и стыдно себя, и жалко себя, и ежеминутно изводило желание как-нибудь неслыханно отомстить. Но пока он выдумывал, как бы это ловчее сделать, Завзятов опередил его и в том, что касается усугубления ненависти, и в том, что касается жажды мести, – возможно, он действительно был не совсем здоров.
В одно прекрасное утро Букин получает письмо. «Милостливый государь (именно «милостливый», а не милостивый)! – пишет ему Завзятов. – Если вы думаете, что мы окончательно расквитались, то вы ошибаетесь. Я оскорблен вашей грязной статейкой не на жизнь, а на смерть. Подлость, которую вы совершили против отечественной науки и техники, смоется только кровью. Я вызываю вас на дуэль. Если вы не баба и не тряпка, то соглашайтесь. Я пришлю за ответом своего секунданта. Завзятов».
– Прекрасно! – воскликнул Букин, прочитав письмецо, и нехорошо засмеялся. – Дуэль? Прекрасно! Пусть будет дуэль! – От ненависти к Завзятову и перспективы крови у него что-то задергалось в голове.
Два дня спустя к Букину на квартиру явился завзятовский секундант, та самая женщина, которая загодя угадала в Завзятове что-то потустороннее, демоническое; фамилия ее была Сидорова. Не переступая порога, эта женщина потребовала ответа на завзятовский вызов и тут же оговорилась, что в случае отказа от дуэли она просто его убьет. Оговорившись, Сидорова испытательно смотрела ему в глаза. В этом взгляде сквозила такая лютая сила, которая даже не может быть свойственна женщине, и Букин оторопел. Он ответил, что принимает вызов, но от смятения говорил как-то робко, и Сидорова, уходя, презрительно улыбнулась. После этого он и Сидорову стал ненавидеть.
Несколько дней Букин прожил в полуобморочном состоянии. С одной стороны, он по-прежнему терзался ненавистью и в душе торопил развязку, но, с другой стороны, ему было досадно, что он из-за пустяков попал в переплет, который принял уж слишком зловещее, несовременное продолжение; вообще, у него было такое чувство, точно вдруг незаметно сломалось время, и мир повернулся назад, к сожжению ведьм, избиению младенцев, антропофагии. Эта сторона дела очень смущала Букина, и он даже подумывал, не отказаться ли от дуэли, сославшись на то, что его враг клинический идиот. К сожалению, от дуэли он так и не отказался; более того: он неожиданно постиг спасительный смысл той этической категории, которая прежде обозначалась выразительным словом «честь».
Поединок было решено обставить традиционно. Завзятов два дня просидел в Исторической библиотеке и выписал из Дурасовского кодекса все, что касается правил и церемониала. После этого Букин дважды встречался с Сидоровой; на первом свидании, назначенном возле пригородных касс Ярославского вокзала, решался вопрос, как драться, то есть насмерть или до первой крови, – решили, до первой крови; на другом свидании выбирали оружие. Это оказался сложный вопрос: пистолеты взять было негде, поножовщина претила обоим, фехтовать не умел ни тот, ни другой. Наконец, в качестве дуэльного инструмента выбрали спортивные луки. На луках остановились, во-первых, потому, что у Сидоровой были знакомые лучники из общества «Локомотив», а во-вторых, потому, что, по справкам, на церемониальной дистанции из спортивного лука нельзя было нанести смертельную рану. Правда, оставалась опасность попадания в голову, но к этой опасности дуэлянты отнеслись легкомысленно, рассудив, что, в конце концов, это все-таки дуэль, а не пьяная потасовка.
Когда все детали поединка были оговорены, Букин стал искать секунданта. Не знаю, что его дернуло, но он явился ко мне. Я выслушал его, не веря своим ушам, несколько раз справился, не дурачит ли он меня, и в конце концов послал к черту. Букин сказал, что он пошутил, мы посмеялись и выпили по маленькой коньяку, который я прячу от жены в солдатской фляге на антресолях.
К тому времени я уже был серьезно озадачен теми двумя бальмонтовскими стихами, которые предваряют эту историю. Из них вылуплялся какой-то рассказ. Душа его уже проклюнулась, но телесности не было никакой, и я ухватился за букинский анекдот, в котором мне почудилась соответствующая телесность. Я уже было засел писать, но дело, как я ни силился, не пошло. Сомневаюсь, чтобы мне удался даже плохой рассказ, скорее, я бы вообще никакого не написал, уж больно тяжеловесной оказывалась телесность, но тут ко мне опять заявился Букин. Он был чуть ли не в лихорадке. Я спросил его, что стряслось, и он признался, что давеча не соврал, что дуэль действительно намечается, а пока стороны решают следующую проблему: если дело закончится серьезным ранением одного из соперников, то каким образом избавить другого минимум от сумы, максимум от тюрьмы? Эта проблема оказалась настолько сложной, что враги решили было обратиться в юридическую консультацию. Впрочем, они вовремя опомнились, и все кончилось тем, что Сидорова, у которой вообще оказалась масса полезных знакомств, свела дуэлянтов с юристом Язвицким.
Язвицкий принял их у себя на даче. Во время разговора он держался заносчиво, но совет дал дельный. Он посоветовал, запасясь четвертинкой водки, в случае рокового исхода опоить пострадавшего и затем безбоязненно доставить его в ближайшую поликлинику; там следовало объяснить ранение несчастной случайностью, например: выпил лишнего, пошел прогуляться, споткнулся, напоролся на сук. В заключение Язвицкий выкинул неожиданный фортель: он предложил свои услуги в качестве букинского секунданта.
Стреляться договорились в Сокольниках. Чуть в стороне от Оленьих прудов, по словам Сидоровой, было одно укромное место. Дуэль назначили на субботу, 30 октября.
Несколько дней, остававшихся до этого рокового числа, соперники, надо полагать, провели в неотступных думах о смерти и вообще находились в том неприятно-тревожном состоянии духа, которое мнительные люди испытывают в ожидании врачебного приговора. В последнюю ночь Завзятов, наверное, до рассвета ходил из угла в угол, ерошил волосы и поминутно проверял, не дрожат ли руки. А Букин, может быть, решил напоследок полистать дорогие книги и нечаянно задремал.
Утром 30 октября участники дуэли встретились на трамвайной остановке «Мазутный проезд». Пока шли до места, все тяжело молчали, и только Язвицкий ни к селу ни к городу начал рассказ о том, что в этих местах когда-то купался Пушкин; впрочем, через минуту он опомнился и замолк.
Уже вторую неделю как выпал снег. Он стал было таять, но неожиданно ударили холода, и зазимок лег искрящейся стеклянною коркой, которая весело похрустывала под ногами. Еще во многих местах на деревьях зеленела листва, и снег, который кое-где прилепился к кронам, производил неприятное впечатление.
Шли минут двадцать. Букин заметно побаивался, но Завзятову, тащившему бутылку водки и луки, завернутые в газету, опасность была, кажется, нипочем. Более того: он с таким зловещим спокойствием озирался по сторонам, что казалось, он сейчас непременно выкинет что-нибудь безобразное.
Поляна, о которой рассказывала Сидорова, на самом деле оказалась местом уединенным. Вокруг недвижно стояли сосны, о которых Букин подумал, что в них есть что-то вечное, самодовлеющее, как в жизни вообще относительно смерти в частности.
Придя на место, все, кроме Язвицкого, закурили. Язвицкий тем временем с судейской аккуратностью осмотрел луки и четыре стрелы, наконечники которых он самолично наточил до содрогающей остроты. Потом он отмерил двадцать пять метров между барьерами, расставил противников по местам и, немного помедлив, дал им сигнал сходиться.
Стрелялись одиннадцать раз, так как ни Завзятов, ни Букин никогда прежде лука в руках не держали и никак не могли попасть. На одиннадцатый раз стрела, выпущенная Букиным, угодила Завзятову в глаз, то есть случилось худшее из того, что только могло случиться. Впрочем, стрела застряла в глазном яблоке и внутрь черепа не проникла. Завзятов даже не потерял сознания, хотя из-под стрелы на снег, перемешанный с зелеными и желтыми листьями, хлынул неправдоподобно бурный фонтанчик крови. Стрелу извлекли, и Сидорова стала лить прямо на то место, где у Завзятова только-только был глаз, перекись водорода; на ране зашипела очень большая, пузырящаяся, розовая гвоздика, и кровь постепенно остановилась. После этого Завзятов минут десять не мог отдышаться, а когда отдышался, то первым делом попросил водки. Ему налили два стакана подряд; третий налили Букину, с которым случилась истерика.
Однако то, что случилось на самом деле, было до такой степени отвратительным и ужасным, что написать об этом в рассказе было положительно невозможно. Кроме того, действительность противоречила бальмонтовской идее, и я придумал другой конец.
Придя на место, дуэлянтам показалось холодно стреляться, и Букин от страха предложил понемногу выпить. Предложение было принято. Выпили по одной – показалось мало, выпили по другой – показалось мало, потом, конечно, послали Сидорову в магазин за добавком, короче говоря, как водится, напились. После этого стали выяснять отношения. Во-первых, сошлись на том, что затея с дуэлью, конечно, глупость, во-вторых, стали прикидывать, как это они дошли до такого умопомрачения, и, наконец, каждый из присутствующих высказал собственный взгляд на вещи. Посредством этих оправдательных монологов я и наметил дать прозаическое толкование бальмонтовских строчек насчет того, что мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить.
Итак, дело у меня венчалось нетрезвым, но поучительным разговором. Сидорова пускай говорит, что, по ее мнению, человечество существует главным образом для того, чтобы тиранить самых совершенных представителей своего вида, то есть гениев. Пускай она укажет на пример Циолковского или Торквато Тассо, чью суммарную полезность можно приравнять к суммарной полезности двух человеческих поколений, и при этом добавит, что это большое счастье – встретить на жизненном пути такого гения, как Завзятов, с которого прямо нужно сдувать пылинки.
Затем вступит Букин. Он будет говорить о том, что в конце концов все сделаются неврастениками, если не научатся себя самым решительным образом защищать. Букин будет горячо обличать людей, которые легко и много прощают и в лучшем случае способны ответить на оскорбление оскорблением, потому что это ведет к отмиранию личности. Что же касается гениев, скажет он, то гении они или нет, это еще вилами на воде писано. Когда дело дойдет до Язвицкого, он станет оправдывать свое умопомрачение тем, что теперешняя жизнь лишена остроты и однообразна, как гудение комаров; что временами непереносимо хочется чего-нибудь из ряда вон выходящего, уксуса с перцем, чтобы всего ознобом пробрало, иначе можно помутиться в рассудке, иначе можно подумать, что жизнь прожита впустую. Наконец, Завзятов объявит, что отечественная наука и техника – это святое дело и ради их торжества он готов стреляться хоть ежедневно.
В самом конце рассказа я приписал фразу насчет того, что все разошлись по домам довольные и хмельные, вздохнул и поставил точку. Затем я перечитал написанное и даже перепугался, до чего получилось умственно, хорошо.
– Ну, – закричал я жене, которая в это время делала что-то на кухне, – если это не самое сильное из того, что существует в теперешней литературе, то я вообще ничего не смыслю. Слышишь? Когда Л. прочитает этот рассказ, он покончит жизнь самоубийством. Он скажет, что со мною невозможно быть современником.
– Господи, – ответила из кухни жена, – когда все это кончится?..
Ну что ты будешь делать, скажи на милость!..
1989
Я и перестройка
Сейчас я расскажу, как рухнула перестройка. Точнее, пока еще не рухнула, но обязательно рухнет в результате допотопной формы семьи и брака, которая господствует при реальном социализме. Объективности ради нужно оговориться, что вообще история знает немало случаев, когда препоной великому свершению послужила сравнительно чепуха; взять хотя бы случай с императором Петром Федоровичем, который не осуществил своей преобразовательной миссии только по той причине, что несколько раз прилюдно отчитал супругу Екатерину за ее неистовый темперамент.
Весь прошлый год я работал над проектом радикальной экономической реформы, которая, по моим расчетам, должна была вывести страну на рубежи полного процветания и, что дороже всего, – в самый кратчайший срок. Эта работа несколько затянулась; я предполагал закончить ее к зиме и таки закончил ее к зиме, но только иного года, потому что после Октябрьских праздников я крепко закеросинил. Жена моя, Вера Степановна, кое-как смирилась с этим запоем, поскольку ежу, как говорится, было понятно, что я несу нечеловеческие нагрузки: работа на заводе, работа по дому, да еще каждый божий вечер я отправляюсь на кухню и сажусь за свой революционный проект, над которым корплю чуть ли не до утра. Вот только Вера Степановна по субботам и воскресеньям никуда меня не пускала, когда мне особенно требовалось расслабиться от моих сумасшедших будней; встанет, бывало, в дверях с молотком для отбивания мяса и говорит:
– Субботу и воскресенье – это отдай сюда!
Долго ли, коротко ли, – закончил я свой проект. В ночь с 3 на 4 декабря этого года я поставил последнюю точку, положил рукопись в папку с шелковыми тесемками, походил в обнимку с ней по квартире, вдоволь насмотрелся на себя в зеркало, какие они, значит, бывают, русские самородки, и спрятал папку на антресолях. Я с самого начала решил свою работу как бы замуровать, потому что отлично представлял себе самоизничтожительные последствия, попробуй я ее протолкнуть в верхах, чему «в истории мы тьму примеров слышим»: взять хотя бы пример с первым нашим воздухоплавателем Кузьмой Жемовым, которого неоднократно пороли за изобретение махолета, – но цивилизованные потомки обязаны были знать, что плодоносящий российский ум не дремал даже в самые паскудные времена. Однако по зрелому размышлению я все же решил сделать экстракт из своего проекта и послать его ребятам в Совет Министров, вернее, во мне тщеславие просто-напросто взяло верх.
Чудные дела твои, господи: я послал пакет в понедельник, а в субботу мне уже позвонили; приятный такой, моложавый голос поздравил меня с субботой и сообщил:
– Сейчас с вами будет говорить Николай Иваныч. Во мне мгновенно что-то вспыхнуло от радости, гордости и ощущения себя государственным человеком; должен сознаться, что если бы этим звонком завершилась судьба моего проекта, тщеславие мое было бы стопроцентно удовлетворено. Я, конечно, скорчил физиономию и замахал свободной рукой, давая жене сигнал, чтобы она подошла к параллельному аппарату и, таким образом, убедилась бы в том, что ее муж отнюдь не малахольный мечтатель, а прямой государственный человек.
– Здравствуйте, Александр Иваныч, – вдруг говорит Николай Иваныч, – как настроение, как дела?
Я отвечаю:
– По моим сведениям, все нормально.
– Что-то я о вас раньше ничего не слыхал, – продолжает речь Николай Иваныч. – Вы где работаете: в Академии наук или у Абалкина в институте?
– Я, – отвечаю, – так сказать, практик и непосредственно занят на производстве.
– А степень, звание – это как?
– С этим у меня просто: расточник пятого разряда – тут вам и звание, тут и степень.
– Ну что же, это тем более интересно. Так вот, дорогой Александр Иваныч, надо бы встретиться, серьезно поговорить. Ваши идеи нас крепко заинтересовали, но есть в вашей записке ряд, я бы сказал, темных мест, которые требуют авторской расшифровки. Так как вы насчет встретиться, серьезно поговорить?
– Я готов, – отвечаю я и делаю жене глазки: дескать, знай наших, дескать, пятнадцать лет ты со мной прожила, Вера Степановна, так и не сообразив, с кем ты их, собственно, прожила.
– Тогда, может быть, не станем откладывать это дело? – говорит Николай Иваныч. – Давайте сегодня и встретимся; мы, разумеется, машину за вами вышлем…
– Я готов, – отвечаю я.
После этого опять подключается приятный такой, моложавый голос и сообщает:
– Машина будет через пятнадцать минут, номер семнадцать – двадцать четыре.
Положив на место трубку, я весело поглядел на Веру Степановну и отправился одеваться. А Вера Степановна взяла молоток для отбивания мяса, встала в дверях и по обыкновению говорит:
– Субботу и воскресенье – это отдай сюда!
– Ну, ты вообще! – восклицаю я, тем временем влезая в новые чехословацкие башмаки. – Ты думай головой-то: кто меня вызывает, зачем и в какое место. Это же государственные дела! Сейчас и «чайка» за мной приедет… Не понимаю: причем здесь суббота и воскресенье?..
– А при том, – объясняет Вера Степановна, – что в позапрошлую субботу у тебя тоже были государственные дела, после которых ты явился в два часа ночи и на бровях! И то же самое машина за тобой приезжала, только не «чайка», а «скорая помощь», – или ты пьяным делом про то забыл?
Ну, как же я забыл, конечно же, не забыл: в позапрошлую субботу вдруг такая тоска на меня нашла, – это я с утра начитался газет про нашу хозяйственную разруху, – что грешным делом я позвонил одному приятелю, который трудится в «скорой помощи», и меня забрали по подозрению в сальмонеллезе, якобы напавшем на наш завод. Одним словом, нечего мне было возразить Вере Степановне, потому что тогда явился я действительно в два часа ночи и действительно на бровях.
1989
Чаепитие в Моссовете
В течение последних десяти лет я всю свою зарплату расходовал на такси. Я сорил деньгами не потому, что их у меня было уж очень много, а потому, что я не переношу нашего городского транспорта, а этот треклятый транспорт я, в свою очередь, не переношу вот по какой причине: меня раздражают рожи. Поскольку Россия и безобразия неразлучны, я готов был мириться с тем, что поутру, между семью и восемью часами, втиснуться в наш автобус совсем не просто, и с тем, что «водитель везет дрова», и с тем, что в разных концах автобуса вспыхивают то и дело гадкие перепалки, и даже с тем, что из-за толкотни я постоянно лишался пуговиц, но стоило мне поднять глаза и увидеть рожи – прочные такие рожи, константно кислые, точно мои попутчики не живут, а бесконечно мучаются желудком, – как со мною сразу делалась некая внутренняя истерика. Поэтому-то лет, наверное, десять кряду я всю свою зарплату расходовал на такси.
И вот столица нашей родины опустела: ни автобусов, ни такси, ни очередей в магазинах, ни толп на площади Трех вокзалов – одинокого прохожего, и то увидишь не каждый день.
Выхожу я как-то утром из дома в родимом Скатертном переулке, иду себе в сторону Никитских ворот и на Москву нарадоваться не могу – ну, пристойный город, не будь я, как говорится, Сергей Иванович Большаков! Такое впечатление, что улицам сделали дезинфекцию, и дома выглядят обновленно, и точно дремлют вдоль панелей автомобили, похожие на животных, которым пригрезился луг в цветах, и воздух чист как родственный поцелуй, и зелень буйствует повсеместно, а главное, – тишина. И еще интимное какое-то, транквилизирующее безлюдье: за тридцать минут прогулки я встретил на углу Тверского бульвара и Поварской одного-единственного прохожего, с которым мы раскланялись самым приветливым образом, хотя разделяло нас метров сто и были мы, разумеется, незнакомы.
В результате добрел я до Скобелевской площади и остановился напротив здания Моссовета. «Зайти, что ли, – думаю, – поболтать с председателем Моссовета, как говорится, о том о сем?» Так я скуки ради и поступил: зашел в подъезд, поднялся по мраморной лестнице на третий этаж, миновал приемную и вторгся к председателю непосредственно в кабинет.
Председатель сидел за столом и что-то писал, скривившись на правый бок.
– Мемуары сочиняете? – с игривостью в голосе спросил я.
– А-а! Сергей Иванович! – воскликнул радостно председатель и с протянутыми руками вышел из-за стола. – Сколько лет, сколько зим!
– То есть как это – сколько лет, сколько зим?.. – сказал я, немного оторопев. – Позавчера вроде виделись, говорили о том о сем…
– Гм! Действительно… – замешкался председатель. – Ну, садитесь, рассказывайте, какие новости, как дела.
– Да, собственно, нет никаких особенных новостей…
– Погодите, – перебил меня председатель. – А не выпить ли нам чайку?
В ответ на это предложение я кивнул, и председатель нажал на какую-то специальную кнопку.
– Так вот я и говорю: нет никаких особенных новостей. Хожу, любуюсь на нашу первопрестольную… Между прочим, кнопочку вы зря нажимали, все равно никто нам чаю не принесет.
– Тьфу! – сплюнул символически председатель. – Все никак не привыкну, что я один на весь Моссовет и есть.
С этими словами он протяжно вздохнул и сам стал готовить чай.
– Ну так вот, – принялся я за старое, когда чай уже был залит крутым кипятком, хорошенько настоялся и благоухал у меня под носом в старинной китайской чашке: – хожу, любуюсь на нашу первопрестольную. Это поразительно, до чего изменился город!.. Между прочим, где вы брали этот чудесный чай?
– Да напротив, угол Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Совершенно свободно лежит прекрасный английский чай.
– Так вот я и говорю: это поразительно, до чего изменился город! Тишина, спокойствие, достаток, чуткий, трудолюбивый народ – одним словом, цивилизация… Между прочим, Нина-то, ваша бывшая секретарша, что пишет из Мавритании?
– Пишет, что там больше не принимают. Желаете еще чашечку?
– С удовольствием! Ну так вот: цивилизация, одним словом. Я неделю тому назад авоську оставил у Елисеева, возле упаковочного стола. Вчера захожу, а она, родимая, дожидается меня возле упаковочного стола, только балычок, конечно, уже того… А все почему? Потому что благодаря мудрости некоторых руководителей… – тут я сделал многозначительную паузу, – в Москве теперь народ живет, а не население, разных национальностей, но – народ!.. Между прочим, я давеча статью написал в «Русское слово» о необходимости выхода СССР из Общего рынка. Помилуйте: они там все перецапались меж собой, в Испании бушует черносотенное движение, в Люксембурге процветает воровство на бензоколонках! – опасаюсь, как бы наши не переняли.
– Напрасные опасения, – хладнокровно сказал председатель. – Кому перенимать-то? Строго говоря, некому все это перенимать. Желаете еще чашечку?
– С удовольствием! Ну так вот: написал я статью и, знаете ли, доволен – хлестко вышло, основательно, глубоко. Между прочим, вы-то что давеча сочиняли, как я вошел? Неужто действительно мемуары?
– Молод я еще мемуары-то сочинять. Это я писал обращение в Верховный Совет по поводу отмены закона об эмиграции. Ведь к чему все идет: кончится тем, что мы с вами тут только и останемся куковать. Двое москвичей будет на всю Москву: председатель Моссовета и Сергей Иванович Большаков!..
– И очень хорошо! – весело сказал я.
1989
Переучет собственности (жалоба)
Я – землевладелец, можно сказать, тверской помещик, поскольку в двухстах километрах к северо-западу от Москвы, за Погорелым Городищем, у меня есть семь соток своей земли, кровной и неотъемлемой, как память о покойных родителях, где я помещаюсь с конца апреля по октябрь-месяц, пока не ударят настоящие холода.
Давным-давно я взял за моей второй женой пятнадцать соток угодий в одной серой деревушке на Верхней Волге, а несколько позже мы решили прикупить еще семь соток, примыкавших к нашей усадьбе, чтобы какой-нибудь черт не построился у нас под носом, хотя бы и на задах. Негоция, как выражался гоголевский Манилов, благополучно состоялась, земля была куплена на мои деньги, оставшиеся еще от прошлой жизни, записана за мной, и, таким образом, я сделался форменным землевладельцем, даром что из простых.
Я было размечтался построить на своей земле домик в английском духе, то есть беленый, с черными внешними балками и стрельчатыми окошками, чтобы обрести, наконец, собственную крышу над головой на случай семейной размолвки, стихийного бедствия или рецидива великого Октября. Не тут-то было: домик так и остался в блажных мечтах, потому что лень взяла верх, и последние деньги пропали за государством, и как-то все было не до того. Нынче у меня на семи сотках только и англомании, что газон, который я воспитываю, как воспитывают детей, а кроме того, имеется миниатюрная плантация картофеля, красуются стильная скамейка под XIX столетие и кусок настоящего леса, где по осени даже растут грибы. В лесу у меня водятся: орешник, ольха, осина, десятилетняя сосна и тридцать семь молодых берез. Разнотравье тут необыкновенное, поскольку собственно лес редок, и место отлично освещено; на двух примерно сотках произрастают: куриная слепота, лютик едкий, конский щавель, герань собачья, подмаренник, бутень, мятлик однолетний и мятлик же луговой, сныть обыкновенная, вейник тростниковидный, борщевик сиверский, костер безостый, свербига восточная, калган, чабрец, цикорий, донник, дягиль лекарственный, душица и чистотел; этот каталожец я на досуге составил из профессионального озорства.
А больше у меня ничего нет, писчая бумага и та краденая, московская квартира и дом в деревне записаны на жену. Впрочем, имеется кое-что малопригодное или вовсе непригодное к употреблению, например: гитара без струн, сломанное ружье, большое деревянное распятие, тонированное под орех, автомобиль «нива», который помаленьку осыпается, как листва в октябре, и заводится через раз.
И ведь мало того, что у человека имущества кот наплакал, его еще норовят дополнительно обидеть и обобрать. То за годовую работу заплатят так, что, на российский салтык, хватит только хорошенько выпить и похмелиться, то дорожная милиция ни за что накажет на кругленькую сумму, то зимой залезут в деревенский дом и унесут все, что лежит плохо и хорошо. В последний раз аккуратно отжали штапик, вынули оконное стекло и вынесли, как корова языком слизала: мешок гречки, комплект постельного белья, медный таз для варки варенья, подшивку «Нового мира» за 1975 год, электрический утюг, коробку шоколадных конфет, немецкую губную гармошку, новый ватник, две трехлитровые банки сахарного песку.
Между тем наши мужики из соседних деревень – народ сравнительно безвредный, даже добродушный, и от него этих злостных художеств не приходится ожидать, так что в другой раз диву даешься: за какие грехи мужики у нас мрут как мухи преимущественно молодыми, да еще драматично и невзначай. Один вдруг проснулся среди ночи, попил водички и упал замертво, точно в ведре была не колодезная влага, а синильная кислота. Другой по весне полез свою собаку спасать, которая угодила в полынью; собака ничего, а мужик провалился и утонул. Третий где-то раздобыл канистру технического спирта, заперся на засов и довольно долго увлекался этим напитком, пока не пришла беда; поскольку ему было недосуг таскаться на двор за дровами, он отапливался собственной избой – то половицу отправит в печку, то подоконник, то дверной косяк; дело, разумеется, кончилось пожаром, и этот мужик сгорел. К тому же пламя перекинулось на прошлогоднюю сухую траву, и вся деревня высыпала спасать свой населенный пункт, по преимуществу «женский плавсостав», как у нас выражается один отставной речник. Я в это время сидел у себя на чердаке, оборудованном под писательский кабинет, и был до такой степени поглощен инвентаризацией собственности, что с некоторым опозданием узнал о пожаре и тут же отправился на двор выяснять, чего именно я лишился на этот раз. Урон был невелик – немного обгорела поленница, пограничная елочка и забор.
Но не все бывают протори и убытки, время от времени случаются и приобретения, правда, в большинстве случаев какие-то двусмысленные, отдающие в анекдот. То мне подарят знаки верховной власти у пигмеев, почти игрушечные, именно кованое копьецо и деревянную булаву. То мы с женой заведем котенка, а он окажется неслух и бандит; пришлось дать ему кличку Чикаго, потому что дрянной котенок презирал законы общежития и ходил где ни попадя, воровал со стола колбасу, дрался, всегда нападая сзади, срывал с окон шторы, носился кругами как угорелый, но, впрочем, не отходил от приемных родителей, что называется, ни на шаг. Проказлив он до такой степени, что как-то потихоньку забрался в печку, стоило мне отвернуться на секунду в поисках газеты для растопки, и чуть не погиб в огне. Котенка потушили, но теперь у него не растут усы.
Стало быть, это еще бабушка надвое сказала: наш трехмесячный уголовник – действительно приращение собственности или угроза семейному очагу… Похоже, что сколько ни теряй, сколько ни приобретай, а все остаешься, как говорят картежники, «при своих». Налицо все те же семь соток суглинок, гитара без струн, сломанное ружье, большое деревянное распятие, тонированное под орех, автомобиль «нива», который заводится через раз. Может быть, в этом балансе заключается какая-то высшая правда, а может быть, это жизнь несправедливо равнодушна к беззаветному работнику и трудам праведным, как комете Галлея нет никакого дела до кризисов перепроизводства и упадка деторождаемости на острове Сахалин. Ведь шутка сказать: мужик тридцать шесть лет работал на родную литературу, целую полку книг написал, в Европе его знают четыре специалиста, а он в результате «гол как сокол» и ему в другой раз не на что выпить и закусить!..
Между тем любой человек, достигший известного возраста, даже из заурядных, если только у него в голове больше одной чайной ложки «серого вещества», со временем замучает себя вопросом: а что он такое на самом деле, и в чем заключается пафос его существования, и на какие такие высоты он взгромоздился, или, напротив, как глубоко он пал?
В том-то все и дело, что есть только один ответ на этот синтетический вопрос, который опять же выводится через синтетический вопрос: а что у тебя есть? что ты в итоге выслужил у своего народа? чего достиг? Вот тут-то и начинается переучет собственности, который может привести к истине адекватной инфаркту, а может не привести.
Действительно, в поисках окончательного вердикта легко бывает ошибиться, потому что у нас все не как у людей; например, Петров имеет ордена и медали, но на самом деле это еще ни о чем не говорит, поскольку ордена и медали у нас дают кому ни попадя, положим, Лидии Тимошук, которая инспирировала «дело врачей», или, положим, Лаврентию Берия, который, как известно, был Героем социалистического труда. Но если у тебя в гараже стоят три автомобиля ручной сборки, а дочка учится в Оксфорде, то ты точно не губернатор, а обыкновенный урка и сукин сын. Но если ты издаешь свои романы двухмиллионными тиражами, то ты наверняка прохиндей на ниве изящной словесности и потатчик дураку, потому что двух миллионов читателей просто не может быть. Однако же в том случае, когда у тебя один выходной костюм, дачка, похожая на курятник, под Можайском и сын работает дворником, то ты, конечно, олух царя небесного, но, с другой стороны, бескорыстный работник и порядочный человек.
У меня, правду сказать, больше одного костюма, да вот еще семь соток угодий Бог послал, а у родного русского народа я не выслужил ничего. Хотя «на заре перестройки», когда уже разрешили писать как угодно и о чем угодно, состоятельнее меня были только рубщики мяса с Центрального рынка и я без ста рублей в «пистолетном» кармане из дома не выходил. Но удивительное дело: как я прежде курил болгарскую «Шипку», так и курил, как нажимал на «микояновские» котлеты за рубль двадцать копеек десяток, так на них по-прежнему и нажимал, как ездил главным образом на метро, так и ездил главным образом на метро.
Из этого вытекает, что, видимо, труды праведные сами по себе, и само по себе вознаграждение за труды; что, может быть, беззаветного работника, состоящего на службе у огромной нации по департаменту благородного беспокойства (ибо литература есть прежде всего источник благородного беспокойства), нельзя сполна отблагодарить орденами, деньгами или недвижимостью по той простой причине, что не в коня корм, а можно расплатиться с ним свободой, покоем, неприкосновенностью, без которых не бывает цельного бытия. Тем более что писатель – такой профессии больше нет, а есть форма благотворительности, поскольку все-таки профессия – это то, что обеспечивает хлеб насущный, а ты безвозмездно думаешь за сто миллионов своих соотечественников и за здорово живешь занимаешься тем, чем, в сущности, и должен заниматься всякий порядочный работник, именно приращением красоты.
Положим, и деньги дают свободу, если их много, но какую-то ущербную, неубедительную, во всяком случае, делец не может производить высокоточные измерительные приборы, когда конъюнктура требует, чтобы он торговал солеными огурцами, и такая у него злая карма, что хоть тресни, а подай сюда соленые огурцы…
Об этом хорошо бывает подумать, обретаясь на своих кровных семи сотках, да в хороший майский день, да лежучи в гамаке. Яблони вокруг в пышном цвету, и если подует ветер, то как будто снег пошел, Чикаго неподалеку смешно играет с галками, слышно как на одном конце деревни противно брешет чья-то собака, на другом кто-то завел электрическую пилу, а ты покачиваешься в гамаке и думаешь…
«Итого: гитара без струн, сломанное ружье, большое деревянное распятие, тонированное под орех, автомобиль “нива”, который заводится через раз. А может быть, так и надо, и поделом, потому что писать нужно было лучше, зажигательней, чтобы читатель перелистнул последнюю страничку и зарыдал…»
2009
Мы и время
Ну так вот: сначала все будет плохо, а потом относительно хорошо, затем опять плохо, а после опять относительно хорошо.
Василиса и духи
Поздний февральский вечер. В избе смутно горит голая лампочка, тикают ходики, из-за дощатой перегородки доносится ритмическое бубнение, в том месте, где к печке прислонен веник, время от времени тонко попискивает сверчок – в остальном тишина. Но на дворе, что называется, Содом и Гоморра: оттепель, ветер, снег и такая непроглядная темень, что самым серьезным образом боязно за то, что уже никогда не настанет день. От этого в избе, натопленной до кисловатого привкуса в воздухе, кажется еще приютнее и теплей.
Бабка Василиса, немного тронутая, но в остальном крепенькая старуха в двух очках на носу, в белоснежном платке, в ситцевом платье, выгоревшем до неузнаваемости первоначальной расцветки, в ватнике с отрезанными рукавами, сидит за столом и вяжет носки из грубой собачьей шерсти. Примерно через каждые пятнадцать минут бабка Василиса приостанавливает какое-то автономное, одушевленное движение спиц, и при этом лицо ее расправляется, костенеет. Затем обе пары очков совершают замедленный взлет и упираются в стену, на которой висит небольшая застекленная рама, по-прежнему заменяющая в деревнях такую принадлежность семейной цивилизации, как фотографические альбомы. Фотографии в ней главным образом старинные, пожелтевшие, частью даже совершенно выгоревшие, как бабкино платье. Если не считать нескольких малоинтересных групповых портретов, на фотографиях запечатлены: старшая сестра Маша, решительно ни за что повешенная казаками атамана Григорьева, средний брат Паша, погибший во время конфликта на КВЖД, младший брат Саша, сгинувший в лагерях, сестра Энергия, зарезанная кулаками, муж Константин, умерший в плену и похороненный где-то в далекой-далекой Польше. Собственно, из ближайших родственников тут нет только дочери Зинаиды, так как ее фотографию два года тому назад уничтожил зять, и сына Илюши, которого нехорошо было фотографировать из-за того, что он был урод: на третьем часу его жизни Василиса немного примяла ему головку, имевшую неправильную, кочковатую форму, и своими руками сделала его идиотом; в четыре с половиной года Илюша умер, наевшись суперфосфата. Остальные все налицо: Маша, Паша, Саша, Энергия, Константин.
Постепенно бубнение за дощатой перегородкой становится все вразумительнее, слышней и в конце концов переходит в крик. Тогда в комнату, где сидит Василиса, вваливается ее соломенный зять, человек взбалмошный и пьющий, волоча за собой бабкиного внука Петра – обоих два года тому назад бросила дочь Зинаида, сбежавшая в Житомир с начфином танкового полка.
– Осиновую жердь об него обломать, и то мало! – говорит зять на такой лютой ноте, что бабка Василиса от робости выкатывает глаза. – Вторую неделю проходим Западную Европу, а он до сих пор не может показать Британские острова!..
Бабка Василиса тоже не знает, где находятся Британские острова, но из педагогических соображений укоризненно покачивает головой, и при этом обе пары ее очков медленно сползают на кончик носа.
– Садись здесь, козел! – говорит зять Петру, раскладывая на столе ученический атлас. – Позорься при бабке!
Петр усаживается за стол и под нервно-нетерпеливым присмотром зятя начинает елозить деревянным пальцем по карте, отыскивая пресловутые Британские острова. Бабка Василиса возвращается к вязанию, искоса поглядывая на внука, но ее думы все еще с ушедшими родственниками, которые стоят перед ее мысленным взором мучительно-явственно, как живые. Вот старшая сестра Маша, которую Василиса совсем не помнит, которую она знает только по фотографии, тонкая девушка с очень большими, задумчивыми глазами; какому святителю и зачем понадобилось, чтобы ее ни за что ни про что повесили казаки атамана Григорьева – это тайна. Вот любимый брат Паша, чуть ли не с самого рождения приставленный к ней в качестве няньки, ласковый, смешливый, заботливый человек; кой черт его дернул вмешаться в конфликт на КВЖД?! Вот брат Саша, задира и спорщик, которому все на свете было не по нутру, из-за чего он, надо полагать, и безвестно сгинул. Вот сестра Энергия, самочинно принявшая басурманское это имя, о которой можно сказать только то, что если бы не коллективизация, она была бы жива-здорова. А вот муж Константин, который целых полтора года бил ее смертным боем; больше подумать о нем было нечего, так как до войны они прожили вместе только полтора года. С одной стороны, рассуждает Василиса, это, конечно, благостно, что рок оставил ее в покое и дал дожить до седых волос – чего уж тут лицемерить, – но с другой стороны, боже милостивый, какое жуткое, истребительное, по-ветхозаветному лютое прошлое!.. Бабке Василисе даже хочется перекреститься от благоговейного страха перед этим злодейским прошлым, но при внуке нехорошо. И главное, какая загадка: она осталась, а они все ушли – Маша, Паша, Саша, Энергия, Константин.
Между тем Британские острова наконец найдены, и тогда зять решает подпустить Петру патриотического воспитания.
– Смотри сюда, – говорит он, держа его за ухо. – Я вот сейчас твою Англию ноготком прикрою, и нет ее. А на Советский Союз хоть животом ложись!..
Петр хмуро кивает.
– Так. А теперь давай ищи Швейцарскую конфедерацию.
Внук опять начинает елозить по карте пальцем, а зять смотрит на голую лампочку и моргает. Он моргает, моргает, потом глаза его цепенеют, и он засыпает прямо за столом, подложив под голову кулаки. Таким манером он проспит теперь до утра; вообще зять имеет странное обыкновение засыпать в самых неподходящих местах, включая отхожее место, загон для козы и скамеечку у ворот.
Воспользовавшись случаем, внук закрывает атлас, подпирает щеку чернильной ладонью и начинает смотреть в окно. За окном, на котором выступил мелкий пот, по-прежнему свирепствует ветер, мечется снег, и стоит какая-то библейская мгла. Внук довольно долго смотрит в окно, а потом говорит:
– Бабка, у тебя сколько мечт?
Этот вопрос застает Василису врасплох; она пытается выдумать хоть какую-нибудь мечту, но вместо этого ей припоминается, что приспело время ставить опару. Затем сами собой приходят думы о делах грядущего дня: утром надо успеть натаскать дров, истопить печь, выпечь хлеб, наварить картошки в мундирах и достать из погреба молока; потом – на первую дойку; после возвращения с фермы предстоит вымыть посуду, слазить в погреб обломать картофельные ростки, потом перебрать поллитровую банку гречневой крупы, подоить козу и задать ей корм, сходить к бригадиру напомнить, что этой весной он сулил прирезать к огороду четыре сотки, приготовить на обед пустых щей и гречневой каши с топленым молоком, встретить из школы внука, образить, накормить, выпустить погулять, занять у соседки три рубля до четырнадцатого числа, помыть посуду, процедить четвертную бутыль самогона, в которую третьего дня была засыпана пригоршня марганцовки; потом – на вторую дойку; по возвращении с фермы нужно будет истопить печь, подоить козу и задать ей корм, встретить зятя, образить, накормить, помыть посуду, сходить в магазин, купить баночку каких-нибудь рыбных консервов, вермишели, соды, концентрированного киселя и пачку папирос «Беломорканал»…
– А у меня, бабка, целых двенадцать мечт, – говорит внук. – Первая мечта: чтобы тебе вовремя пенсию приносили…
Внук начинает перечислять свои несбыточные мечты и загибает при этом пальцы, а бабка Василиса внимательно его слушает и, когда перечень приходит к концу, отправляет спать. После того как внук окончательно затихает за дощатой перегородкой, она возвращается к носкам из собачьей шерсти, которые приметно вытягиваются под тревожное сопение зятя. Но ближе к полуночи дело начинает идти уже не так споро: спицы нервно подрагивают, путаются и то и дело глухо стучат друг о друга. Видно, что Василиса несколько не в себе.
Когда ходики показывают без пяти минут полночь, она, как всегда, откладывает вязание, надевает какую-то немыслимую тужурку, подбитую мехом соседского кобеля Трезора, которого пять лет тому назад переехал автомобиль, сует ноги в валенки и идет на двор.
На дворе неожиданно тихо: порхает невесомый снежок, каплет с крыши, низко над горизонтом висит оранжевая луна. Бабка Василиса огибает крыльцо, минует две старые яблони и останавливается, сложив руки на животе. В дальнем конце огорода, там, где под снегом высится прошлогодняя картофельная ботва, чуть правее полуразвалившейся изгороди, стоят пять высоких смутных фигур, немного похожих на пугала, драпированные несвежими простынями. Лиц не видать, но чувствуется, что в них есть что-то недоумевающее. Слева направо стоят: Маша, Паша, Саша, Энергия, Константин.
1989
Глядя издалека
Дело было в небольшом городе Глазове, но не том, что в Удмуртии, а в том, что затесался существовать на полдороге между Саратовом и Уральском, – и было дело ажно в сорок восьмом году.
Мастер художественного свиста Сергей Корович приехал в Глазов с концертной бригадой, в которой еще числилось трио исполнительниц народных песен, жонглер, оперный бас из расстриженных дьяконов, фокусник, небольшой танцевальный ансамбль, чтец-декламатор и довольно известный по тому времени куплетист. Как у нас часто тогда бывало, в здешней гостинице «Мечта» на всех не хватило мест, и мастеру художественного свиста Сергею Коровичу, жонглеру и чтецу-декламатору пришлось поселяться на стороне. Все трое были еще совсем молодые люди, только во второй раз выезжали из Москвы с концертной бригадой, и старшие товарищи с легким сердцем оставили их без мест.
Пристроив у администратора свой фибровый чемодан в парусиновом чехле, Сергей Корович вышел на площадь перед гостиницей, походил окрест и вскоре наткнулся на немолодую женщину, которая сидела в маленьком сквере на скамейке напротив бюста Владимира Ильича. Он вежливо справился у незнакомки, где в этом городе приезжий мог бы остановиться, и услышал в ответ, что на худой конец остановиться можно и у нее. Сергей Корович несказанно обрадовался тому, что он так скоро обрел крышу над головой, хотя незнакомка могла предложить ему не отдельную комнату, а лишь «угол» и от центра города это было сравнительно далеко. Звали хозяйку Капитолина Ивановна Запорова, и, судя по всему, это была женщина положительная, энергичная, даром что подслеповатая и в годах.
Сергей Корович забрал у администратора гостиницы свой фибровый чемодан, сели они с Капитолиной Ивановной в трамвай единственного в городе маршрута «А», проехали четыре остановки и сошли на углу улицы Гоголя и проспекта 25-го Октября. Корович был природная московская штучка и по тогдашнему обыкновению смотрел на провинцию свысока, но то, что он увидел сквозь стекла трамвайного вагона, покуда они ехали четыре остановки городом Глазовом, даже вогнало его в смятение и тоску. Какая-то это была чужая страна – обустроенная наспех и спустя рукава, сплошь покрытая двухэтажными бараками, сараями, черными заборами, кренящимися в обе стороны, заколоченными палатками, непросыхающими лужами, кучами мусора неизвестного происхождения, облезлыми колокольнями со сбитыми крестами, неказистыми строениями из серого кирпича и одновременно малонаселенная людьми в черном, которых отличает неулыбчивость и преданные глаза.
Дом Капитолины Ивановны стоял как раз по улице Гоголя – это было двухэтажное бревенчатое строение с резными наличниками на окнах и чугунным крыльцом каслинского литья. Они вошли в парадное, пропахшее псиной, поднялись по каменной лестнице на второй этаж, повернули в квартиру налево, миновали большую прихожую, смежную с кухней, завешанную, видимо, только что выстиранным бельем, и наконец оказались в приютной комнате в три окна. У окон стоял прямоугольный дубовый стол, справа глянцево белела печка-голландка, рядом с ней виднелась узкая дверь, скорее всего в чулан, ближний левый угол занимала металлическая кровать, а дальний левый угол был отгорожен ситцевой занавеской, и за ней тоже угадывалась кровать. Это и был тот самый «угол», который Капитолина Ивановна Запорова сдавала постояльцам за сорок целковых в день.
Так как на четыре часа пополудни в райкоме партии был назначен прием в честь московских артистов, Сергей Корович переоделся за ситцевой занавеской в концертный костюм, причесался, слегка напудрился и пустился в обратный путь. Едучи в трамвае, он, как и давеча, пялился в забрызганное окошко, за которым разворачивался безрадостный, но отчасти фантастический пейзаж. Думалось о том, до чего же Советский Союз противоречивая и разнообразнейшая страна, словно он заключает в себе множество разных стран.
Без четверти четыре Сергей Корович уже стоял у подъезда райкома партии среди товарищей по концертной бригаде и благодушно повествовал о своем временном приюте на улице Гоголя чтецу-декламатору по фамилии Фабрикант. Он вообще был добрый, покладистый человек, и, если бы его поместили за сорок целковых в день в дровяном сарае, он бы и о дровяном сарае благодушно повествовал.
Без пяти минут четыре дежурный милиционер пригласительно распахнул двери, бригада церемониальным шагом поднялась на второй этаж по мраморной лестнице, убранной ковровой дорожкой цвета черной венозной крови, и очутилась в просторном зале с портретами по стенам и тяжелой лепниной по потолку. Столов с яствами и вином, однако, нигде не было видно, а сидело посредине зала, в три ряда, глазовское начальство, видимо предвкушая концерт для узкого круга лиц. И опять Сергею Коровину показалось, будто он попал в другую, неведомую страну, во всяком случае, никак не сочетались с покосившимися заборами эти свежие полувоенные френчи, сытые, добродушные физиономии, дорогие бурки белоснежного войлока и празднично-коричневой кожи, «политические зачесы» и благородные диагоналевые штаны.
Делать было нечего: трио исполнило саратовские страдания, жонглер умудрился явить свое искусство, использовав первые попавшиеся предметы, как-то: пустой графин, чугунную пепельницу и чернильницу-непроливашку, бас промычал партию Кончака из «Князя Игоря», танцевальный ансамбль, в чем был, сплясал зажигательную молдовеняску, Фабрикант прочитал рассказ Катаева «Ножи», куплетист пропел с десяток куплетов о международном положении, Сергей Корович просвистал модное польское танго «Мне все равно» и увертюру из оперетты Милютина «Девичий переполох».
Тем не менее банкет был; по окончании концерта артистов завели в уютное помещение с дубовыми панелями по стенам и усадили за столы, уставленные такими яствами и винами, которые могли показаться даже экзотическими в бедняцком сорок восьмом году. А всего-то и было на столах невозможного по тому времени, что румынское красное вино, заливная осетрина и языковая колбаса.
Первый секретарь райкома, чрезвычайно приятный человек в синем бостоновом костюме, произнес речь, содержание которой свелось к тому, что, дескать, только-только закончилась самая страшная война в истории человечества, полстраны лежит в руинах, во всем ощущается недостача, а советское искусство процветает назло внешнему и внутреннему врагу. Выпили, и Сергей Корович уже было осторожно налег на заливную осетрину, как секретарь велел озаботиться по второй. На этот раз он представил отцов города, присутствовавших на банкете, и предложил тост за советскую власть в центре и на местах. Среди присутствовавших, в частности, были: председатель райисполкома, главврач городской больницы, прокурор, директор вагоноремонтного завода и оперуполномоченный МГБ старший лейтенант Иосиф Иосифович Воронель. Это был симпатичный молодой человек с просвечивающими ушами, веселым хохолком на макушке и таким сосредоточенным выражением физиономии, точно ему был известен очень большой секрет. Корович сидел с ним бок о бок, и поэтому неудивительно, что после четвертой рюмки между ними наладился разговор.
– А что, – обратился он к Воронелю после четвертой рюмки, – много у вас работы? Городок вроде бы небольшой…
– Как вам сказать… – помедлив, отвечал ему Воронель. – Это, конечно, не Бухарест.
Сергей Корович не понял, что имел в виду его сосед, сославшись на Бухарест, но из осторожности переменил тему и заговорил об артистическом, о своем.
– Вот, казалось бы, художественный свист, – сказал он, – ну чепуха собачья, а между тем этот жанр требует ежедневных усердных занятий, как, положим, игра на скрипке или вокальный жанр. В другой раз, прежде чем выйти на эстраду, битый месяц репетируешь какую-нибудь песню Шуберта, которую, между прочим, вокалист одолеет за три часа!
– Между нами говоря, – сообщил ему Воронель, – служба в органах тоже требует постоянной работы над собой, чтобы в тебе крепла способность к анализу, наблюдательность, классовое чутье. Иначе дело плохо. Скажем, доставили тебе тетрадь, а в ней политически вредное философское сочинение, которое писало перо врага… Спрашивается: что ты разберешь в этой тетради, если тебе, например, неизвестно учение о монадах или ты не знаешь, кто такой Кьеркегор?!
Коровин сказал:
– Все-таки я удивляюсь на наш народ! Сидит он в лучшем случае на селедке и макаронах, живет по лачугам, каждой кошки боится, ходит по щиколотку в грязи – и вот возьми его за рубль двадцать: сядет и напишет какой-нибудь злой трактат!..
– Ну, во-первых, вы сгущаете краски, поскольку благосостояние советских людей изо дня в день растет…
– Это конечно, – поспешил согласиться Сергей Корович, – тут, разумеется, спору нет.
– Но с другой стороны, трудно с вами не согласиться. Вот опять же возьмем обстановку на религиозном фронте: вроде бы у нас давно победил воинствующий атеизм, попов прижали к ногтю, кресты с церквей посшибали, и вот поди ж ты – не далее как месяц тому назад открылась подпольная организация адвентистов седьмого дня!.. И ладно, если бы в нее входило старорежимное старичье, а то ведь из восьми членов организации шестеро – молодежь! Откуда, спрашивается, каким образом, если у нас юношество слыхом не слышало про Христа?!
– Вот я и говорю: просто диву даешься на наш народ!
– Про какой вы все время твердите народ?! – вдруг заговорил полушепотом Воронель. – Да никакого народа нет! Я вот вам по дружбе открываю такой секрет: никакого народа нет! Потому что народ – это монолит, это то, что объединено одной моралью, единой системой ценностей, но главное – идеей, пусть она будет хоть «Германия превыше всего», хоть семь дней в неделю сенной базар! А у нас существует союз племен, среди которых есть папуасы, слюнявая интеллигенция, ворье, сознательный пролетариат, руководящее звено, кристально чистые партийцы, классовые враги… Разве что лет через двадцать – тридцать, когда миллионы наших людей поймут, что коммунизм – неизбежное завтра всего человечества и мы, именно мы, ведем его на веревочке к этой цели, – вот тогда и будет у нас народ!
Сергей Корович сказал:
– Это вы точно подметили, что у нас кругом несоответствие и разброд. Рано, ох рано класть в ножны карающий меч великого Октября!
Но это он сказал так… на всякий случай, или потому, что нужно было что-то сказать в ответ на подозрительные откровения старшего лейтенанта, или просто сдуру, поскольку из-за непривычки к спиртному он уже мало владел мыслью и языком. Впрочем, в этой своей слабости он был не одинок: уже порядочно порастрепались «политические зачесы», порасстегнулись кители и отовсюду слышался бестолковый, сбивчивый разговор.
До своей улицы Гоголя он добирался пешком, потому что дожидаться трамвая ему показалось лень. Ночь стояла непроглядная, подморозило, и время от времени под невидимыми ногами ледок похрустывал, как стекло. Тишина была какая-то не городская, и, если бы не мрачный, багрово-плюшевый свет из окон, можно было подумать, что он идет полем, или лесом, или вдоль железнодорожного полотна. И вдруг такое его одолело чувство одиночества, что хоть плачь.
Но вот и улица Гоголя, двухэтажный бревенчатый дом с нелепым чугунным крыльцом, вонючее парадное, лестница и дверь, обитая клетчатой клеенкой, которая обещала успокоение и приют. Если бы Сергей Корович не был выпивши, то она, наверное, произвела бы на него неотчетливо враждебное впечатление, но теперь дверь, обитая клетчатой клеенкой, определенно обещала успокоение и приют.
Капитолина Ивановна Запорова ждала его, сидя за столом, над которым приятно светился овальный оранжевый абажур. Перед ней стоял чугунок с картошкой в мундирах, полбутылки самогона, и горбушка ржаного хлеба была не по-российски тонко порезана на доске. Сергей Коровин отказался и пить и есть, несколько заплетающимся языком пожелал старухе спокойной ночи и отправился почивать.
Посреди ночи он проснулся. Он проснулся так основательно, точно уже наступило утро, и с удивлением призадумался – а чего это он проснулся в такую рань. В следующую минуту до него донеслось невнятное бубнение, которое кто-то производил то ли за стеной, то ли за дверью чуланчика рядом с голландской печью, и он понял, что разбудили его именно невнятные голоса. Мало-помалу он стал разбирать приглушенный, но уже сравнительно отчетливый разговор. Один голос говорил:
– А чего такого я сказал? Ничего такого я практически не сказал! Подумаешь, обозвал Сталина людоедом, так ведь он людоед и есть!
Другой:
– Товарищ Сталин – выдающийся организатор и стратег нашего времени, гений, можно сказать, а ты бродяга и обормот!
– Сам ты обормот! А кто проворонил в июне сорок первого года германское вторжение? Кто позволил немцам дойти до самой Москвы? Кто вредительски сосредоточил наши основные силы на центральном направлении в сорок втором году, когда коню было понятно, что вермахт ударит с юга? Не гений, а сукин сын!
– Я тебя в последний раз предупреждаю – отвечай за свои слова!
– Но это еще куда ни шло. А как он, обрати внимание, воевал? А вот как он воевал: выставит десять советских дивизий против одной немецкой и дожидается, пока фрицы не устанут, или у них патроны не кончатся, или пока они не усвоят бесперспективность такой борьбы… Ну кто он после этого, если не людоед?
– Ты у меня сейчас точно получишь в глаз!
– А ты хоть знаешь, сколько немцев подо Ржевом держали фронт? Две дивизии. А с нашей стороны там двести тысяч солдатиков полегло!..