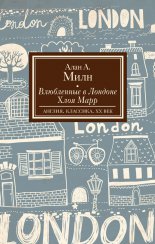Берия. Арестовать в Кремле Сульянов Анатолий
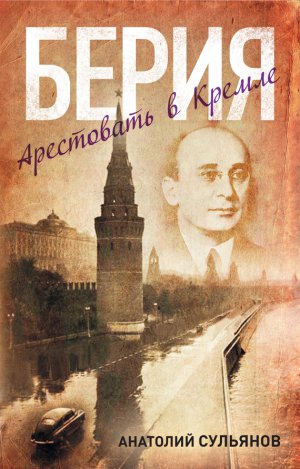
Работы по ЮЗУ — так назвали новую машину Туполева — шли днем и ночью, без перерывов, и даже в воскресные дни зэки трудились с полной отдачей.
Весной сорок первого года, за три месяца до начала войны, ЮЗУ с моторами АШ-82, дополнительной огневой точкой, баками большей емкости, бомбами внешней подвески выполнила первый полет. Нюхтиков и Акопян снова хвалили машину, не преминув заметить, что максимальная скорость снизилась после доработок на 50 километров: сказались утяжеление машины, большой «лоб» моторов АШ-82, доработки фюзеляжа. Испытания шли интенсивно, но… с опытного аэродрома неожиданно пришла страшная весть — ЮЗУ разбилась! Нелепо погиб штурман Акопян: при покидании кабины он зацепился лямкой парашюта за одну из деталей фонаря и упал вместе с самолетом на землю.
Прошло несколько дней, и упала «сотка» Петлякова. Горящий самолет при падении врезался в группу гуляющих детей… Обожженный и раненый экипаж «сотки» тут же был арестован и отправлен под охраной в больницу НКВД. В недрах НКВД рождается версия о преднамеренных ошибках ЦКБ, злом умысле и даже диверсиях.
Начались допросы, усилилась слежка. Старик, заложив руки за спину, молча ходил вдоль окон, беспокойно поглядывая то на зэков, то на входные двери — ждал вызова на допрос. Люди сникли — желанное освобождение снова отодвигалось на неопределенный срок, более того — могут последовать карающие удары, а это было в недавнем прошлом, когда часть зэков ни за что ни про что направили на лесоповал в северные районы. Многочисленные эксперты таинственно шептались, высказывая друг другу свои предположения двух катастроф. В расследовании участвовали и ученые, склонные рассматривать катастрофы как следствие воздействия статического электричества из-за упущений в металлизации всех агрегатов самолета.
Спас рядовой инженер — при исследовании топливной системы он обнаружил течь бензина из ниппеля манометра. Казалось, НКВД снимет все подозрения и начнутся рабочие будни, но подозрения продолжались, люди душевно страдали, опасаясь худшего… Туполев в который раз шел к представителям НКВД, доказывая абсолютную вздорность подозрений.
— Горят при испытаниях машины Мессершмитта, Фоккера, Сикорского, падают «Харрикейны» и «Спитфайеры». Это авиация! Невозможно в экспериментальной машине довести до оптимального состояния тысячи кранов, приборов, насосов, трубок, переключателей. Поймите, что бензин вспыхивает от искры! А на самолете тысячи литров бензина, десятки искрообразующих агрегатов: электромоторов, генераторов, насосов! Скажите же людям, что они могут спокойно работать. Это главное. Надо успокоить людей. Иначе все остановится. 103-В уже в металле.
Туполев отчетливо понимал, что человек тогда может плодотворно работать, когда он спокоен, не раздражен, настроен на активную деятельность, ему никто не мешает мыслить. И он, как мог, способствовал созданию элементарного комфорта для конструкторов и инженеров.
Неоднократные убеждения Туполева подействовали на работников НКВД: уменьшилась охрана, исчезли следователи, прекратились ночные вызовы. Постепенно жизнь зэков вошла в обычную колею — новая машина 103-В со стапелей встала на «ноги».
22 июня, в воскресенье, зэки трудились как в обычные дни, но около полудня забегали «попки», и зэки увидели сквозь зарешеченные окна собравшихся у репродукторов москвичей. Зэки вскочили на стулья возле окон, прислушались к доносившимся с улицы словам. Война!..
Зэков выпустили на свободу в середине июля, но не всех. Остальные в теплушках мчались на восток вместе с эвакуированными авиационными заводами…»
12
С первых дней своего пребывания в кресле наркома Берия не переставал задавать себе вопросы: «Чем не угодил Ежов Сталину? Где корни ошибок Ежова? Что послужило толчком к снятию и назначению Ежова наркомом водного транспорта?» Но ответа на них не находил. Знал, что Сталин недоволен Ежовым («За ошибки мы строго наказали Ежова»), намекнув в беседе на усиление профилактической работы с теми, кто замешан в каких-то делах. «Профилактическая работа». Что это?
Берия уменьшил число арестов, настоял на пересмотре ряда дел, особенно военных, а это сразу же сказалось — часть военных из лагерей вернулась в строй… О нем заговорили как о человеке справедливом и более внимательном, чем Ежов. Люди облегченно вздохнули, особенно аппаратчики… Пусть работают и побаиваются.
10 января 1939 года Сталин в ответ на тысячи жалоб, информируя шифровкой ЦК республик, обкомы и крайкомы о работе по борьбе с «вражеской деятельностью», сообщал: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)… Все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников? ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».
Но зачем это подтверждать в тридцать девятом? Да еще со ссылкой на ЦК… Что это? Скорее всего, Сталин развязывал руки новому составу НКВД для уничтожения тех, теперь уже бывших сотрудников наркомата, кто уже не нужен, но кто много знает. Таких Сталин не мог терпеть — их просто не должно быть…
Страна продолжала строить. Полуголодный народ, испытывая огромное перенапряжение, лопатами рыл котлованы под новые авиа— и танковые заводы, электростанции, строил железные и автомобильные дороги, аэродромы, морские порты. Миллионы зэков, лишенные свободы по политическим статьям, утопая в болотах, замерзая в тундре и тайге, тоже строили, мыли на Колыме золото, обушком долбили в забоях шахт уголек…
Лубянка работала с напряжением. Уходили через суд «за незаконные аресты, фальсификацию следственных дел, применение незаконных методов ведения следствия» Леплевский, Ушиминский (Ушаков), Агас, Миронов, Аршатская… Несть числа тем, кто год-два назад выламывал руки, бил, держал сутками на допросах невинных людей, «выбивая» показания.
Началась самая настоящая охота на тех, кто совсем недавно четко и строго исполнял указания начальства, был активным участником массовых репрессий. Берия настойчиво очищал аппарат НКВД от ежовцев, назначая вместо них своих выдвиженцев. Так, через неделю после прихода к власти, Берия во главе НКВД Белоруссии в декабре 1938 года поставил Л. Цанаву.
13
Лаврентий Фомич Цанава отличался особой исполнительностью, чем заслужил доверие своего земляка Берия еще в двадцатые годы, а затем в период совместной работы. В НКВД Грузии их дружба значительно укрепилась — Берия нравились старательные, усердные работники, безропотно выполняющие волю старшего. Получив самостоятельную должность в Белоруссии, Цанава, естественно, оправдывая свое назначение, не щадил сил, работал с присущим ему в те годы упорством. Он понимал, что Берия ждет от него больших результатов, и потому действовал напористо, не оглядываясь и не ограничивая себя ни в чем. С первых дней пребывания в Белоруссии Цанава всячески подчеркивал, что он прибыл для «наведения большевистского порядка в органах НКВД и в республике». С его приходом, после небольшого затишья, началась новая кампания обысков, арестов под видом «активизации борьбы с контрреволюционными и шпионскими элементами». Газеты снова запестрели броскими заголовками: «Смерть тайным агентам империализма!», «Добьем фашистских наймитов!», «Близок конец замаскировавшимся врагам народа» и т. д.
Тысячи арестованных томились за решетками тюрем, в подвалах НКВД и лагерях. Но этого Цанаве было недостаточно — и в других республиках и областях тюрьмы переполнены! Нужны громкие процессы, похожие на процессы в Москве, одобренные товарищем Сталиным. Цанава, копируя своего шефа, любил часто ссылаться на товарища Сталина, его проницательность в борьбе с «врагами всех мастей». Он установил новый порядок в наркомате — все наиболее важные дела обсуждались в ночное время, как в Москве, где товарищ Сталин работает ночи напролет.
Работавший в то время председателем Совнаркома Белоруссии Афанасий Федорович Ковалев рассказал: «Цанава — аморальный во всех отношениях чиновник, способный на любую гадость. Ему ничего не стоило выругаться матом в присутствии женщин, обругать человека нецензурной бранью, плюнуть в лицо каждому, не согласному с ним в споре. Его коварство превосходило все известные безнравственные поступки. Одной из причин такого неуважительного, порой хулиганского поведения Цанавы было всепрощенчество Пономаренко, позволявшего Цанаве делать то, что «захочет» его левая нога. Да и сам Пономаренко страдал лицемерием и коварством… Однажды на заседании Бюро ЦК докладывавший руководитель «Заготживсырья» позволил себе слегка покритиковать кого-то из партийных функционеров. Пономаренко грубо оборвал его, рассвирепел и, брызгая слюной, закричал:
— Что ты х… порешь? Какое твое собачье дело до парторганизации! Занимайся заготовками и выполни план! Не выполнишь — в тюрьму сядешь за срыв государственного плана! Марш с трибуны к… матери!
Руководителя заготовок едва отпоили в приемной водой…
Пономаренко пригласил к себе на беседу одного из руководителей промышленности, расположил его к себе, чаем угостил, и тот доверил первому секретарю свои тайны. Надо было видеть лицо этого человека на заседании Бюро ЦК, когда Пономаренко, критикуя недавнего собеседника, бросил в зал:
— Что мы тут его слушаем? Он же дома навести порядка не может — теща им командует, в служебные дела жена ввязывается! Разве можно ему доверить ответственный участок работы?..
— Да и я, — Афанасий Федорович тяжело вздохнул, — стал жертвой его «доверия». Назначенный председателем Совнаркома Белоруссии, я позволил себе в рамках моих обязанностей принять несколько решений, не согласовав их с Пономаренко…
Как-то прогуливаясь с Пономаренко в Дроздах — наши дачи были рядом, — я услышал от него плохо скрытое недовольство моей до предела усеченной самостоятельностью.
— Ты, Афанасий Федорович, зря подписал два последних постановления Совнаркома. Надо принимать совместные постановления ЦК и Совнаркома, а уж если решения не по очень важным вопросам, то надо согласовывать с ЦК.
— Но я, Пантелеймон Кондратьевич, не совсем с вами согласен. СНК — не отдел ЦК, и правительство вольно принимать решения в рамках своих обязанностей.
— Ты недопонимаешь руководящей роли партии. Может, тебя поучиться послать? — неожиданно спросил Пономаренко.
Пономаренко был сама любезность, и я поверил в то, что он и в самом деле проявлял обо мне заботу.
— Договорились? Ты на очередной сессии сними с себя полномочия предсовнаркома.
Я не думал, что в отношении меня Пономаренко проявляет лицемерие и коварство: расхваливая меня, он уже принял решение о моей отставке под благовидным предлогом, который я не распознал… Как мы условились, на сессии Верховного Совета я подал заявление об уходе с поста предсовнаркома в связи с учебой в Москве. Не думал я и не гадал, что после ухода с поста предсовнаркома мне Цанава начнет «шить дело».
Все началось с приездом в Белоруссию в 1937 году Маленкова с группой и завсельхозотделом ЦК ВКП(б) Яковлева, разбиравшихся с «националистическими и вредительскими настроениями» в республике. Маленков доложил Сталину:
— По моему твердому убеждению, товарищ Сталин, в Белоруссии действует глубоко законспирированная подпольная крупнейшая националистическая контрреволюционная организация, руководимая опытным, имеющим разветвления по всей республике центром. Надо принимать срочные меры!
Сталин, разумеется, согласился. Началась травля честных и преданных партии и народу людей… Первый секретарь ЦК Гикало направляется в Харьков, вместо него избирается В. Шарангович, арестовывается второй секретарь ЦК Н. Денискевич, при невыясненных обстоятельствах погибают председатель Совнаркома Николай Голодед, председатель ЦИК БССР Александр Червяков.
На XVI съезде Компартии Белоруссии первый секретарь ЦК Шарангович большую часть доклада посвятил не анализу положения дел в республике, а призывам проявления бдительности, делая акцент на выкорчевывание подпольных групп троцкистов и диверсантов, на разоблачения скрытых врагов народа.
Не прошло и года, как был арестован Шарангович. В сентябре 1937 года меня назначили предсовнаркома БССР, а в начале тридцать восьмого первым секретарем избирается Пономаренко — его «привез» Маленков, чьей поддержкой долгие годы пользовался Пантелеймон Кондратьевич.
Удивительное дело — Пономаренко уж очень часто проявлял льстивую любезность по отношению к наркомам НКВД Берману, а потом и к проходимцу Цанаве.
На беседе у Сталина Пономаренко дал обещание вождю искоренить «вражескую деятельность в Белоруссии в кратчайший срок»…
Осенью 1938 года начались аресты очередной группы «врагов народа»; как и прошлая волна арестов, она прошла среди высокого руководства: второй секретарь ЦК Анатолий Ананьев, заместители предсовнаркома БССР Журавлев и Темкин, наркомы, директора крупных заводов».
Ковалев вспомнил свои несколько встреч с Цанавой на заседаниях бюро ЦК, совещаниях в кабинете Пономаренко; лицо Цанавы было холеным, с красивыми по форме и цвету глазами, но взгляд — хищный и злобный в обиходе; когда же Цанава оказывался перед начальством, то взгляд мгновенно преображался, становился подобострастным и заискивающим, словно безденежный Цанава стоял перед богатым ростовщиком. Перед подчиненными и равными по должности Цанава держал голову высокомерно, чуть откинув ее назад, создавая впечатление человека, сильно занятого важными государственными делами. Лаврентий-второй (так иногда называли Лаврентия Цанаву), как и его шеф Лаврентий Берия, любил застолья с кавказской кухней и винами тех же краев, комфорт и роскошь. Попойки чаще всего проводились на даче, в лесном урочище под охраной самых надежных стражей порядка, с обильными возлияниями и длинными тостами во славу хозяина дачи.
Цанава не любил выслушивать чьи-то советы, даже тех, кто считался приближенным к нему. Как и Берия, Цанава презрительно относился к интеллигенции, всячески третируя людей умственного труда, откровенно издеваясь над ними прилюдно и с глазу на глаз.
Если Берия, общаясь в окружении Сталина среди интеллигентов и высшего руководства страны, мог надеть любую маску, включая маску воспитанного, интеллигентного человека, то все попытки и усилия Цанавы выглядеть респектабельным и культурным работником так и не увенчались успехом. Он открыто издевался над своими секретарями и помощниками, превращая их в шутов и лакеев, прилюдно обзывая нецензурными словами и матерясь.
При покровительстве Пономаренко Цанава во время заседаний Бюро ЦК часто поднимался, медленно, демонстрируя свое пренебрежение к выступающему, шел к телефону ВЧ, установленному на небольшом столике, вызывал Москву и, услыхав знакомый голос шефа, на весь зал заседаний громко здоровался:
— Здравствуй, Лаврений, здравствуй, дорогой, здравствуй, кацо!
Участники заседания, а в зале находились члены бюро ЦК, секретари ЦК, председатель Президиума Верховного Совета, председатель Совнаркома БССР, члены правительства, наркомы, депутаты Верховного Совета, затихали, умолкал докладчик, — все смотрели в сторону Цанавы, вальяжно развалившегося в кресле, демонстрировавшего свою близость к Берия, их дружеские отношения. Заметив на себе взгляды участников заседания, Цанава переходил на грузинский язык и говорил громче обычного. Переговоры с Берия часто длились десять — пятнадцать минут, но никто не смел в это время ни подняться со своего места, ни произнести слова, — все боялись грозного, циничного наркома Цанаву, никому не хотелось связываться с ним, ибо поводом для ареста могла стать самая незначительная мелочь. Человек арестовывался ни за что ни про что; спешно стряпалось дело по принципу тех лет: «Был бы человек, дело найдется».
И еще одна черта была присуща Цанаве — подозрительность, доведенная им самим до абсурда. Чуть ли не в каждом советском человеке он видел врага и, если в чьей-то биографии были какие-то неточности, шероховатости или «засветки», как выражаются люди этого ведомства, то судьба человека была предрешена. Особое внимание Цанава уделял информации осведомителей на лиц руководящего состава. Попирая все законы, он давал указания об аресте и допросах с «пристрастием».
Цанава усиленно внедрял в республике рабское послушание, безропотное молчание, основанные на страхе. Когда граждане живут в страхе, ими легче управлять. «Боятся, — любил повторять Цанава, — значит, уважают».
14
Глубокой ночью группа ареста, заранее подобрав ключи к квартире предсовнаркома, бесшумно вошла в спальню, и, растолкав спящего Ковалева, двое парней грубо схватили его за руки. Старший группы лейтенант НКВД Федоров резко спросил:
— Где оружие?
— Нет у меня никакого оружия, — едва слышно ответил Ковалев, заметив, как остальные энкавэдэвцы принялись шарить по всей квартире.
— Врешь! Где оружие? — Федоров, не найдя оружия, распалялся, кричал, не обращая внимания на трясущихся от страха жену и детей Ковалева.
— Вы не имеете права меня арестовывать — я депутат Верховного Совета СССР и обладаю депутатской неприкосновенностью. Я — член ЦК Компартии Белоруссии и депутат Верховного Совета БССР. Это же беззаконие! — пытался «усовестить» энкавэдэшников Ковалев. — Вы не имеете права!
— Мы все имеем право делать! И тебя арестовать имеем право! — рявкал Федоров. — Вот ордер на арест. Он подписан наркомом Цанавой! Понял?
— Ордер на арест по закону должен быть подписан прокурором, а не наркомом, — пытался протестовать Ковалев, доказывая неправоту действий группы НКВД.
Ковалеву скрутили руки, вывели из квартиры и втолкнули в «воронок».
Через четверть часа, после срезания пуговиц и крючков на брюках, под усиленной охраной Ковалева провели в камеру внутренней тюрьмы НКВД. Громко лязгнул замок одиночки, и все стихло. Недавний предсовнаркома присел на табурет. «Что же это делается? — подумал он. — Я не преступник, не убийца и не вор. За что я арестован? Скорее всего, клевета — кто-то донес, оговор. Почему арестовали без ведома ЦК? Я — член бюро ЦК, и уж со мной-то должен был поговорить первый секретарь ЦК Пономаренко. О моем аресте узнает и председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин — я же депутат Верховного Совета СССР. Наверняка произошла какая-то ошибка. Пономаренко в беде не оставит, да и Цанава разберется, — пытался успокоить себя Ковалев, разглядывая мрачную камеру-одиночку. — Как-то там жена, дети? Что они думают? Где они? А если и их вслед за мной в тюрьму упрячут?..»
Как ни успокаивал себя надеждой на быстрое разбирательство Ковалев, как ни сдерживал себя — успокоения не наступало.
На допрос вызвали поздно вечером; шел по бетонному полу и надеялся, что сейчас сотрудники НКВД скажут о случайной ошибке, извинятся за столь позднее вторжение в квартиру и водворение в сырую, пахнущую гнилью и тараканами камеру…
— Ваши друзья, близкие товарищи? — взгляд следователя был строгим и спрашивающим.
— Пономаренко, Наталевич, Макаров…
— Ты что дурака валяешь? Нам нужны соучастники по твоей вражеской деятельности на посту предсовнаркома!
— Я врагом народа и партии никогда не был! — твердо, не сводя взгляда со следователя, ответил Ковалев. — В чем меня обвиняют?
— Встать! — заорал один из следователей и площадно выругался, сопровождая свое «красноречие» отборной бранью и грубыми оскорблениями, угрожая «уничтожить как злейшего врага народа».
— Я требую прокурора, я — депутат Верховного Совета СССР! Я протестую против подобного со мной обращения!
Сильный удар в челюсть опрокинул Ковалева и бросил на бетонный пол… Били всю ночь, меняя друг друга. Измученное побоями тело отзывалось на удары нестерпимой болью: сознание утратило счет времени, хотелось только одного — быстрее оказаться в камере, вдали от этой своры озверевших нелюдей из НКВД…
В камере упал на пол и потерял сознание. Очнулся от удара сапога в бок:
— Встать! Спать не положено! — кричал надзиратель, пиная в бок. — Ишь разлегся — спать разрешено до шести утра.
Не знал Ковалев, что Цанава лично вел его дело, разрешив применять к арестованному любые способы допроса в интересах признания «контрреволюционной деятельности и вредительства на посту предсовнаркома БССР». Цанава рассмотрел составленные следователями протоколы допроса, одобрил их, потребовав добиться от Ковалева признания во вредительстве как можно скорее — ему не терпелось доложить комиссару государственной безопасности СССР Берия о завершении «большого дела по антисоветской, вредительской деятельности руководящих работников Белоруссии».
Арестованные по этому делу заместители председателя Совнаркома БССР И. Журавлев, А. Темкин, председатель ЦИК М. Стакун, народный комиссар просвещения В. Пивоваров, секретари ЦК КП(б)Б В. Потапейко, А. Ананьев и другие руководители республики, как и предсовнаркома Ковалев, подвергались зверскому избиению при допросах, издевательствам в камерах, длительному пребыванию в карцере. Из людей пытались выжать все, что нужно было для обвинения их во вредительстве и контрреволюционной деятельности.
Ковалев не шел ни на какие посулы и обещания и, пока были силы, сцепив зубы, терпел побои и издевательства как мог. Следователи не раз грозили отдать в руки мастеров заплечных дел, намекая на преисподнюю внутренней тюрьмы НКВД — пыточную, где, по их словам, заставят говорить даже мертвых. Однажды, когда Ковалева вели на очередной допрос, он увидел тех, кто хозяйничал в пыточной. «Молотобойцы» Цанавы стояли в коридоре: дюжие размерами, с выдвинутыми крупными подбородками и массивными челюстями, — они покуривали, держа цигарки в огромных, волосатых кулачищах, тут же, едва отвернув головы, сморкались, вытирая пальцы о казенные галифе; густо пахло дегтем, похоже, кто-то из «молотобойцев» не пожалел сапожной мази для своих, сорок пятого размера, огромных сапог.
Допросы следовали один за другим, обычно заканчиваясь под утро сильными избиениями; и так изо дня в день, из ночи в ночь, — и все это ради того, чтобы Ковалев подписал заранее подготовленные и одобренные Цанавой протоколы допроса. Попытки Цанавы в первые дни довести Ковалева до иссушающего душу страха и боязни физического насилия, сломить его морально и физически не удались — Афанасий Федорович терпел и побои, и глумления одичавших от злобы и неудач следователей, отвергая их предложения. Порой становилось тяжко, особенно когда до него доносился раздирающий душу крик молодой женщины, голосом похожей на жену Машу. Где она с двумя детьми?..
Не добившись «признаний» от Ковалева, следователи доложили начальнику следственной части Сотикову; тот при первой встрече сразу перешел на матерщину, угрозы и оскорбления. «Главное, — приказал себе Ковалев, — держаться и терпеть. Человек живет надеждой. Выстоять во что бы то ни стало».
Сотиков своих угроз не забыл — очередной допрос закончился пыточной. «Молотобойцы» отделали Ковалева так, что он потерял сознание от боли надолго, несмотря на ведра вылитой на него холодной воды. Выродки с потными харями дубасили его до тех пор, пока Сотиков не заорал: «Хватит! Он уже не дышит!» Один из костоломов матерно выругался: «…с ним! Сдохнет — туда ему и дорога. Врач напишет о сердечном приступе».
Несколько дней Афанасий Федорович не мог подняться, лежал, распластавшись, на полу, не принимая пищи, не ощущая своего тела, не слыша своего дыхания. Сквозь узкие щелки распухшего, разбитого в кровь лица он едва различал смену дня и ночи; сердобольный надсмотрщик перетащил его на трухлявый матрац, напоил свежей водой, спросил сам себя: «За что ж его так, господи?»
Ковалев понял: от него хотят и признания собственной вины, и оговоров своих товарищей по работе, еще не знающих того, что над ними давно уже висит дамоклов меч НКВД.
С опухшими ногами, кровоподтеками по всему телу, едва передвигавшегося Ковалева ввели в тюремный кабинет Цанавы. Нарком сидел развалившись, как обычно, в широком кресле, о чем-то тихо говорил с подручными. На скрип двери и доклад следователя Цанава не отозвался, продолжая не замечать ни вошедшего следователя, ни тем более арестованного. Для Цанавы человек никогда не представлял ни ценности, ни объекта его внимания, наоборот, он любил показать другому его, Цанавы, превосходство над остальными.
Через полчаса Цанава соизволил взглянуть на ссутулившегося, едва держащегося на ногах Ковалева, презрительно смерил его взглядом.
— Неважно вы выглядите, Ковалев. Тут тюрьма, понимаешь, тут дело имеем с преступниками, с врагами народа, а для них, понимаешь, не должно быть никаких условий! Они — враги, а с врагами надо поступать жестоко. Мне доложили, что вы упорствуете, не помогаете следствию. Нехорошо, Ковалев! Вы обязаны нам помочь! Тогда и к вам мы будем относиться по-хорошему. Но если вы не будете помогать, то нам с вами не по пути. Мы все знаем, вы — враг народа, но мы хотим облегчения вашей участи. Нам нужны чистосердечные признания о своих друзьях — врагах народа. Не хочешь рассказать — подпиши вот это, — Цанава кивнул на лежащие у края стола листы допроса.
Цанава ждал просьб и покаяний после многодневных избиений, после содержания в карцере Ковалева, ждал, что предсовнаркома упадет ему в ноги и будет просить о пощаде. Ему это было очень нужно — Берия по телефону дважды спрашивал о Ковалеве и его признаниях во вредительской деятельности, о сроках завершения следствия.
Ковалев понимал, что его «признание» станет лучшим обвинением тех, кто уже признался под пытками, кто еще на свободе, но дни которых уже сочтены, — Цанаве нужен был громкий процесс руководящих работников республики! Это ли не лучший подарок Берия за назначение Цанавы наркомом?
— Почему молчишь? Скажи все, что знаешь, хотя мы все знаем. Ты — руководитель контрреволюционной группы!
— Мне не о чем говорить. Ни я, ни те, кого называют моими сообщниками, врагами народа никогда не были. Я всю жизнь трудился честно и добросовестно. Об этом, конечно же, знаете вы и следователи. Но я бы хотел сказать вам, наркому внутренних дел, что здесь грубейшее нарушение законов. Следователь добивается признаний с помощью физической силы и оскорблений. Вам нужен процесс, так сделайте этот суд открытым, перед избирателями, которые выбирали меня депутатом Верховного Совета СССР, и я им скажу все как есть. Это клевета на честных людей, а не обвинение!
— Замолчи, сволочь! На тебя уже дали показания! Ты являлся организатором вредителей в Белоруссии! Эй, сюда Пивоварова!
Ковалев едва узнал в сутулом, старом человеке тридцатипятилетнего наркома просвещения. И только лихорадочно блестевшие глаза со следами испуга помогли Ковалеву распознать в нем того, чью фамилию назвал Цанава. Пивоваров дернулся, когда его спросили о Ковалеве, сжался, словно приготовился к ударам, пошатнулся в сторону, едва не упав, тихо сказал, закивав головой:
— Да, да, я знаю его. Это бывший предсовнаркома БССР…
— Расскажите, Пивоваров, о вашей совместной контрреволюционной деятельности, о вредительстве в просвещении, — прервал Цанава ответ Пивоварова.
— Я, как нарком просвещения, тормозил школьное строительство, ремонт школьных зданий, срывал подготовку учителей, подбирал в учительские коллективы своих сообщников, тормозил подготовку новых учебников…
Ковалев не верил своим ушам — Пивоваров говорил заученно, спешил быстрее высказать цифры и фамилии, взгляда на Ковалеве не задерживал, спешил отвести в сторону. Похоже, наркома добили до того, что тот начал терять рассудок, опасался даже сердитого взгляда Цанавы…
Пивоваров, лихорадочно моргая, принялся рассказывать о «вредительских заданиях» председателя Совнаркома по засорению белорусского языка русскими словами, по переделке учебников, затягиванию сроков строительства школ.
— Хватит! — рявкнул Цанава, видя, как Пивоваров хватил через край, выдумывая все новые и новые «прегрешения» Ковалева. — Подпишите протокол и идите.
После ухода изувеченного морально и физически Пивоварова Цанава вплотную подошел к Ковалеву и, глядя ему в лицо, зло спросил:
— И после этого ты будешь не признаваться? Человек все про тебя сказал — ты давал ему вредительские задания.
— Все, что сказал Пивоваров, — ложь. Он же боится говорить правду. Вы же видели, в каком он состоянии, он…
— Замолчи, сволочь! Мы докажем, что ты — враг! Ты заговоришь у нас! В карцер его! — Цанава махнул рукой, и тут же вбежавшие схватили Ковалева за руки и вывели из кабинета. В карцере конвоиры тут же «обработали» Ковалева и бросили его на холодный, мокрый от сырости пол…
Через несколько суток Ковалева, у которого еще болели от побоев спина, ноги, голова, вызвали на очередной допрос.
— Как вам отдыхалось на новом месте? — с издевкой спросил следователь.
Ковалев сел на предложенный стул и подумал: «Пытается шутить, гражданин Исаев, но по лицу видно, что готов растоптать меня, смешать с грязью».
— Вы побывали у наркома, повидали карцер, и вам осталось подписать вот эти документы. Подпишете — будете жить в сносных условиях, вас будут лучше кормить, будете ходить на прогулки, вам разрешат свидание с женой и детьми. Как видите — все зависит от вас и зря вы упорствуете. Люди, о которых сообщается в этих документах, уже сознались во вредительской деятельности. Не подпишете — вам будет еще хуже, а люди все равно будут осуждены, независимо от вашей подписи. Вы видели Пивоварова, который не только признался, но и дал показания на вас. Так и другие.
— Я не могу этого сделать по одной причине — это оговор честных и порядочных людей.
— По-вашему, Пивоваров — порядочный человек?
— Да, я знал Пивоварова именно таким.
— Но он же во всем признался! Он показал на вас! И другие подтверждают это!
— Я подписывать не буду, — упорствовал Ковалев, заметив, как дрожали его собственные пальцы со ссадинами от каблуков конвоиров, избивавших его в карцере пять дней назад.
— Подпишешь, сука! Мы заставим тебя! — брызгал слюной следователь Исаев, подскочив к Ковалеву. — Мы перебьем тебе руки-ноги, падла! Будешь харкать кровью, сволочь! На «конвейере» заговоришь, б… тифозная!..
Избиения менялись отливанием водой, карцером, ночными допросами. Ковалев понимал, что его упорство бесит следователей, но он уже уверовал в себя, что никого не предаст, никого не оговорит, несмотря на побои и издевательства, верил, что рано или поздно правда восторжествует…
Цанава, лично занимавшийся делом Ковалева, понял, что обвинение предсовнаркома во вредительстве шито белыми нитками, и потому он изменил свое первое решение — теперь Ковалев обвинялся в… терроризме.
Его с некоторых пор допрашивал старший следователь Лебедев.
— Где вы встречались с Ворошиловым?
— Ворошилов избирался депутатом Верховного Совета СССР в Минске, и я сопровождал его во всех его поездках. Встречался на маневрах Белорусского военного округа в 1937 году.
— По вашему предложению Ворошилов поехал на охоту в Полесье?
— Нет. Это было по плану Ворошилова.
— Врете! Вы вместе с полесской террористической группой решили во время охоты наркома обороны завести маршала Ворошилова в охотничий домик и там убить. Что, не так? Полесская тергруппа уже дала показания против вас. Вы — организатор убийства Ворошилова! Сознавайтесь!
— Мне не в чем сознаваться. Никакой полесской тергруппы я и в глаза не видел и никакого террористического акта против маршала Ворошилова я не готовил!..
Поздно вечером в камеру к Ковалеву втолкнули маленького человека с лысым черепом, безумными, «бегающими» глазами, тощего, с выпирающими ключицами, поминутно озирающегося по сторонам, словно он ждал нападения на него. Неожиданно человек вскочил и принялся стучать в дверь и кричать: «Откройте дверь! Откройте!» В камеру вошел коридорный надзиратель, прикрикнул на кричащего; тот замолк и принялся плакать, растирая слезы рукавом ветхого пиджачка. «До чего довели человека, — удрученно подумал Ковалев, глядя на рыдающего соседа по камере. — За что искалечили мужчину, за что сделали инвалидом? Кому это все надо? И во имя чего все это делается?»
Не добившись признаний от Ковалева, Цанава приказал устроить ему очную ставку с арестованным, проходящим по делу вредительства, секретарем ЦК Компартии Белоруссии В. Потапейко. Ковалев с трудом узнал Потапейко: перед ним сидел изможденный, с натянутой кожей на темном лице, старческими дрожащими руками, поникшей головой и ледяным, пустым взглядом человек.
Допрос вел Сотиков, держался, как всегда, уверенно и нагло, делая свое привычное дело со скрытым удовольствием.
— Перед вами сидит Ковалев. Вы узнаете его?
— Да, — едва слышно ответил Потапейко, не поднимая головы.
— На допросе вы, Потапейко, показали, что Ковалев вам лично давал вредительские поручения. Подтверждаете свои показания?
— Да, подтверждаю.
На все вопросы Сотикова обвиняемый Потапейко отвечал односложно, не поясняя сути ответа, не поднимая головы, не глядя на Ковалева.
— Что ты говоришь неправду, Потапейко? Взгляни на меня — ты говоришь ложь? Зачем ты это делаешь?
— Прекратите, Ковалев! — закричал Сотиков. — Я запрещаю вам задавать вопросы! Слышите?
— В таком случае я отказываюсь участвовать в очной ставке. Разве можно вести допрос больного человека?
— Больно много знаете, Ковалев! Нам решать, что — можно, а что — нельзя!
Через несколько дней Ковалева вызвал старший следователь Лебедев и предложил ознакомиться с его «делом».
— Следствие подходит к концу. Вы совершили государственное преступление, и вас будет судить Военная коллегия Верховного суда СССР. Расстрела вам не миновать!
Ковалев читал «показания» находящегося под следствием бывшего заместителя председателя Совнаркома БССР И. Журавлева, наркомпроса В. Пивоварова, секретаря ЦК В. Потапейко, и у него от оговоров волосы становились дыбом. Все они были арестованы раньше Ковалева и после избиений и надругательств вынуждены были дать «показания» против предсовнаркома. Трудно было поверить, что Иван Журавлев, работая секретарем Витебского горкома партии, участвовал в функционировании «контрреволюционной организации» и завербовал Ковалева, который впоследствии стал руководителем.
И еще больше удивили показания второго секретаря ЦК Компартии Белоруссии Анатолия Ананьева, работавшего ранее заместителем предсовнаркома БССР Ковалева. Пытки, избиения, перекрестные допросы, очные ставки после бессонных ночей сделали свое дело: сознание, похоже, помутилось у Ананьева, и он давал весьма противоречивые показания, наговаривая на себя небылицы, нужные Цанаве и его сатрапам. Почувствовав, что он оговорил себя беспредельно, Ананьев в камере вскрыл осколком стекла вену на руке и кровью написал записку дочери: «Что бы обо мне ни говорили, помни, дочка, что я честный человек». Но после очередных избиений Ананьев снова признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях. Его помутившийся от пыток рассудок не позволял принять разумное решение.
Изверг Цанава в «интересах следствия» решил организовать «спектакль», представив первому секретарю ЦК Пономаренко бывшего второго секретаря ЦК Ананьева.
Переодетого в костюм Ананьева к зданию ЦК доставили в легковой машине НКВД, провели в приемную первого секретаря, приказали ждать. Ананьев, окинув взглядом светлую комнату, знакомую до слез, куда он, второй секретарь, входил десятки раз, вспомнил, как не раз в этом, за дубовой дверью, кабинете проводил совещания, выступал с информациями, и заплакал…
У Пономаренко растерянно смотревший по сторонам Ананьев повторил слово в слово то, что выучил наизусть по подсказке Цанавы, пообещавшего ему и небольшой срок наказания, и заботу о семье.
Пантелеймон Кондратьевич слушал сбивчивые ответы своего недавнего секретаря, удивленно покачивая головой, видел, как тот едва держался в кресле, видел его безропотную исполнительность и заискивающие взгляды, дрожащие руки, отечное от побоев, почерневшее лицо. Пономаренко не удивился всему этому, не приказал прекратить этот «спектакль», не взял худющие руки Ананьева в свои ладони, не спросил: «Неужели, Анатолий Андреевич, все, что ты тут рассказал, правда? Успокойся, посиди, подумай. А вы, Лаврентий Фомич, оставьте, пожалуйста, нас вдвоем. Нам есть о чем поговорить — вместе работали».
Мог это сделать Пономаренко? Мог! И обязан был! Но не сделал… Видно, не до судеб было партийному руководителю республики…
Военная коллегия Верховного суда СССР, рассматривая «преступную, вражескую деятельность» руководителей БССР, пришла к выводу о недостаточности улик и документальных подтверждений обвинения, но тем не менее суд состоялся при явно тенденциозном подходе председательствующего дивизионного военюриста Орлова, неоднократно грубо обрывавшего подсудимых, как только те начинали говорить о добытых с помощью избиений показаниях.
Здесь, на суде, Ковалев впервые увидел всю группу обвиняемых по его делу. Подсудимых посадили вместе, рядом друг с другом; четверых Ковалев хорошо знал по совместной работе, остальных шестерых видел впервые. Ананьев, Пивоваров, Потапейко и Стакун выглядели так, что их едва узнал Ковалев, — одежда изношена и потрепана, в заплатках, лица потемневшие с множеством морщин, исстрадавшиеся и надломленные, словно эти люди, недавно работавшие с Ковалевым под одной крышей, долгие годы трудились на каторжных галерах, прикованные к борту судна.
Ковалев обрадовался — председательствующий позволял вести диалог, выслушивал обвиняемых, хотя и прерывал их, когда те пытались доказать свою невиновность. И даже Ананьев здесь, на военном суде, заявил о своей невиновности.
— Как же вас понимать? — вопрошал диввоенюрист Орлов. — На предварительном следствии вы признали свою вину по заражению крупного рогатого скота бруцеллезом и злокачественной анемией, а теперь отрицаете свою вину? Где же логика, подсудимый Ананьев?
— Я прошу извинения перед высоким судом, но я на предварительном следствии говорил неправду, я вынужденно это делал, — голос Ананьева дрогнул. И какое-то время в зале стояла тревожная тишина, показавшаяся Ковалеву долгой и хрупкой: хватит ли у Ананьева сил выдержать до конца взятый им настрой на правдивое изложение его показаний. — Я раскаиваюсь в том, что говорил тогда неправду, и в том, что оговорил честных людей. Мне стыдно перед ними, — Ковалеву показалось, что в эти мгновения Ананьев посмотрел в его сторону.
— Но вы же признались в своих деяниях в присутствии первого секретаря ЦК товарища Пономаренко? Вы и ему говорили неправду?
— Да, так. Я и в его присутствии продолжал оговаривать себя и других. Так приказал Цанава — повторить все то, что я под пытками говорил следователю. Пономаренко мог бы сразу вмешаться в мое дело, так как он же давал санкцию на мой арест без разрешения бюро ЦК Компартии Белоруссии. Я очень надеялся на наш советский суд, где бы я смог рассказать все, что произошло со мной.
— Хватит! Я не верю вам, вы — настоящий враг и должны признаться чистосердечно суду о своих преступлениях перед нашим народом. Садитесь!
Ковалев, как и на предварительном следствии, себя виновным не признал, убедив суд в том, что обвинения против него основаны только на показаниях подсудимых без документального подтверждения, подсудимые же Ананьев, Пивоваров и Потапейко отказались от своих показаний, назвав их ложью и клеветой. Более того, Ковалев смог в какой-то степени поддержать всех троих, отвергнув предъявленные к ним следствием обвинения.
Неожиданно председательствующий огласил протокол очной ставки Пивоварова и Ковалева в присутствии Цанавы.
— Как понимать вас, подсудимый Пивоваров? Вы же на очной ставке с Ковалевым дали показания на Ковалева. Вы не воспользовались присутствием наркома Цанавы и не обжаловали действия следователей, избивавших, по вашим словам, вас, и не единожды?
— Цанава знал, что следователи применяют меры физического воздействия к подследственным, и говорить ему об этом небезопасно было и бесполезно.
— Кстати, Ковалев, вас подвергали во время следствия недозволенным приемам допроса? — спросил председательствующий.
— Да, неоднократно и в самой жестокой форме, — ответил Ковалев.
Не удержался и Потапейко:
— После многодневного «конвейера», ночных изнуряющих допросов, беспрерывных избиений я оказался в тяжелом состоянии. Я не воспринимал нормального общения, человеческого обращения. Я был просто невменяем, временами терял рассудок. На очной ставке с Ковалевым я отвечал на вопросы только «да» или «нет». По-другому я отвечать не мог — я был бы избит, а сил у меня уже не было.
— Получается так, что вы тогда клеветали на людей?
— Вы правы — я оговаривал людей, но теперь я заявляю суду об отказе от своих показаний следствию.
— Достаточно! Вас будем судить не только за предъявленные к вам обвинения, а и за клевету! — пригрозил председательствующий осмелевшему Потапейко.
После длительного выяснения обстоятельств суд принял решение о выделении «дела Ковалева» на новое расследование; остальные подсудимые по «белорусскому делу» были приговорены к различным срокам заключения.
Узнав о решении суда, Пономаренко и Цанава опротестовали решение Военной коллегии Верховного суда СССР, не согласившись ни с одним пунктом решения. Ковалева выпустили из Тобольской тюрьмы после очередного обращения к Генеральному прокурору СССР в апреле 1942 года…
15
Параллельно с «делом ответработников Белоруссии» Цанава начал массовые аресты в органах НКВД, выполняя указания Сталина об очистке НКВД от «прихвостней Ежова», и, как и Берия в Москве, за несколько месяцев «очистил» аппарат НКВД от ежовцев.
Работники органов обвинялись в нарушении революционной законности в Белоруссии, в массовом избиении арестованных в интересах получения от них нужных следствию показаний. Те, кто вчера сам «выбивал» показания, сегодня испытывали на себе проверенные на людях «методы» допросов.
Руководитель одного из отделов НКВД Белоруссии Г-н отличался «исполнительностью и инициативой» в определении «истинных врагов народа». После ареста он показал, что действовал в 1937–1938 годах по указанию наркома внутренних дел БССР Б. Бермана, который, вернувшись из Москвы, сказал, что работа органов в Белоруссии идет не совсем так, что темпы «выкорчевывания» замаскированных «врагов народа» — троцкистов, эсеров, бундовцев, национал-фашистов, правых, анархистов — отстают по показателям от других республик.
— Надо нажать на темпы, — требовал нарком. — Пора кончать допросы в белых перчатках… Каждый следователь обязан разоблачать не менее одного арестованного в сутки, а лучше — двух.
В результате увеличения темпов число арестованных за три последних месяца 1937 года в Белоруссии увеличилось до 10 000 человек. В районы и области республики спускались планы по арестам. Так, органы Витебской области обязаны были в короткий срок арестовать не менее трех тысяч человек. Аресты велись по спискам, составленным на основании доносов, подозрений, национальной принадлежности, что вынуждало следователей составлять ложные протоколы допросов, «выбивая» показания из арестованных. В конце 1937 — начале 1938 года в Минске шли повальные аресты днем и ночью. Тюрьма оказалась забитой до отказа, ибо за сутки число арестованных достигало 80–100 человек.
Вот как описывает известный советский разведчик Дмитрий Быстролетов (окончил университеты в Праге и Цюрихе, знал 22 языка, в течение 16 лет выполнял задания Центра и в Африке, и в Европе, арестованный в 1938 году после возвращения на Родину и приговоренный к 20 годам лагерей) встречу в Лефортовской тюрьме с наркомом внутренних дел Белоруссии Алексеем Наседкиным: «Однажды ночью дверь со скрипом отворилась, и в камеру еле шагнул через порог тощий мужчина неопределенного возраста с измученным худым лицом.
— Алексей Иванович Наседкин, — представился он и бессильно повалился на койку. Я уже слышал эту фамилию, потому назвал себя и вкратце рассказал свою историю. Новый напарник чуть оживился и, с трудом переводя дыхание, заговорил:
— В последнее время я был наркомом внутренних дел в Белоруссии… Сменил там Бермана — брата Матвея Бермана — начальника ГУЛАГа на Беломорстрое… Берман уже расстрелян. Мое дело тоже закончено. Скоро расстреляют и меня… Бермана я знал по Берлину. Очень моложавый, любимец женщин, всегда веселый, энергичный, ловкий в хитросплетениях судеб. Берман заражал всех своей жизнерадостностью, кажущейся простотой, неизменной охотой помочь в беде. В Минске это был сущий дьявол, вырвавшийся из преисподней. Берман расстрелял в Минске за неполный год работы больше восьмидесяти тысяч человек… Он убил всех лучших коммунистов республики. Обезглавил советский аппарат. Истребил цвет белорусской интеллигенции. Тщательно выискивал, находил, выдергивал и уничтожал всех мало-мальски выделявшихся умом или преданностью людей из трудового народа — стахановцев на заводах, председателей в колхозах, лучших бригадиров, писателей, ученых, художников. Восемьдесят тысяч невинных жертв… Гора трупов…
Мы сидели на койках друг против друга: я, прижавшись спиной к стене, уставившись в страшного собеседника, он, согнувшись крючком, равнодушно уронив руки на колени и голову на грудь…
— Вы, наверное, удивляетесь, как смог Берман организовать такую бойню? Я объясню. По субботам он устраивал производственные совещания. Вызывалось на сцену по заранее заготовленному списку шесть человек из числа следователей — три лучших и три худших. Берман начинал так: «Вот лучший из лучших наших работников — Иванов Иван Николаевич. Встаньте, товарищ Иванов, пусть остальные вас хорошо видят. За неделю товарищ Иванов закончил сто дел, из них сорок — на высшую меру, а шестьдесят — на общий срок в тысячу лет. Поздравляю, товарищ Иванов! Спасибо! Сталин о вас знает и помнит. Вы представляетесь к награде орденом, а сейчас получите и денежную премию в размере пяти тысяч рублей. Вот деньги. Садитесь». Потом Семенову выдавалась та же сумма, но без представления к ордену за окончание семидесяти пяти дел: с расстрелом тридцати человек и валовым сроком для остальных в семьсот лет. И Николаеву — две тысячи пятьсот за двадцать расстрелянных и пятьсот лет общего срока. Зал дрожал от аплодисментов, счастливчики гордо расходились по своим местам.
Наступала тишина. Лица у всех бледнели, вытягивались. Руки начинали дрожать. Вдруг в мертвом безмолвии Берман громко называл фамилию: «Михайлов Александр Степанович, подойдите сюда, к столу».
Общее движение. Все головы поворачиваются. Один человек неверными шагами пробирается вперед. Лицо перекошено от ужаса, невидящие глаза широко раскрыты. «Вот Михайлов Александр Степанович! Смотрите на него, товарищи! За неделю он закончил три дела. Ни одного расстрела, предлагаются сроки пять и семь лет».
Гробовая тишина.
Берман медленно поворачивается к несчастному. Смотрит на него в упор. Минуту. Еще минуту. Следователя уводят. Только в дверях оборачивается: «Я…» Но его хватают за руки и вытаскивают из зала.
— Выяснено, — громко чеканил Берман поверх голов, — выяснено, что этот человек завербован нашими врагами, поставившими себе целью сорвать работу органов, сорвать выполнение личных заданий товарища Сталина. Изменник будет расстрелян!
Потом Петров и Сидоров получают строгие предупреждения за плохую работу — у них за неделю по человеку пойдет на расстрел, а человек по десяти — в заключение на большие сроки.
— Все, — обычно заканчивал Берман. — Пусть это станет для каждого предупреждением. Когда враг не сдается, то его уничтожают!
Таким образом, он прежде всего терроризировал свой аппарат, запугал его насмерть. А потом все остальное удавалось выполнить легче. Иногда представляли затруднения только технические вопросы, то есть устроить все так, чтобы население поменьше знало о происходящем…
Наседкин сидит дугой.
— Теперь расскажу об одном обстоятельстве, которое меня мучило больше всего, — о ежедневном утреннем звонке из Москвы. Каждый день в одиннадцать утра по прямому проводу я должен был сообщить цифру арестованных на утро этого дня, цифру законченных дел, число расстрелянных и число осужденных… Вопросов никогда не было. Потом я выпивал стакан коньяка.
— Кому докладывали?
— Не знаю… После приезда Маленкова и раздутого им дела о массовом предательстве дела вершились необычные. Я это вам рассказываю, Дмитрий Александрович, потому, что скоро умру…»
Б. Берман увеличил число следователей — росло число арестованных. Но следователей не хватало все равно. Те же, в свою очередь, поставили процесс допросов на поток. Новый нарком внутренних дел БССР А. Наседкин (1938 г.) санкционировал и всячески поощрял допросы «с пристрастием». Случалось, что арестованных забивали до смерти.
Особенно усердствовали следователи спецкорпуса минской тюрьмы; крики допрашиваемых и истязаемых в камерах настолько были сильны и многочисленны, что были слышны в самых дальних закоулках коридоров. Избитых людей выносили на носилках. Зачастую избиениями по приказу следователей занимались… арестованные, которых дополнительно подкармливали, обещая снисхождения при решении их судьбы.
Арестовывали представителей интеллигенции, рабочих, крестьян, наркомов, членов правительства. Новый виток подозрений в шпионаже начал раскручиваться после появления тезиса в органах о «западниках» — белорусах, проживающих в соседней Польше и переходящих в Белоруссию. «Пятьдесят тысяч шпионов по БССР под видом эмигрантов из Польши!» — таков был скрытый лозунг для работников органов. Фальсификация обвинений шла круглосуточно. В шпионаже «в пользу соседнего государства» был обвинен даже… минский сапожник, якобы передававший секретные данные другой стороне о работе сапожной мастерской в Минске. Всякий, кто возвращался на родную белорусскую землю, объявлялся шпионом, подвергался аресту, допросам с применением физических мер воздействия. Следователи не успевали вести расследования, и зачастую «дела» передавались на «тройку», где, как правило, «шпионам», а это были почти безграмотные крестьяне, определялась «первая категория», т. е. высшая мера наказания — расстрел. Шпиономания доходила до абсурда. При Цанаве в Белоруссии была «обнаружена» шпионская организация численностью около тысячи человек! Допросы нередко длились пять — семь минут; достаточно было одного письменного доноса, чтобы человек был осужден по первой категории.
В камерах, чаще всего в одиночках, доведенные пытками и издевательствами до изнеможения, потери сознания, арестованные пытались покончить жизнь вскрытием вен осколками стекол от очков; другие — с разбегу бились о каменную стену, пытаясь размозжить голову. «Заботливые» хозяева тюрем быстро обили стены камер войлоком, и число самоубийств сразу сократилось…
Далеко не каждый арестованный мог выдержать затяжные избиения и издевательства и после первых допросов давал нужные следствию показания. Так, редактор Бобруйской газеты, тихий, интеллигентный человек Гринштейн после первого жестокого избиения «признался» в том, что является «участником подпольной контрреволюционной организации вместе с руководителями района» (секретарем райкома, предрайисполкома и т. д.). Все «члены организации» были, разумеется, арестованы. Впоследствии Гринштейн отказался от своих показаний и был освобожден из заключения, навсегда оставшись инвалидом…
В ходе расследования дела Г-на выяснилось, что этот начальник неоднократно отказывал своим подчиненным в милосердии по отношению невинно обвиненных во время следствия людей. В 1938 году начальник особого отдела авиабригады в Бобруйске доложил Г-ну о том, что ряд обвиняемых военных авиаторов за недоказанностью их преступлений должны быть освобождены из-под ареста — ввиду их полной невиновности. Вместо того чтобы внимательно рассмотреть дело каждого невинно арестованного летчика или техника, Г-н приказал: «Никого не освобождать! Я запрещаю это делать. Любыми путями добейтесь признания, а “тройка” их приговорит к первой категории. Так надо! И впредь ко мне с подобными просьбами не обращайтесь».
Г-н часто звонил в области, районы, города руководителям НКВД и, угрожая принятием мер, говорил: «У вас плохо дело по раскрытию вражеской деятельности. Мало арестовано латышей, поляков, ассирийцев. Отстаете от других. Исправляйтесь, а то и вы окажетесь там же». И, естественно, подчиненные Г-ну работники «исправлялись»…
Федор П., начальник районного отдела НКВД (Хойники), не обеспечивший выполнения «разверстки», вскоре сам оказался в камере по подозрению в… шпионской деятельности. На допросе Федор П. отказался дать показания, заявив, что он не шпион. Прибывшие из Минска следователи били его резиновыми палками (палки вырезали из старых автомобильных покрышек). Федор неистово кричал. Тогда, заткнув ему рот половичком, его топтали ногами, норовя наступить каблуком на мошонку, били носками сапог в живот. Федор терял сознание, его обливали холодной водой и принимались за продолжение жестокого истязания. К утру Федор пришел в себя, но подняться с пола камеры не смог. Ему подсунули исписанный следователями лист бумаги.
— Подпиши письмо наркому.
— Какое письмо? — едва раздвинув спекшиеся, распухшие губы, тихо спросил начальник Хойникского отделения НКВД.
— Письмо-признание, что ты шпион, и тебя отпустят.
— Я не шпион, — прохрипел Федор.
— Ах так, сука! Ну, ты сейчас заговоришь!
Подняв отяжелевшее тело, следователи посадили Федора на ножку заранее опрокинутого венского стула со спиленной спинкой. Ножка вошла в задний проход, и Федор, обезумев от боли, дико закричал. Ему снова подсунули лист бумаги.
— Подпиши, а не то устроим тебе «вертушку».
Федор крутанул головой.
— Ну, х… сопливый, ты у нас сейчас заговоришь! — орали следователи.
Один из них связал руки и ноги Федору, а другой, придерживая ногами стул, начал поворачивать Федора на ножке стула. Федор кричал недолго и, потеряв от боли сознание, обмяк, истекая кровью, каплями струившейся по полированной ножке стула…