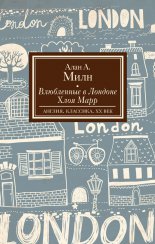Берия. Арестовать в Кремле Сульянов Анатолий
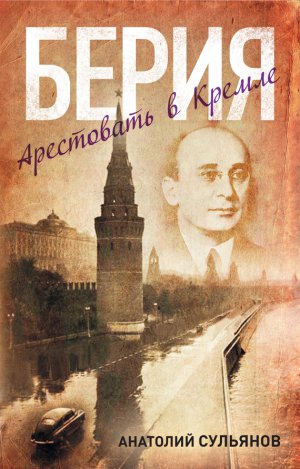
26
Абакумов со своим огромным аппаратом, создавая видимость действия в стране различных групп, недовольных «государственным строем», наличия беспечности и потери революционной бдительности, организовывали новые процессы.
Берия и его верный слуга давно присматривались к одному из наиболее талантливых и мужественных руководителей, не боявшемуся высказывать свое мнение и стойко защищать его — наркому Военно-Морского Флота адмиралу Николаю Герасимовичу Кузнецову. Сравнительно молодым Кузнецов был, как и другие в страшные 1937–1939 годы, обласкан Сталиным. В 1938 году тридцатишестилетний Кузнецов на заседании военно-морского совета докладывал об итогах разбирательства крупной аварии эскадренного миноносца «Решительный», выброшенного на берег гигантским штормом при переходе эсминца из Николаева во Владивосток. Сталин с присущим ему вниманием слушал доклад морского командира, всматривался в него, задавал вопросы. Результатом этой встречи было избрание Кузнецова делегатом XVIII съезда партии, где состоялась его вторая встреча со Сталиным. В перерыве вождь подошел к Кузнецову и протянул лист бумаги: «Прочтите». Нарком Военно-Морского Флота Фриновский — бывший заместитель Ежова — в рапорте просил освободить его от должности наркома. Через месяц после этой встречи Кузнецов был назначен наркомом Военно-Морского Флота СССР. Тридцатисемилетний нарком отличался смелостью суждений, доскональным знанием дела, решительным характером, умением защитить свои взгляды на боевую подготовку флота и развитие стратегических возможностей его соединений и объединений.
Подобная самостоятельность и инициатива чаще всего не находит поддержки в высших кругах, где, как правило, имеется свое мнение, конечно же превосходящее все остальные. На этот счет бытует канцелярская сентенция: «Всяк входящий в кабинет начальства оставляет свое мнение у порога».
Вопреки жестким указаниям, Кузнецов накануне войны отдал распоряжение о выходе кораблей из военно-морских баз в открытое море, и если 22 июня сорок первого года Красная Армия понесла огромные потери, особенно авиация, артиллерия и сухопутные войска, то Военно-Морской Флот не потерял ни единого корабля.
Нарком не раз «схватывался» в спорах с Молотовым и Ждановым, курировавшими флот, с Берия, пытавшимся «лезть» не в свои дела, когда обсуждалось перспективное строительство флота, с Булганиным, во всем соглашавшимся с вождем. После очередного трудного разговора с Булганиным Кузнецов заметил пристальное внимание к себе Берия. Малоизвестный чиновник В. Алферов написал куда следует донос, в котором сообщал о том, что морское командование передало англичанам во время войны чертежи парашютной торпеды, давно рассекреченной и стоявшей на вооружении в других странах. Это была прекрасная зацепка для ведомства Берия — Абакумова. Началось следствие, доложили мнительному Сталину. После доклада Берия Сталин принял решение о предании руководства Военно-Морского Флота суду чести, который возглавил маршал Л. Говоров. Четыре адмирала, отличившиеся в Отечественной войне и щедро награжденные орденами и звездами, оказались на скамье подсудимых. Берия и Булганин всячески подогревали процесс, наушничали Сталину о «предателях-адмиралах». Вскоре принимается еще более строгое решение о предании адмиралов суду Военной коллегии Верховного суда СССР. Поднаторевший на подобных и других делах, алчный и жестокий Ульрих и на этот раз не изменил своим правилам — раз попал сюда, значит, виноват, и будь ты хоть семи пядей во лбу, никогда не докажешь свою невиновность.
В роли обвинителя выступал генерал-лейтенант Н. Кулаков, бывший в войну дивизионным комиссаром, членом военного совета Черноморского флота, хорошо знавший всех подсудимых. И где только брались у него слова о «политической близорукости, подчинении государственных интересов личным»? Кулаков в конце выступления обвинил адмиралов в предательстве и требовал применения самого сурового наказания.
После перерыва Кузнецов заметил появление возле них усиленной охраны, что свидетельствовало о предстоящем тюремном заключении. Кузнецов вспомнил, как в начале 1946 года Сталин позвонил ему и спросил:
— Как вы, товарищ Кузнецов, смотрите на разделение Балтийского флота на два?
— Разрешите, товарищ Сталин, подумать и потом доложить вам.
— Думайте, но не затягивайте решение этого вопроса.
После глубокого и всестороннего анализа положения Балтийского флота Кузнецовым и его заместителями стало ясно, что делить флот на два нецелесообразно, — морской театр имел небольшие размеры, и руководство на нем должно быть единым. На доклад Кузнецова Сталин ничего не сказал, но нарком понял, что тот остался недоволен докладом и его мнением.
Через несколько дней Кузнецова с заместителями вызвали в Кремль. Сталин на приветствие ответил кивком головы и продолжал расхаживать по кабинету. Не знал нарком, что днем раньше Берия долго беседовал в этом кабинете…
Остановившись у края стола, Сталин гневно спросил:
— За кого вы нас принимаете? Возомнили себя флотоводцами и думаете, что кроме вас никто не разбирается во флотских делах! Кузнецов зазнался! Других мнений для него не существует, но мы найдем на вас управу!
Кузнецов не смолчал, воспользовался паузой и начал отстаивать точку зрения руководства наркомата Военно-Морского Флота, но его тут же прервали. Кузнецов вспылил:
— Если не пригоден, то прошу меня снять!
Присутствующие в кабинете замерли — Сталин не прощал подобного поведения, дело принимало зловещий оборот, завершавшийся, как это было принято, снятием с должности в лучшем случае…
Надо отдать должное хозяину кабинета — он имел терпение и выдержку, мог подолгу размышлять над услышанным:
— Когда надо будет, уберем…
Балтфлот вопреки логике и оперативно-стратегическому предназначению был разделен на два.
…Решение Военной коллегии Верховного суда ошеломило всех четверых: адмиралу В. Алафузову — 10 лет тюрьмы, адмиралу Г. Степанову — 10 лет, адмиралу Л. Галлеру — 4 года, адмирал Кузнецов был снижен в воинском звании на три ступени. Впоследствии адмирал Галлер умер в тюрьме, Алафузов и Степанов реабилитированы в 1953 году. Николай Герасимович направился на Дальний Восток для дальнейшего прохождения службы.
Так закончилось знаменитое «адмиральское дело», на которое Берия и Абакумов делали определенную ставку: госбезопасность бдит в оба, ведомство трудится денно и нощно, как этого требует товарищ Сталин, и второе — враги есть везде, даже среди высшего командного состава Вооруженных Сил. Вождь должен быть, по мнению Берия, доволен работой органов.
Кузнецов же, несмотря на снятие с высокого поста наркома Военно-Морского Флота и снижение в воинском звании до контр-адмирала, оставался самой авторитетной личностью среди военных моряков. Судьба не баловала Николая Герасимовича: за службу он дважды был контр-адмиралом, трижды вице-адмиралом, ему вручались четырехзвездные погоны, дважды его поздравляли с высшим флотским званием — Адмиралом Флота Советского Союза. Он один из немногих мемуаристов откровенно и с болью в сердце признался в том, что наряду с успехами при проведении операций и сражений в годы войны и в мирное время были и серьезные недостатки. «Однако мне хочется, — делился размышлениями Кузнецов, — чтобы не забывали и другое: более серьезно, глубоко, со всей ответственностью должны быть разобраны причины неудач, ошибок в первые дни войны. Эти ошибки лежат отнюдь не на совести людей, переживших войну и сохранивших в душе священную память о тех, кто не вернулся домой. Эти ошибки в значительной степени на нашей совести, на совести руководителей всех степеней. И чтобы они не повторялись, их следует не замалчивать, не перекладывать на души умерших, а мужественно и честно признаться в них. Ибо повторение прошлого будет называться уже преступлением».
К сожалению, и в официальной многотомной исторической литературе, и в многочисленных воспоминаниях участников войны, и в больших по размерам газетных публикациях большее внимание уделяется наиболее удачным операциям, в которых проявлялись и командирская находчивость, и массовый героизм воинов, и полководческий талант маршалов и генералов, но крайне недостаточно описываются неудачи, повлекшие и огромные людские потери, и безвозвратные утраты боевой техники, и оставление ранее занятой территории. Разумеется, нельзя в этом отношении сгущать краски и изображать войну только в черном цвете. Отечество одержало победу над сильным и опытным врагом, растоптавшим Европу солдатским сапогом, мечтавшим покорить весь мир. Эта победа позволила свободно вздохнуть всему человечеству.
Все это так, но тем не менее войну следует показывать объективно, со всех сторон, с ее миллионными потерями и реками крови, с неудачами в проведении боев и операций, с недостатками в руководстве фронтом и тылом и т. д. Для чего это надо? Для того чтобы нынешние и будущие политические и военные руководители не допускали подобных ошибок, — так пишет об этом адмирал Кузнецов. В этом отношении особо важную ценность представляют архивы различных ведомств, но некоторые из них все еще остаются закрытыми и для исследователей, и для писателей и публицистов.
Вот что сообщалось в политдонесении из 380-й стрелковой дивизии: «Наступление было организовано плохо. Не учли все плюсы и минусы в обстановке своих войск и войск противника, только стремились скорее наступать всей массой батальонов. Командир дивизии полковник Смирнов был направлен в 1260-й полк для выправления положения. Несмотря на ураганный огонь врага, бросил полк в наступление. С 21 февраля по 6 марта (1942 года. — А. С.) истреблено 83 фашиста, 2 взято в плен. Полк же потерял 1141 человека убитыми и 640 ранеными». Эти страшные события происходили на Калининском фронте после недавнего наступления (командующий войсками фронта генерал И. Конев).
380-я дивизия прибыла на фронт из Алтая и после тяжелого, изнурительного, многодневного марша по глубокому снегу и бездорожью была с ходу брошена в бой без артиллерийской подготовки, без авиационного прикрытия, а самое главное — без глубокой и всесторонней разведки! Личный состав был необстрелян, командный состав не имел опыта организации боя, взаимодействия частей и подразделений. В течение 26–28 февраля дивизия пыталась овладеть населенными пунктами Шарки, Яблонка, Толстуха под непрерывным артиллерийским и пулеметно-минометным огнем гитлеровцев, бомбежкой с воздуха и, естественно, несла все это время большие потери. Ни командование фронта, ни командование армии не организовали своевременный подвоз боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия. «Имеется ряд случаев, — сообщалось в политдонесении, — смерти бойцов на почве истощения…» Красноармейцы погибали не только от огня противника, а и от… голода!
Когда же у руководителей родилось такое безжалостное отношение к человеку? Даже на фронте, где гуляет по полям смерть, льется кровь, и там не берегли человека, не ставили его выше пары валенок. В одном из эвакуационных госпиталей были привлечены к уголовной ответственности выздоравливающие после ранения сержант Н. Фатькин и старшина В. Потапов за кражу четырех одеял, ватной фуфайки и валяных сапог. 13 мая 1943 года военный трибунал приговорил Фатькина и Потапова к пяти годам лагерей с отбытием наказания после окончания военных действий. Разумеется, «приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
В середине девятнадцатого века в трактате «О свободе» Джон Стюарт Милль писал о том, что часто тирания общества превосходит любую другую, не оставляет ни одной лазейки, чтобы ускользнуть, «проникает гораздо глубже в детали и порабощает саму душу». Общество состоит из особей, из людей, групп, масс. Кто же выступает тираном в обществе? Каждый?..
В Красной Армии в двадцатые — начале тридцатых годов рукоприкладство было редчайшим случаем, за которое командиры строго наказывались, вплоть до увольнения из армии. Но как только ГПУ — НКВД стали применять меры физического воздействия с благословения августейшего Иосифа, так сразу рукоприкладством заразились и командиры Красной Армии, и руководители предприятий. Дурное расходится быстрее, чем доброе.
В одном из артиллерийских полков весной 1943 года стали появляться жалобы на грубость начсостава. При расследовании выяснилось, что «…воспитательная работа по укреплению дисциплины в полку подменялась массовыми репрессиями. Командир полка майор В. Гаевский, его заместитель по политической части майор Г. Бабкин и начальник штаба майор А. Авдеев систематически применяли физические меры воздействия к своим подчиненным бойцам и командирам. В ряде случаев избиение производилось упомянутыми лицами в состоянии опьянения.
Так, Гаевский в апреле избил старшего техника лейтенанта П. Дорошина, нанеся ему несколько ударов кулаком и пистолетом по голове, а после приказал ему становиться для расстрела… В состоянии опьянения нанес удар кулаком, а затем рукояткой пистолета лейтенанту В. Фурсову. Во время попойки в штабной машине нанес удар по лицу красноармейцу Д. Берестову, сбил с ног и угрожал расстрелом.
Подобные преступления допускал и заместитель по политчасти майор Бабкин. 7 апреля… избил пистолетом красноармейца тракториста Д. Симинякина и пытался его застрелить, но пистолет дал осечку. Тогда же избил завскладом ГСМ В. Иванова за отказ выдать горючее сверх нормы. 17 мая, войдя в машину помощника командира полка по снабжению майора Л. Афанасьева, заявил при этом: «А ну-ка вылетай отсюда всякая сволочь», после чего потребовал от Афанасьева выдачи ему водки. Получив отказ последнего, нанес ему удар по лицу.
Начальник штаба полка майор Авдеев в состоянии опьянения незаконно расстрелял старшего сержанта Навака за то, что последний во время посадки в машину СУ-35 доложил о своем заболевании. В результате произведенного выстрела Навак получил тяжелое ранение в голову. За попытку присутствующих при этом красноармейца Н. Виноградова и старшины Д. Чистилина оказать помощь раненому Авдеев пригрозил им расстрелом и приказал выбросить раненого Навака из машины на снег, а поставленному часовому — пристрелить Навака, если он поднимется. Спустя короткое время Навак пытался подняться и, в соответствии с приказанием Авдеева, был добит часовым. После убийства Навака Авдеев совместно с Гаевским послали матери Навака извещение, что ее сын расстрелян как трус и изменник. Следствием установлено, что Навак, будучи совершенно необоснованно оскорблен Авдеевым, назван трусом, заявил: «Неизвестно, кто окажется трусом, я или вы», после чего Авдеев без всякого повода произвел в него выстрел.
Гаевский, Бабкин и Авдеев систематически пьянствовали. Для организации попоек они использовали водку, предназначенную для выдачи личному составу полка. Только в последних числах мая Гаевский и Бабкин забрали со склада к себе в землянку около 80 литров водки…»[16]
Случаи избиения подчиненных в годы войны были распространены как среди старших командиров, так и среди генералитета. Некоторые командующие армиями и фронтами ходили с инкрустированными палками старинной работы (Еременко, Гордов, Конев и др.), чем вселяли в подчиненных страх, желание исполнить их любую прихоть…
Может возникнуть вопрос: а наказывались ли те начальники, которые занимались рукоприкладством? В приведенном выше случае с командованием полка справедливость, как говорится, восторжествовала — все они были осуждены. Но далеко не каждый факт избиения или глумления становился достоянием следственных органов, да и не всякий оскорбленный начальником мог пожаловаться — фронт есть фронт…
Хотя, если брать во внимание систему работы отделов «Смерш», возможности контролировать действия командиров, особенно известных своей грубостью и распущенностью, несомненно были. Ведь могли же сотрудники ведомства Абакумова следить за «политико-моральным состоянием» бойцов и командиров Красной Армии, выслеживая тех, кто хоть слово сказал об ошибках командования, приведших к тяжелым неудачам, огромным потерям, о нехватке боеприпасов, о критике Сталина и т. д.
27
В январе 1948 года генерал-лейтенант К. Ф. Телегин побывал на родине, в Ростовской области. Он все чаще и чаще ощущал смутную тревогу, казалось, что за ним следили, и он видел идущие за ним тени. В Ростове он навестил своего фронтового товарища генерал-лейтенанта Бойко; весь вечер вспоминали войну, общих знакомых, сетовали на устранение Жукова и Рокоссовского. Константин Федорович не спеша пил чай, говорил негромко, изредка поглядывая на обитую дерматином дверь, словно ждал кого-то; он много курил, выходя в коридор, поглаживая обритую наголо голову. Неожиданно раздался стук в дверь, вслед за ним — длинный звонок. Бойко открыл дверь. Перед ним выросли трое, решительно шагнувшие в коридор.
— Телегин? — старший подошел к Константину Федоровичу.
— Я. Что вам надо?
— Вы арестованы. Следуйте за нами.
— Это недоразумение. Ордер на арест есть? — спросил Телегин, все еще надеясь на то, что произошла трагическая ошибка и все уладится.
— Ордер будет предъявлен позже. Одевайтесь!
Телегин надел шинель, папаху, простился с растерявшимися гостеприимными хозяевами.
В Москву его везли под строгим надзором: двое охранников, как истуканы, сидели рядом, не спуская глаз, не отвечая на его вопросы, не вынимая правых рук из глубоких карманов шинелей. «Что же произошло? По какому праву без предъявления ордера схватили и усадили в эту темную, дребезжащую на стыках рельсов каталажку на колесах? — спрашивал себя Телегин, приподняв жесткий воротник генеральской шинели. — Какие обвинения могут мне предъявить? Я не вор, не убийца, не грабитель. Честно выполнил свой долг на фронте с начала и до конца войны. Неужели из-за этого злосчастного ордена…» Вспомнилась прошлогодняя осень, поездка по грибы и на рыбалку. Он с радостью ходил с кошелкой по притихшему, усыпанному пожелтевшими листьями лесу, нетерпеливо разгребая сукастой палкой мхи, успевший слежаться мягкий лиственный покров, раздвигая колючие сучья елей, кустарник, высокие пряди пожухлой травы; его радовали и красноголовые подосиновики, и крепыши-белые с коричневыми шляпками, и желтоватые волнушки — лучшие для соления грибы. Тогда, после исключения из партии, поездка в деревню помогла выжить и выстоять, ибо он прикоснулся к земле-матери, впитав в себя и лесные запахи, и отмытую первыми осенними дождями голубизну неба, и райскую, не нарушаемую никем и ничем деревенскую успокоительную тишину.
Теперь же, в тюремном вагоне, его охватила тревога, не дававшая ему покоя ни днем ни ночью. «Расправились с Жуковым — там ясно, — размышлял Телегин. — Звезды и ордена, слава и народная любовь, — все это затмевало образ отца всех народов. Но зачем им я? Ни на какие должности не претендую. Неужели повтор страшного тридцать седьмого?..»
В Москве генерал-лейтенанта Телегина как особо опасного преступника прямо с вокзала направили во внутреннюю тюрьму Министерства госбезопасности. «Здесь-то наверняка, — думал Телегин, — разберутся».
«Разбор» начался сразу же, как только Константин Федорович переступил порог тюрьмы:
— Снимай, генерал, свои штаны с лампасами! — рявкнул детина в старшинских погонах.
— Позвольте, — пытался сопротивляться деликатный, в недавнем прошлом член военного совета группы войск, депутат Верховного Совета РСФСР, — в чем же я буду?
— Вон, в углу, выбирай любые галифе и гимнастерку.
Телегин подошел к куче брошенного на полу тряпья и ужаснулся — грязное, рваное обмундирование, пригодное, быть может, для половых тряпок или в качестве обтирочной для боевой техники ветоши.
— Я — генерал! Меня не лишали этого звания, и я отказываюсь надевать это, — Телегин покосился в сторону кучи б/у — бывшего в употреблении обмундирования.
— Что? — взревел старшина и сильным ударом сбил с ног генерал-лейтенанта, сорвал с него погоны, сдернул хромовые сапоги, рванул борт кителя.
Через час в камеру вошли еще двое; зверски избив генерала, они выкрутили руки, силой разжали челюсти и клещами вырвали золотые коронки вместе с зубами…
Избиение длилось почти беспрерывно: били ночью, днем, на рассвете; менялись следователи, палачи с полупудовыми кулаками, надзиратели с пустыми, выцветшими глазами и опухшими лицами, и только их жертва, потеряв счет дням, оставалась в луже крови, беспомощной, неспособной ни к физическому сопротивлению, ни к здравому осмыслению происходящего; жертву обливали холодной водой, тащили, как куль, в камеру, бросали на цементный пол, подсовывали к лицу какие-то бумаги…
Не добившись признаний в несуществовавшем заговоре, следователи МГБ на какое-то время оставили генерал-лейтенанта в одиночной камере, позволили спать ночью, вовремя приносили еду, не вызывали на допросы. «К чему бы это? — размышлял Телегин. — Может, разобрались и передумали? Ведь ничего подобного, о чем говорили следователи, и не было».
Человек почти всю жизнь живет надеждами, и если лишить его этого заложенного природой чувства, то в нем надламывается душевное равновесие и начинается медленное расслабление воли и мышц.
Телегин, по его требованию, ждал встречи с должностным лицом МГБ и возлагал большие надежды на это общение, которое, быть может, остановит все эти издевательства, побои, попытки добиться признания в том, чего не было, чего он, Телегин, никогда не делал, и когда ему сказали, что предстоит встреча с самим министром госбезопасности Абакумовым, он испытал двойное чувство. Надежда на освобождение не покинула его, но появилось смутное ощущение тревоги…
Ночь перед встречей с министром он почти не спал — мысленно выстраивал предстоящую беседу, готовил вопросы, вырабатывал ответы на предполагаемые уточнения министра.
Он увидел Абакумова с порога: тот сидел в кожаном кресле за огромным столом под портретом Дзержинского; неподалеку от окна, за небольшим столиком находились следователи, не раз избивавшие Телегина на допросах…
Абакумов зло выматерился, закурил, расстегнул крючки воротника кителя, хлопнул ладонью по столу.
— Давай условимся: откровенно признаешься во всем — облегчишь свою участь. Будешь молчать или отказываться от показаний, — мы вынуждены применить меры физического воздействия…
Абакумов надеялся на то, что Телегин «сломается» на первых допросах, потому и не спешил на встречу с генералом, важно прийти тогда, когда человек будет «готов» сказать все, что надо следствию, после чего можно идти на доклад к Лаврентию Павловичу. Встретив упорное нежелание оговорить Жукова, Абакумов взъярился:
— И не поможет тебе никто! Мы не забыли, как ты по-бл… поступил в сорок первом, когда позвонил товарищу Сталину о немецких танках! Паникер, сука! Мы все знали лучше тебя, но не спешили к товарищу Сталину, как ты, сексот несчастный! Решил выслужиться перед товарищем Сталиным! Не вышло! И не вздумай жаловаться — санкции на твой арест даны свыше. Понял?.. Полководцы, суки, стратеги х..! Попляшете теперь на каменном полу, пока не шлепнут вас всех вместе!
«Теперь стало все на свои места, — думал Телегин. — Им надо расправиться с Жуковым и нужны улики. Их пока у Берия и Абакумова нет. Но они им нужны, и они ни перед чем не остановятся, чтобы добыть их… Берия не забыл тот мой звонок Сталину, теперь мстит».
В камере Телегин бессильно опустился на пол — ноги не держали, закрыл глаза и почувствовал, как по щекам покатились горячие слезы…
В феврале 1948 года Телегина перевели в Лефортовскую тюрьму. Не успел надзиратель закрыть дверь, как в камеру ввалились следователи Соколов и Самарин и после нескольких вопросов повели Телегина в следовательскую. И на этот раз Телегин отказался оговорить Жукова и других «заговорщиков», вызвав гнев следователей. Оба они набросились на едва державшегося на ногах генерала и принялись избивать его резиновыми дубинками, стараясь нанести удары по пояснице, отбить почки, вызвав кровотечение, — это был их испытанный прием…
На третьи сутки, после избиения и пыток, Телегин попросил свидания с Абакумовым.
— Давно бы так! — рявкнул с порога помощник по кровавым делам Берия, узнав, что генерал Телегин попросил о встрече. — Тебя неплохо «отделали», ума-разума добавили. Вот бумага. Садись, пиши.
— Я прошу вас остаться в камере одного, — обратился Телегин к Абакумову.
Абакумов махнул рукой — следователи исчезли за дверью. Телегин с трудом сел за стол, взял ручку, долго не мог приспособиться, чтобы держать ее. Вздрагивающими от боли пальцами с трудом вывел: «Министру госбезопасности т. Абакумову. Прошу меня избавить от пыток. Прошу меня расстрелять. Телегин». Закончив писать, Константин Федорович протянул лист бумаги Абакумову. Тот зыркнул по неровным строчкам, вскочил со стула и, размахнувшись, со всей силой ударил Телегина в лицо.
— Ишь чего захотел, сука! Расстрелять мы тебя еще успеем! — кричал Абакумов. — Но после того, как ты, вошь сибирская, подпишешь все, что нам надо!
— Расстреляйте вот здесь, прямо в камере, у стены, — едва слышно, едва раздвигая разбитые губы, произнес Телегин, прижимаясь спиной к стене, ощущая ее холод.
— Нет, стоя мы тебе умереть не дадим! Ты подохнешь как бешеная собака в собственном дерьме, в кровавой луже! И не здесь, под Москвой, а на Колыме! Бросят тебя к крысам в помойную яму, чтоб ночью волки голодные тебя сожрали! Вот какая тебя смерть ждет! Легкой смерти не жди, нет! Эй! — зычно проревел министр, поворачиваясь, — зайдите! Эту суку в карцер! Налейте на пол холодной воды — ему жарко. Пусть поостынет!
После одного из допросов генерал-лейтенанту Телегину дали на подпись протоколы. Прочитав их, Константин Федорович возмутился:
— Вы же исказили мои показания.
Следователи не растерялись; нагло глядя в лицо генерала, ответили:
— Мы не литераторы, а следователи. Заговор существовал. Нам нужны факты, и мы найдем их с твоей помощью.
Следствие посылало запросы во все стороны, стараясь уличить Телегина в преступлении. На запрос из Москвы о «разбазаривании госимущества» из Сибири, из Омской области прокуратура сообщала: «На ваш № 1/08975 от 9 марта 1948 года. По вопросу имущества, отправленного из Германии в адрес Татарского горсовета генерал-лейтенантом Телегиным. Такое имущество поступило. Все имущество с 31 июля 1946 года используется в городском коммунальном хозяйстве. Прокурор г. Татарска юрист 2-го класса Степанов».
Какое же имущество «разбазаривал» генерал Телегин? — двигатель 420 л/с, генератор переменного тока Сименс — Шукерт мощностью 405 киловольт-ампер, электромоторы, тракторы гусеничные, экскаватор, лесопильная рама (две), маятниковая пила, строгально-фуговочный станок, оборудование кирпично-черепичного завода…
Список прокурора на нескольких страницах. Не рояли, не ковры, не картины знаменитых художников прислал Телегин своим землякам, всю долгую войну обеспечивавшим фронт хлебом, снарядами, обмундированием, а то, без чего невозможна жизнь современного городка районного масштаба.
Сын генерал-лейтенанта К. Ф. Телегина — полковник Константин Телегин ознакомил автора с документом, наиболее полно отражающим изуверские действия сотрудников тюрьмы, пытавшихся «сломать» физически и нравственно невиновного человека. Это письмо Константина Федоровича из тюрьмы В. М. Молотову, который хорошо знал генерала.
Но не знал зэк Телегин, что заместитель председателя Совета Министров СССР Вячеслав Молотов в то время фактически был не у дел, исполняя разовые, малозначащие поручения вождя. Советские газеты сообщили об отъезде Сталина на отдых, но западные журналисты увидели в этой информации нечто другое: плохо замаскированную болезнь вождя. Западные газеты охотно публиковали версии журналистов о том, что Молотов отправил немощного, заболевшего диктатора подальше от Москвы, если вождь выздоровеет, то Молотову несдобровать. Информацию западных агентств не без умысла положили на стол вождя. Падкий на подозрения, мнительный до безрассудства Сталин «клюнул» на версию западных журналистов, и после возвращения в Москву в судьбе Молотова начались перемены — вождь отдалил Вячеслава Михайловича от себя, а заодно и от больших и ответственных дел.
Отъезд Сталина на отдых вызвал беспокойство у Берия и Маленкова: Сталин оставил взамен себя по партийной линии секретаря ЦК Андрея Жданова, а по Совмину — первого заместителя предсовмина, председателя Госплана Николая Вознесенского. Это не могло не насторожить Берия…
Письмо генерала Телегина В. М. Молотову уцелело совершенно случайно, благодаря смелости и мужеству В. Кузнецова, рискнувшего вынести на волю обращение без вины виноватого человека заместителю предсовмина СССР.
«…Истязания продолжались ежедневно… У меня вырваны были куски мяса (свидетельства этому у меня на теле)… Единственным моим желанием и просьбой к палачам было, чтобы они скорее убили меня, прекратили мои мучения. Я терял рассудок, я не мог выносить больше пыток. Палачи, истязав меня, садились мне на голову и ноги, избивали до невменяемости, а когда я терял сознание — обливали водой и снова били, потом за ноги волокли по каменному полу в карцер, били головой о стену, не давали лежать, сидеть я не мог… Меня морили голодом, мучили жаждой, постоянно не давали спать — как только я засыпал, мучители начинали все сначала. Я желал смерти полтора года. Я подписывал протоколы не читая — не было сил, глаза не различали букв…
Вячеслав Михайлович!
Уничтоженный морально, искалеченный физически, я кричу об этой исключительной ошибке, несправедливости и беззаконии, допущенных МГБ, судом и прокуратурой…»
Знал бы Константин Федорович о том, как Молотов отправлял на Лубянку невиновных людей, он бы не стал обращаться к зампредсовмина… В 1937 году, когда Молотов был председателем Совнаркома СССР, к нему с письмом обратился профессор, один из работников наркомата иностранных дел Левин с просьбой о пересмотре дела арестованного по недоразумению доктора Л. Г. Левина, его отца. Молотов начертал на просьбе профессора: «Ежову. Разве этот профессор все еще в наркоминдел, а не в НКВД?» И проситель спустя какое-то время был арестован и исчез навсегда, по-видимому, в одном из лагерей Севера…
Осужденный на двадцать пять лет К. Ф. Телегин попал в Переборское отделение Волголага МВД СССР. Оттуда он обратился к хорошо знавшему его Маршалу Советского Союза К. Ворошилову: «…Я генерал-лейтенант Телегин — член военных советов Московского военного округа, Сталинградского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов, Группы войск в Германии. Осужден судом на 25 лет ИТЛ и лишен всего, что было заслужено 30 годами честной, безупречной службы Родине и партии. Меня обвинили в расхищении социалистической собственности, в хищении и грабеже.
24 января 1948 года я был арестован и посажен во внутреннюю тюрьму. 30.01. мне предъявили обвинение по статьям 58-10-11 УК РСФСР и 193-17. 27 января я был вызван министром Абакумовым, который с самого начала разговора обругал меня матом, обозвал врагом, грабителем и предложил мне дать показания о своей преступной деятельности против партии и государства.
Я потребовал от него конкретного обвинения меня, в чем именно заключается моя враждебная деятельность. Абакумов мне ответил, что, в чем моя вина, я должен сказать сам, а если не буду говорить, то отправим в военную тюрьму и набьем жопу так, что скажешь все сам.
В течение месяца следователи Соколов и Самарин, не давая мне совершенно спать ни днем ни ночью, довели меня до полного отчаяния. Не добившись от меня желаемого им показания об участии в руководстве военным заговором, состоящим из Жукова, Серова и ряда других генералов, шантажируя тем, что Жуков и Серов уже арестованы, они требовали от меня показаний о методах работы и планах заговора…
Сейчас искалеченный и истерзанный, я еще не хочу списывать себя в расход, а сколько хватит сил, опыта, знаний хочу работать во славу нашей партии и Родины. 05.04.1954 г. Телегин».
Ответа Телегин не получил…
Сказались бесконечные издевательства, побои и глумления палачей Берия — Абакумова — у генерала открылся туберкулез легких… И если бы не смерть генералиссимуса, то болезнь доконала бы зэка Телегина…
В 1953 году, когда Г. К. Жуков стал первым заместителем министра обороны, жена К. Ф. Телегина — Мария Львовна позвонила в секретариат маршала и попросила о приеме.
Георгий Константинович встретил М. Л. Телегину у двери, усадил в кресло, сел рядом. Как только Мария Львовна, волнуясь, начала рассказывать о пережитом, маршал приложил палец к губам, дав понять, чтобы она говорила потише, — наверняка в кабинете стояла подслушивающая аппаратура. Сработал синдром семилетнего контроля ведомства Берия за каждым шагом полководца.
Жуков дослушал М. Л. Телегину и позвонил министру обороны Н. А. Булганину:
— Я должен зайти к вам по неотложному делу!
Марию Львовну охватил страх — Булганин не из тех, кто встанет на сторону Телегина. В 1947 году при исключении Константина Федоровича из партии и увольнении из армии Булганин, отвечая на реплику кого-то из присутствующих о явной ошибке разбирательства и необоснованности обвинений, сказал:
— Пусть это будет в назидание другим!
Она потянулась к Жукову, чтобы остановить его, не дать пойти к Булганину, но, увидев решительное лицо маршала, его волевой взгляд, остановила себя…
В начале июля 1953 года в квартире Телегиных зазвонил телефон.
— Здравствуйте, Мария Львовна. Жуков. Пеките блины. Костя возвращается…
Константин Федорович вернулся домой тяжело больным, и сразу же его направили в госпиталь Бурденко, в отделение, где работала Галина Александровна — опытнейший терапевт, жена Г. К. Жукова…
28
Ни Главный маршал авиации Новиков, ни генерал-лейтенант Телегин, ни другие арестованные генералы и офицеры ничего существенного не показали; оставалось одно — фальсифицировать протоколы, включая подделки подписей узников тюрем.
Оттягивать принятие решения по аресту Г. К. Жукова Берия больше не мог — он начал чувствовать охлаждение к себе «отца народов». Нужны были новые процессы, новые «враги народа», готовившие заговоры, покушения, попытки взорвать правительственные здания и… дачи руководителей страны.
Усердиями МГБ дело о «заговоре военных» во главе с Жуковым было, по мнению Берия, в основном отработано, вряд ли Сталин станет смотреть «дело».
И маршал Берия направился к генералиссимусу; тот долго слушал рассуждения своего заместителя, молча расхаживая по кремлевскому кабинету, курил трубку, изредка бросая колючие взгляды то на Берия, то на прихваченного им с собой для убедительности и важности «дела» министра госбезопасности Абакумова.
— Налицо, товарищ Сталин, попытка сколотить военную оппозицию. Настоящий заговор. Вы, — нажимал Берия на «болевые точки» генералиссимуса, — приняли тогда мудрое решение: отстранили Жукова от должности замминистра обороны и направили на округ. Вы мудро распознали его карьеристскую натуру, его желание выглядеть Георгием Победоносцем, убивающим дракона. Он-де победитель гитлеровского рейха!
— Что скажет Абакумов? — Сталин долго смотрел на застывшего у двери министра госбезопасности, ждал, когда тот заговорит.
— Товарищ Берия сказал все, что известно МГБ. Заговор существует, товарищ Сталин.
— Вы тоже подозреваете Жукова? — Сталин остановился рядом с Абакумовым, не переставая колюче смотреть ему в лицо. — Говорите.
— Да, товарищ Сталин. Многие арестованные дали показания.
— О чем? — Сталин почти в упор рассматривал порядком струхнувшего министра, заметил, как подрагивает верхняя губа Абакумова.
— О… разговорах, встречах, намерениях Жукова.
— Какие же намерения Жукова?
— Это мы собираемся выяснить после его ареста.
Сталин сел за стол, открыл «дело», бегло просмотрел несколько страниц, прочел «показания» военных, закрыл папку, прихлопнув ее рукой.
— Мелочь, — глухо проговорил он. — Не верю. У Жукова есть завистники, — встал, долго ходил по кабинету, смотрел тяжело и сердито. — Не верю! Я его хорошо знаю. За четыре года войны я его видел в разной обстановке. Не сомневаюсь в его честности. «Замашки Бонапарта»! У кого из начальников их нет, есть и у тебя, Лаврентий, но ты их ловко скрываешь. Есть и у него, — Сталин кивнул на Абакумова, медленно махнул рукой, давая понять, что министр может идти. Тот круто повернулся и исчез за дверью.
— Ты, Лаврентий, что-то стал темнить. Смотри! — грозно сверкнув холодным взглядом, Сталин недовольно посмотрел на Берия. — Не думай, что я не вижу, не знаю. Ошибаешься. Мне говорят о тебе люди. Не зарывайся.
Берия стоял вытянувшись, бледнея, не находя места рукам, не спуская глаз с генералиссимуса. «Кто мог что-то сказать ему обо мне? Что он имел в виду?» — спрашивал сам себя Берия, испуганно шаря глазами то по лицу вождя, то по «делу Жукова», то по плотно прикрытой двери, за которой, казалось, кто-то подслушивал их разговор.
— А Жукова арестовать не дам!..
Берия долгое время был в состоянии сильного нервного возбуждения: Сталин впервые не поверил ему, не поддержал его предложений, а через неделю, при обсуждении на Политбюро сроков испытания атомного оружия, за которое нес ответственность Берия, поставил под сомнение его доклад, потребовав создания компетентной комиссии с участием крупнейших ученых. Страх перед Сталиным все чаще посещал Берия. Он искал причины неожиданного поворота в их отношениях, вспоминал совещания и заседания с его, Берия, докладами и выступлениями, перебирал в памяти события, людей, встречи, связанные с участием вождя, но ответов не находил. Все, что поручалось ему Сталиным, все исполнялось им в установленные сроки. Где, где зарыта собака, — спрашивал себя Лаврентий Павлович, — кто нажаловался «отцу народов»? Как вернуть былое расположение Сталина к себе? А если припугнуть его новой организацией заговорщиков? Страх — сильная штука! Не случайно вождь недавно потребовал поставить новый замок в двери на ближней даче…
Долгие годы Георгий Максимилианович Маленков, работая в аппарате ЦК заведующим отделом, оставался не на виду; не избранный в состав ЦК, он тем не менее принимал активное участие в деятельности Центрального Комитета, всячески поддерживал Ежова в отношении репрессий, чем завоевал расположение и Сталина, и Ежова. В 1937 году Маленков и Ежов фактически разгромили партийную организацию Белоруссии, сняв с постов руководителей республики и отдав их под суд.
После назначения Берия наркомом внутренних дел Маленков довольно быстро сблизился с ним, и их тесные, если не сказать дружеские, отношения продолжались почти пятнадцать лет, вплоть до ареста Берия. Только на XVIII съезде в 1939 году, а в ЦК Маленков работал с 1925 года, он был избран в состав ЦК и секретарем, оставаясь у руля Управления кадров ЦК ВКП(б), преобразованного из отдела. После доклада в феврале 1941 года на XVIII партийной конференции Маленков избирается в состав Политбюро.
Надо отдать должное Маленкову — в самые трудные годы войны он сравнительно часто выезжал на разные фронты, выполняя поручения Сталина, был под Сталинградом. Какое-то время как член Ставки Верховного Главнокомандования занимался производством самолетов для фронта, принимал участие в укомплектовании Военно-Воздушных Сил РККА боевой техникой и личным составом.
После войны Сталин назначил Маленкова председателем Комитета по демонтажу немецкой промышленности. На этом посту он приобрел и друзей, и недругов: каждый руководитель старался заполучить побольше станочного парка и другого оборудования. Особенно обострились отношения Маленкова с председателем Госплана Николаем Вознесенским, положившие начало обиде и частым столкновениям.
Об этом узнал Сталин и создал конфликтную комиссию во главе с Анастасом Микояном. Комиссия после глубокого и всестороннего изучения и анализа пришла к выводу о прекращении репарационной вывозки оборудования в интересах более быстрого увеличения производства, необходимого для Советского Союза, на заводах Германии. С выводами не согласился Берия, но Сталин занял сторону Микояна, посчитав это решение комиссии наиболее оптимальным — резко сокращались сроки производства товаров первой необходимости.
К удивлению Маленкова и Берия Сталин ввел в секретариат Алексея Кузнецова, возглавившего Управление кадров и курировавшего вотчину Берия, МВД — МГБ. Позиции Маленкова и Берия значительно ослабли, но зато усилились позиции Жданова — Вознесенского. Более того, Сталин «высылает» из Москвы в Ташкент секретарем ЦК Узбекской республики Маленкова. Берия остается в одиночестве.
В это время Абакумов после серьезного разговора со Сталиным разворачивает «дело» о низком уровне советской авиационной промышленности, арестовав командующего ВВС Главного маршала авиации А. Новикова и министра авиационной промышленности А. Шахурина, группу начальствующего состава ВВС и руководителей авиапрома. В папку документов Абакумов вложил подготовленную его ведомством справку о потерях нашей авиации в годы войны и сравнительных данных качества немецких и советских самолетов и положил все на стол Сталину, потребовавшему такую справку после получения анонимного письма.
Сталин не поверил данным, представленным Абакумовым, и вызвал глубокой ночью министра к себе.
— Что это? Откуда у вас такие данные?
— Из официальных источников Германии и США, — вытянувшись по стойке «смирно», ответил Абакумов.
— И вы верите, что немецкий ас Хартманн сбил 352 самолета, из них наших 347?
— Это, товарищ Сталин, официальные данные информационного Центра союзников.
— Врут! Это пропаганда! Не верю этому! — взорвался Сталин, подступая к побледневшему Абакумову. — У вас есть наши данные?
— Только из сводок Совинформбюро.
— Нашел чему верить! Запросите данные у штаба ВВС и Минавиапрома.
— Слушаюсь, товарищ Сталин.
Через несколько дней Абакумов положил справку по данным Минавиапрома и ВВС. Сталин долго ходил по кабинету.
— Разница есть в наших потерях. Но я сомневаюсь в цифрах воздушных побед немецких летчиков. «Хартманн сбил 352 самолета, Баркхорн — 301, Рудорфер — 222. Сто четыре летчика «Люфтваффе» сбили по сто и более самолетов». 300 немецких летчиков сбили 24 тысячи наших самолетов! Невероятно! Покрышкин сбил 59, Кожедуб — 62. Как вы, товарищ Абакумов, все это оцениваете?
Абакумов ждал этого вопроса и готовился к нему заранее, вызвав к себе перепуганного генерала из штаба ВВС и потребовав от него объяснений и доказательств.
— Наши летчики после окончания авиационных школ имели сравнительно малый налет из-за нехватки самолетов, моторов, бензина, боеприпасов. Многие курсанты-выпускники имели налет на боевом самолете десять — двенадцать часов и прибывали на фронт плохо подготовленными, часто становясь добычей немецких асов в первых вылетах. Перед войной основной тип истребителя И-16 уступал Ме-109 и в скорости, и в вооружении — на «мессерах» стояли пушки, а на наших «ишаках» только пулеметы, да еще калибра 7,62. Разве сравнимы 20-миллиметровый снаряд пушки «эрликон» и пулька нашего пулемета ШКАС?
Слушая специалиста, Абакумов думал о том, как все это сказать Сталину. Он и сам спрашивал себя: «А почему мы так отстали в авиации от немцев?» Спросил и у консультанта, но тот сказал только часть правды, ибо говорить о всех причинах было опасно. Не мог сказать генерал о том, что репрессии 1937–1938 годов лишили советскую авиацию ее мозга: лучших авиаконструкторов, испытателей, командиров, готовивших кадры авиации. Практически почти все конструкторские бюро были разгромлены. КБ Поликарпова осталось в составе нескольких человек, и они довели до испытаний лучший по тем временам истребитель И-185, показавший скорость в 635 км/час, вооруженный тремя (!!!) скорострельными пушками. Лучшее КБ мира, руководимое Туполевым, дававшее шедевры советской авиации, превосходившие по многим параметрам немецкие машины, оказалось за решеткой. «На смену Туполеву, — хвастливо заявил Ежов, — придут 100 000 новых преданных Туполевых!» Его АНТ-58, названный в шутку цифрами по статье 58 Уголовного кодекса, впоследствии получивший наименование Ту-2, еще перед войной показал при испытаниях превосходные данные и по скорости, и по бомбовооружению, и по калибрам оборонительного оружия. Но эта полюбившаяся летчикам машина дважды снималась с вооружения, а на фронт шли Пе-2 и Ил-4, уступающие Ту-2 по многим параметрам. «Пешка» — Пе-2 была очень строга на посадке, и малоопытные пилоты часто допускали ошибки, после которых изуродованные при грубом приземлении «Пешки» оттаскивали в дальний капонир для ремонта и восстановления.
Консультант не мог рассказать министру о том, что немецкая промышленность выпустила около 2000 реактивных машин, значительно обогнав англичан и американцев, работавших над созданием подобных машин. Советским летчикам приходилось часто вступать в схватки с немецкими пилотами, имеющими и больший налет, и превосходящие по тактико-техническим данным машины. О многом мог рассказать летчик-генерал, сам воевавший всю войну и сбивший полтора десятка немецких машин и потерявший за четыре года немало прекрасных товарищей по небу…
Теперь, стоя перед пронизывающим, холодным взглядом Сталина, Абакумов, естественно, не мог молчать.
— Есть много причин, товарищ Сталин. Промышленность выпускала устаревшие машины, кадры не всегда хорошо готовились, допускались ошибки при управлении авиационными частями.
— Но нам, — Сталин притронулся трубкой к своей груди, — докладывали неправду, обманывали нас. Я думаю, что надо наказать людей, скрывавших от нас правду и докладывавших нам неправду. Как вы думаете, товарищ Абакумов?
— Согласен с вами, товарищ Сталин.
— Что вы нам предложите?
— Арестовать министра авиационной промышленности и командование ВВС! — отчеканил Абакумов, уловив по взгляду вождя, что попал в цель.
— Хорошо, товарищ Абакумов. Действуйте. Потом доложите. Подскажите, кто курировал авиацию в годы войны?
Сталин, разумеется, знал, кто из Политбюро осуществлял руководство авиацией, но решил испытать Абакумова: назовет ли он того, кто, выполняя указания Сталина, занимался авиацией, или утаит, зная о дружбе Берия и Маленкова?
Абакумов на какое-то время растерялся, понимая, что если он назовет Маленкова, то завтра же Берия устроит ему очередной разнос с оскорблениями и угрозами. Что же делать?
Министр оказался между Сциллой и Харибдой, обе скалы опасны, обе могут раздавить, не оставив мокрого пятна. В подобном положении он оказывался не раз, но в эти минуты его растерянность была замечена Сталиным.
— Чего вы покраснели?
— Забыл, товарищ Сталин. Я уточню и доложу вам. «Что же делать? — спросил себя министр. — Идти к Берия».
Берия пришлось принимать срочные меры по спасению своего друга — он «ослабляет» результат разбирательства по ВВС и авиапрому, подставив под удар своего выдвиженца Абакумова. Вскоре Маленков был возвращен в Москву и после недолгого затишья, по настоянию Берия, «впрягается» в «ленинградское дело».
Кузнецов, выполняя указание Сталина: «В МВД и МГБ нэ все в порядке. Присматрись вниматэлно», с присущей ему активностью, с интересом и вдохновением взялся за новое для него дело, удивляя работников аппарата своим неутомимым желанием быстрее познать все, что ему доверено. За небольшой промежуток времени он освоил свои обязанности, вызвав искреннее уважение всех, кто общался с ним и по работе, и в быту.
Берия, естественно, не мог допустить, чтобы кто-то, кроме него, вмешивался в дела органов, и потребовал от секретаря ЦК впредь не проявлять интереса к МГБ. Кузнецов, не ведая того, сделал первый шаг к пропасти… Он сослался на указание Сталина и сказал, что будет и впредь осуществлять как секретарь ЦК и начальник Управления кадров ЦК ВКП(б) контроль за расстановкой входящих в номенклатуру руководящих лиц этих министерств.
Берия после этого окончательно утвердился в мысли о том, что Сталин не доверяет ему, контролирует с помощью Кузнецова его работу, а может, в будущем вообще, как это он сделал с Молотовым и Ворошиловым, лишит активной деятельности, до предела ограничив его дела в Политбюро. Теперь Лаврентий Павлович видел в Кузнецове своего личного врага… И не один он — Кузнецова люто ненавидел Георгий Маленков. Дело в том, что Кузнецов занял пост Маленкова, много лет занимавшего должность секретаря ЦК и начальника Управления кадров ЦК ВКП(б) и неожиданно смещенного Сталиным в первый послевоенный год.
Георгий Максимилианович тоже заметил перемены в поведении Сталина с приходом в ЦК Кузнецова, которому вождь все чаще и чаще поручал решение самых важных и наиболее ответственных дел. А тут еще Сталин подлил масла в огонь, назвав Кузнецова во время застолья на даче своим преемником…
Теперь пришло время показать генералиссимусу свою преданность. Маленков и Берия старались изо всех сил…
Не забыл Берия несносную выходку председателя Госплана СССР Николая Алексеевича Вознесенского в годы войны, тем более в свое время тот долго работал в Ленинграде… Посоветовался с Маленковым.
Так родилось «ленинградское дело». Как любил повторять начальник следственной части по особо важным делам МГБ М. Рюмин: «Был бы человек — дело найдется». Берия и Абакумов быстро нашли повод для раздувания дела, благо защищать ленинградцев уже некому: их покровитель Андрей Жданов почил в бозе. Поговаривали, что к праотцам Андрей Александрович ушел из жизни не без помощи вездесущего Берия… В конце декабря 1948 года в ЦК пришла очередная анонимка «Об имевшем место подлоге при подсчете голосов при выборах Ленинградского обкома 25 декабря». Писем в ЦК приходило видимо-невидимо, их, как принято, на рассмотрение отсылали в обкомы и горкомы, в министерства и ведомства, а тут — анонимке дали ход. Началось разбирательство. Да, действительно, председатель счетной комиссии А. Тихонов доложил делегатам областной и городской объединенной конференции о единогласном избрании первого секретаря обкома и горкома П. Попкова и некоторых других членов обкома и горкома, хотя, как потом выяснилось, четыре делегата проголосовали против Попкова, два — против второго секретаря Г. Бадаева, 15 — против второго секретаря горкома Я. Капустина и т. д. Налицо нарушение Устава партии, но не такое, чтобы исключать из партии и привлекать к уголовной ответственности виновных членов счетной комиссии и ее председателя. Это, как сказал Абакумов, на «дело» не «тянет».
Тогда же, в январе 1949 года, в Ленинграде проводилась всесоюзная оптовая ярмарка. Решили использовать и ее. При тщательном разбирательстве выяснилось, что ярмарка якобы привела к «разбазариванию государственных товарных фондов и нанесла значительный материальный ущерб государству».
Это была явная подтасовка. Дело в том, что 14 октября 1948 года на заседании бюро Совета Министров СССР под председательством Г. Маленкова обсуждалась проблема остатков залежавшихся товаров и мерах их реализации. А сумма некупленных народом товаров не маленькая — 5 миллиардов рублей. 11 ноября 1948 года бюро Совета Министров СССР приняло постановление «О мероприятиях по улучшению торговли»: «Организовать в ноябре — декабре 1948 года межобластные оптовые ярмарки, на которых произвести распродажу излишних товаров…» Постановление подписал Маленков.
Выполняя требование постановления, Министерство торговли СССР и Совет Министров РСФСР решили провести оптовую ярмарку в Ленинграде. 13 января 1949 года председатель Совета Министров РСФСР М. Родионов направил Маленкову информацию об открытии ярмарки в Ленинграде. Последний, отлично зная, что подобные мероприятия проводятся по решению бюро Совмина СССР, написал на полученной информации провокационную резолюцию: «Берия Л. П., Вознесенскому Н. А., Микояну А. И. и Крутикову А. Д. Прошу вас ознакомиться с запиской тов. Родионова. Считаю, что такого рода мероприятия должны проводиться с разрешения Совета Министров. Маленков». Ярмарка проводилась по прямому решению Совмина, но Маленков делает вид, что ничего об этой ярмарке и не знал, что это нарушение правительства РСФСР. Маленков как секретарь ЦК срочно готовит заседание Политбюро ЦК ВКП(б), на котором 15 февраля 1949 года принимается постановление «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) товарища Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) т.т. Родионова М. И. и Попкова П. С.».
В постановлении отмечалось: «Политбюро ЦК ВКП(б) считает, что отмеченные выше противогосударственные действия явились следствием того, что у т.т. Кузнецова, Родионова, Попкова имеется нездоровый, небольшевистский уклон (слово «уклон» нравилось Сталину еще с двадцатых годов, и Маленков прибегает к любимой лексике вождя. — А. С.), выражающийся в демагогическом заигрывании с Ленинградской организацией, в охаивании ЦК ВКП(б), который якобы не помогает Ленинградской организации, в попытках представить себя в качестве особых защитников интересов Ленинграда, в попытках создать средостение между ЦК ВКП(б) и Ленинградской организацией и отдалить таким образом Ленинградскую организацию от ЦК ВКП(б).
В связи с этим следует отметить, что т. Попков, являясь первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), не старается обеспечить связь Ленинградской партийной организации с ЦК ВКП(б), не информирует ЦК партии о положении дел в Ленинграде… встает на путь обхода ЦК партии, на путь сомнительных закулисных, а иногда и рваческих комбинаций, проводимых через различных самозваных «шефов» Ленинграда вроде т.т. Кузнецова, Родионова и других…
ЦК ВКП(б) напоминает, что Зиновьев, когда он пытался превратить Ленинградскую организацию в опору своей антиленинской фракции, прибегал к таким же антипартийным методам заигрывания с Ленинградской организацией, охаивания Центрального Комитета, якобы не заботящегося о нуждах Ленинграда, отрыва Ленинградской организации от ЦК и противопоставления Ленинградской организации партии и ее Центральному Комитету»[17].
Берия упросил Маленкова лично участвовать в рассмотрении «дела», и 21 февраля 1949 года тот выехал с группой в Ленинград. Уже на следующий день Маленков собирает объединенный пленум обкома и горкома и сообщает обескураженным партийным активистам, хорошо знавшим своих руководителей, о существовании в Ленинграде антипартийной группы во главе с Попковым, Капустиным и поддерживающими их Кузнецовым и Родионовым, о том, что группа малочисленна и никто из ленинградских руководящих партийных работников не будет привлечен к ответственности. Маленков шел на заведомый обман, ибо в разговоре с Берия они условились после наказания руководителей расширить круг виновных в деятельности антипартийной группы.
Выступления участников пленума обкома и горкома носили «дежурный характер» и не дополнили доклада Маленкова. Но прибывшие из Москвы работники аппарата ЦК подготовили проект постановления: Кузнецов, Родионов, Попков, Капустин обвинялись в антипартийной деятельности и участии в работе группы.
Эстафету в раскрытии «антипартийной группы» подхватил по приказу Берия министр госбезопасности Абакумов, приступивший к фабрикации государственного преступления, подготовке фиктивных информаций, «документов», обличающих некоторых из «группы» Кузнецова в шпионской деятельности.
В июле Абакумов направил Сталину докладную записку о подозрении в шпионско-разведывательной деятельности второго секретаря Ленинградского горкома Я. Капустина и о материалах, которые якобы по указанию начальника ленинградского управления МГБ П. Кубаткина должны были уничтожить, но недремлющее око безопасности предотвратило эту акцию. Сталин приказал арестовать Капустина и Кубаткина, и после проведения первого этапа «обработки» по известной «методике» Капустин дал нужные Абакумову показания о своей связи с английской разведкой, о намерении антипартийной группы «создать Компартию РСФСР»… Как и планировалось, Капустин «назвал» своих соучастников в шпионских делах. 21 июля 1949 года Абакумов лично доложил Сталину о раскрытии центра английской разведки в Ленинграде, резидентом которой был Капустин.
13 августа 1949 года в кабинете секретаря ЦК Маленкова были арестованы без санкции прокурора секретарь ЦК ВКП(б), «любимец вождя народов» Алексей Кузнецов, Петр Попков, председатель Совета Министров РСФСР Михаил Родионов и Лазутин.
В целях обвинения Вознесенского используется неожиданно появившаяся докладная записка заместителя председателя Госснаба СССР М. Помазнева о значительном занижении Госпланом СССР плана промышленного производства на I квартал 1949 года. Это был первый звонок в «деле» Николая Вознесенского. Срочно готовится постановление Совета Министров СССР: «Тов. Вознесенский неудовлетворительно руководит Госпланом, не проявляет обязательной, особенно для члена Политбюро, партийности в руководстве Госпланом и в защите директив правительства в области планирования… В Госплане культивировались непартийные нравы, имели место антигосударственные действия, факты обмана правительства, преступные факты по подгону цифр и, наконец, факты, которые свидетельствуют о том, что руководящие работники Госплана хитрят с правительством».
По предложению Берия 5 марта 1949 года Вознесенский решением Совета Министров СССР снимается с должности председателя Госплана и — осенью — арестовывается. Страна лишилась одного из талантливейших экономистов, организатора народного хозяйства, отличавшегося неординарным аналитическим мышлением, неистовостью в работе, умением мобилизовать в годы войны все ресурсы и возможности страны на достижение победы.
Берия и Абакумов в спешном порядке находят еще одну «зацепку». Уполномоченный ЦК по кадрам Госплана Е. Андреев обнаружил утрату за пять последних лет нескольких документов, которые могли быть уничтожены за ненадобностью. «Бдительные» Берия и Абакумов в этом факте видят еще одно преступление председателя Госплана перед государством, а значит, еще одна статья в обвинении Вознесенского. Вознесенский, естественно, отказывается от этого обвинения, ибо утраченные документы числились не за ним лично.
По указанию Маленкова председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) М. Шкирятов подготовил записку о «Непартийном поведении Вознесенского Н. А.», в которой член ВКП(б) Вознесенский обвинялся в занижении Госпланом развития промышленности, и уже 9 сентября услужливый Шкирятов представил Маленкову решение Комиссии партийного контроля с предложением исключить Вознесенского из партии, из ЦК ВКП(б) и привлечь к судебной ответственности. В спешном порядке, путем опроса, эти предложения КПК были утверждены Пленумом ЦК. Сценарий, разработанный Маленковым и Берия, выполнялся всеми действующими лицами с завидной оперативностью и четкостью.
Николай Алексеевич Вознесенский защищался как мог, но вскоре убедился, что его усилия тщетны, ибо против него действовал хорошо отлаженный механизм, против которого не сможет устоять ни он, ни кто другой. Все его попытки внести ясность в хитросплетенное дело и объяснить полную абсурдность предъявленных ему обвинений натыкались на железобетонную стену молчания Маленкова и Берия, — он не смог с ними даже встретиться и объясниться. Вокруг его имени образовалась пустота; его фамилия называлась теперь шепотом, да и только в узком кругу. Многие из тех, кто работал с ним рука об руку много лет, теперь боялись об этом говорить вслух, ожидая едва ли не каждый день ночного визита сотрудников МГБ.
О чем думал в те тяжелые дни Вознесенский? Еще совсем недавно он — член ЦК партии, депутат Верховного Совета, академик — участвовал в работе Политбюро, ночами напролет трудился над планами и балансами огромной, истерзанной войной, бедной, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей страны, — теперь, изгнанный со всех постов, исключенный из партии, отверженный в свои сорок семь лет от народа, никому не нужный, ожидающий несправедливого, состряпанного МГБ суда…
Его арестовали темной октябрьской ночью. Войдя в камеру-одиночку, Николай Алексеевич обессиленно упал на пол, коснувшись руками холодного, мокрого бетона, сжал зубы и простонал: «За что?..»
«В целях получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группы Маленков лично руководил ходом следствия по делу и принимал в допросах личное участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные пытки, побои и истязания»[18].
Маленков понимал, что во время судебного процесса кто-то из обвиняемых может сказать о своей непричастности к группе и тем самым поставит под сомнение выводы следствия, а главное — заставит усомниться в существовании разветвленной антипартийной группы. Он отдал распоряжение о проведении более «тщательного расследования», что, естественно, вызвало массовые аресты ни в чем не повинных людей в Ленинграде и за его пределами. Арестовывали даже тех, кто работал в блокадном городе в годы войны, кто хоть чем-то был связан с руководителями Ленинградской областной и городской организаций, кто вступал в партию в Ленинграде. Свыше 2000 руководителей было освобождено от занимаемых должностей, многие из них осуждены по 58-й статье. «Заметали» даже тех, кто ни разу в жизни не видел в глаза ни Попкова, ни Родионова, ни Капустина, не слышал их выступлений.
Первого секретаря Крымского обкома партии, бывшего председателя Ленинградского облисполкома Николая Соловьева вызвали в ЦК ВКП(б), торопили с прибытием: его, Соловьева, якобы ждал сам Маленков. Выручил генерал армии Маркиан Михайлович Попов, знакомый по Ленинградскому фронту, — предложил воспользоваться самолетом командующего войсками Таврического военного округа. Первый секретарь обкома явился в секретариат ЦК, откуда его направили к Матвею Шкирятову — заместителю председателя Комиссии партийного контроля. Разговор, как обычно, шел о текущих делах, об урожае в Крыму, но разговор, как показалось Соловьеву, искусственно затягивался. «Милок» — так называл Шкирятов прибывших на беседы (так называли и самого Шкирятова), — казалось, явно не спешил.
— Ты, милок, ступай, почитай часочка полтора-два газетки, а мы тебя вызовем.
Соловьев вернулся через час с четвертью — не усидел в холле за газетами, настораживала искусственная затянутость беседы.
В конце беседы «случайно» позвонил министр госбезопасности Абакумов и попросил Соловьева заглянуть к нему. Николай Васильевич сел в машину и отправился на Лубянку, откуда он не вышел и исчез бесследно… Лишь единожды его видел в подвале Лефортовской тюрьмы работавший в годы войны секретарем Ленинградского обкома, а впоследствии, перед арестом, первым секретарем Новгородского обкома, чудом избежавший расстрела Григорий Харитонович Бумагин.
Особенно больно и долго мстил Берия за обиду в годы войны Николаю Вознесенскому. Вслед за ним арестовали его сестру — секретаря Куйбышевского райкома партии Ленинграда Марию Алексеевну Вознесенскую, брата Александра Алексеевича, работавшего ректором Ленинградского госуниверситета, а потом министром просвещения РСФСР. Почти двадцать членов семьи Вознесенских по указанию Берия и Абакумова было репрессировано. Не пожалели 85-летнюю мать Вознесенского — Любовь Георгиевну. Ее сослали в Сибирь, в Туруханский край, туда, где когда-то при царе ходил на охоту, ловил рыбу, участвовал в пьяных загулах рыбаков будущий «отец всех народов». Там и сгинула Любовь Георгиевна Вознесенская.
Всю осень сорок девятого года продолжались массовые аресты с применением испытанных в подвалах Лубянки и камерах Лефортовской тюрьмы пыток и истязаний.
Основательно «обработанного» костоломами Абакумова секретаря ЦК Алексея Кузнецова допрашивали Маленков и Булганин в кабинете Берия (был такой и в Лефортовской тюрьме!), добиваясь от измученного, зверски избитого, в синяках и кровоподтеках, признания в предъявленных ему следствием преступлениях. Но честный, порядочный коммунист долго молчал, пока Берия, Маленков и Булганин не приложили рук своих к скуластому, в кровь разбитому лицу секретаря ЦК. Сказал, что ни в чем не виноват, никаких сепаратистских замыслов у него не было и нет…
Избиения и пытки продолжались весь 1950 год; арестованных подвергали зверским издевательствам, свирепым истязаниям, беспощадному садизму, угрожая расправиться с женами, матерями и детьми. Пытаясь окончательно сломить обессилевших людей, костоломы Абакумова безжалостно расправлялись с теми, кто отказывался подписать протоколы допросов, надолго отправляя обвиняемых в карцер, лишая их возможности слышать человеческую речь, шум ветра и удары капель дождя о тюремный подоконник. Избитые, с кровоточащими ранами, с посиневшими и отекшими от побоев лицами, люди теряли счет дням и ночам, переставали ощущать холод ледяного пола камер-одиночек, подолгу пребывая в бессознательном состоянии. Их обязывали под страхом новых пыток заучивать наизусть нужные сатрапам Берия показания для суда, строго карая за малейшие отступления от написанных следователями текстов. Арестованным внушали необходимость этих показаний в целях воспитания членов партии на «их ошибках, их враждебной деятельности», преподнесения урока для других коммунистов. «Любой приговор, — утверждали следователи, — не будет приведен в исполнение». В ход шли обман, шантаж, угрозы и оскорбления.