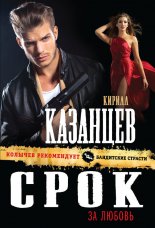Учебник рисования Кантор Максим

- Женщины, - пояснила Елена Михайловна, - торгующие своим телом.
- За деньги?
- Именно за деньги. Не очень большие деньги, полагаю, но все-таки деньги.
- Теперь такая инфляция, - заметил Голенищев, - что это практически альтруизм.
- Какая низость, - высказал свое мнение по этому вопросу Соломон Моисеевич, - это абсолютно аморально. Надо милицию пригласить.
- Не станет милиция связываться. Привыкли.
- Вы хотите сказать, - Рихтер поднял брови, - что унижение людей, моральная нечистоплотность - стали нормой? Никогда не поверю!
- Я с ними поговорю, - сказал Павел и встал.
- Сиди, - сказал Кузнецов, - не хватало, чтоб на свадьбе глаз подбили. У меня друг на свадьбе ввязался в историю. - Он осекся, сообразив, что скажет лишнее. Его опыт никак не совпадал с опытом других гостей. Расскажи он им про драку на свадьбе Сникерса, про нож, который он в последний момент выбил у отца невесты, то-то бы они разахались. Небось, нож держали в руках, только когда бутерброд маслом мазали.
- Все-таки надо позвать милицию, - воззвал к присутствующим Соломон Моисеевич, - я определенно настаиваю на своем мнении.
- Вот ты и позови, - сказала Татьяна Ивановна, - вечно других подначиваешь.
- Я подначиваю? Просто не знаю номер телефона.
- Всегда все должны делать другие. А ты, барин, приказы шлешь.
- Никогда не звоню в милицию, - надменно сказала Елена Михайловна, - я милицию презираю.
- Я выйду и поговорю, - сказал Павел. - Сейчас.
- Успокойтесь, в проститутках ничего опасного нет.
- В конце концов, лучше проститутки в соседях, чем ГБ.
- Да уж, не тридцать седьмой год.
- И не семьдесят седьмой. Помните, как мы книги жгли?
- «Архипелаг» сожгли, а Соломон на всякий случай еще и «Винни-Пуха» спалил.
- Дед всегда ждал ареста.
- А помните, Соломон считал, что его прослушивают?
- Дед думал, что за ним из телевизора подглядывают, и накрывал телевизор пальто.
- Кстати сказать, тем самым испанским пальто - вот когда пригодилось.
- А вдруг правда подглядывали?
Крики усилились. Слушать их было неприятно.
- А почему вы считаете, что это не ГБ? - беспокойно спросил Соломон Моисеевич. - Вполне возможно, что истязают кого-то. Да-да, времена возвращаются.
- Кого сейчас ГБ истязает, помилуйте, Соломон Моисеевич. Комитетчики бедствуют, им не до нас. Зарплата копеечная; бедолаги крутятся, чтобы деточек прокормить. Госсекреты продают - да вот беда: не берет никто. Им только рихтеров сейчас ловить. Какой с вас навар, - и Голенищев принялся объяснять Соломону Моисеевичу особенности российского бюджета. Рихтер слушал и ничего не понимал.
- В пятьдесят втором, - сказал он, - меня взяли по доносу соседа.
- Хорошие люди были, приветливые, - не замедлила с репликой Татьяна Ивановна. - Если бы не твое барство, если бы не твое всегдашнее наплевательство, ничего бы не случилось. Зачем ты их до этого довел, зачем? Тебя сколько раз звали с людьми посидеть в праздники, а ты с ними даже на лестнице не здоровался.
- Согласись, бабушка, это не повод для доноса.
- Сосед потом так плакался, так убивался! Он ведь не по злобе - так, от обиды. Довели человека. Ты ведь кого хочешь своим барством доведешь.
- Дед чудом не погиб в лагерях. Если бы не реабилитация пятьдесят третьего…
Что они знают про лагеря, думал Кузнецов. Лишь бы языком молоть. Кого из них по-настоящему прогнали через парашу, кто из них хлебал баланду? Сунуть бы любого из вас на пару часов в колонию в Сыктывкар. Что за повадка у людей, все время врать. Рассказать бы им, как бывает.
- По крайней мере, шпану в соседней квартире никто из нас не провоцировал.
- Время смутное, нечисть из всех щелей лезет.
- Такая страна.
- Милиции нет, комитетчиков нет, распустились.
- Сталина на них нет.
Кузнецов хотел было высказать свое мнение на этот счет, но опять удержался. Это они не в том смысле говорят, подумал он. Это они не всерьез. Сталина им не жалко. Здесь все время шутят.
Теперь за дверью кричало сразу несколько человек, ругались грубые голоса.
- Это каждый день так?
- Притон.
- Сегодня вся страна - притон!
- Если так, если так…
- Леня, только ты не ходи, умоляю, - вскрикнула Инночка. - Кто они и кто ты. Подумай! Ведь это дикари!
- Берегите себя, Леонид, - сказала Елена Михайловна, - интеллигент должен знать себе цену. Не выходите, я вас прошу.
- Останусь и буду охранять вас. - Голенищев склонился к ее руке и поцеловал в ладонь.
- Я сама выйду, - сказала Татьяна Ивановна, - что за безобразие.
Струев, как всегда без колебаний переходивший к действию, легко встал и пошел к дверям. Он сделал это так быстро, что никто, даже осторожный Соломон Моисеевич Рихтер, не успел сказать и слова. Впрочем, для знавших Струева в этом не было ничего особенного: ясно, что если присутствует Струев, то действий ждут от него, от кого еще? Странно было бы, если бы он не вышел. Он сам бы первый и удивился. Он толкнул дверь и ступил на лестничную площадку. Его встретили два человека, каждый был неприятен.
Они улыбнулись Струеву; какой ты дурак, говорила эта улыбка, ну иди сюда, дурак, иди. Струев улыбнулся в ответ, он знал, что его кривозубый оскал выглядит страшнее. Потом Струев увидел, что они смотрят через его плечо; позади Струева в проеме двери встал Кузнецов. Руки Кузнецова висели вдоль его тела. Он поднял одну из них, тронул Струева за плечо, чуть подвинул. Теперь они стояли рядом.
- Вы ко мне? - спросил Кузнецов. Он всегда говорил эти слова, когда доходило до драки. В его понимании эта фраза значила много: я здесь, я беру все на себя, не смотри на других, тебе надо иметь дело со мной.
Существует распространенная теория драки, основное положение гласит, что искусство рукопашного боя всегда обеспечивает победу над неграмотной силой. Важно знать приемы: противопоставленные невежеству, они побеждают. Руководствуясь этим соображением, новые криминальные структуры вербовали спортсменов - и спортсмены, понимая, что спорт денег не принесет, шли в бандиты. Шли они по тем же соображениям, по каким художники шли заниматься рекламой, а поэты - работать менеджерами по связям с общественностью. Если бы Струев дал себе труд задуматься над этим, он бы присмотрелся к противникам - теперь любой неблагонадежный тип мог оказаться чемпионом по боксу. Струев, однако, был слишком высокого мнения о себе, ему безразлично было, кто перед ним и сколько их. Их всего-навсего много, обычно говорил Струев, а я - целый один. Нарвешься когда-нибудь, говорил осторожный Пинкисевич, но Струев только скалился в ответ. Кузнецов же, видевший много драк, спорт презирал. - Какая разница, кто больше раз стукнет, сказал он однажды Сникерсу, глядя по телевизору боксерский матч, - важно, кто насмерть попадет. - Пока замахиваться будешь, тебя такой парень двадцать раз уронит, - возразил Сникерс, с почтением относящийся к авторитетам. Я-то встану, - заметил на это Кузнецов, - пусть он встанет, если я попаду.
Драки в этот раз, однако, не случилось.
Человек из квартиры напротив улыбнулся примирительно и сказал:
- Кричу, стучу. Уснули?
- Что надо?
- Перенести одного в машину. Плохо парню, сердце отказало.
- Вдвоем не справитесь?
- Валерка машину подгонит, а мы с тобой клиента в лифте спустим.
- Ты «скорую» вызови.
- Пока приедет, три раза помрешь.
- Это верно.
- Помогите, мужики.
- А ты случайно своего клиента не шмальнул? - спросил Кузнецов.
- Ты что? Поди посмотри - все по-честному. Перестарался клиент - до молодой девки дорвался. Ты зайди, какие секреты.
Струев развернулся и ушел с площадки. Носить больных было не по его части, к благотворительности он склонности не питал, проститутками не интересовался.
- Что же там произошло? - спросил Соломон Моисеевич, намазывая хлеб маслом и кладя сверху кружок докторской колбасы.
- Помер кто-то. - Струев налил водки. Он по обыкновению пил рюмку за рюмкой - не для того, чтобы напиться, а просто, чтобы себя занять. Скучно у Рихтеров. Соломон, конечно, занятен, но слишком стар. Павел ему нравился, но жених на свадьбе - зрелище жалкое. Он не возражал подраться, все-таки занятие, но и драки не вышло.
- Помер человек, - повторил он, - просто помер.
- Может быть, помощь нужна? - полюбопытствовал Рихтер. - Может быть, врача вызвать? - он прожевал бутерброд, извлек колбасную кожуру, застрявшую между зубами.
- Сами разберутся.
- И все-таки надо вызвать врача.
- Не суйся не в свое дело, - отчеканила Татьяна Ивановна.
- Я считаю, надо обратиться к врачу.
- Тебе же сказано: помер человек! Все уже - помер! При чем тут врач!
Соломон Моисеевич покачал головой, поджал губы. Ну как хотите, говорила эта мимика, я со своей стороны сделал все что мог, а вы уж сами решайте. Он подержал колбасную кожуру, раздумывая, куда ее положить, потом просто разжал пальцы, и кожура упала на соседнее блюдце.
- А ты его ножом, случайно, не пырял? - сказал тем временем Кузнецов.
- Ты чего. Сам погляди. От любви мужик помер.
- Ладно, пошли.
- Люди тут странные. Зовешь - не слышат. Стучишь - не открывают. Они тебе кто?
- Родня.
- Интеллигенты, что ли?
- Ну.
- Евреи, что ли?
- Да нет, - уклончиво сказал Кузнецов, - так, не пойми кто.
- Я их видел, уроды. Что случись, не достучишься.
- Это верно.
- Ты ногами вперед не неси, примета плохая.
- Какая разница.
- Все-таки.
- Ему - без разницы.
- Хороший ты мужик
- Как все.
- Тебе, может, с работой помочь? Хорошие деньги.
- Ну помоги.
- А давай завтра встретимся, потолкуем.
- Ну давай.
- Анжелика наша понравилась?
- Девка как девка.
VIII
Струев пил и присматривался к Инночке. Позвать в мастерскую? Интересного в ней мало, одна экзальтация, но хоть вечер не зря пройдет. Неохота возвращаться одному. Он представил, как входит в пустую грязную мастерскую, стелит серую простыню на диван, выкуривает на ночь сигарету. Да, определенно ему нужна на ночь женщина. И разве от него именно этого не ждут? Приходил Струев, расскажут они, наговорил всякого, выпил две бутылки, увел с собой женщину - ну типичный Струев. Вы ведь этого хотели?
- Хотите, я вас провожу? - спросил он Инночку и добавил. - Или вы меня проводите.
Инночка ахнула; с ней так никогда не говорили. Впрочем, действительно, час поздний, пора и расходиться. Леонид Голенищев троекратно расцеловал Лизу с Павлом, а Рихтеру посулил интервью в газете. «Взгляды у вас, Соломон Моисеевич, неактуальные, но вызывают на полемику». Струев подал Инночке пальто, придержал за плечи. Мальчик Антон, осмелев, обратился к Струеву еще раз:
- Так вы считаете, что жизнь похожа на искусство или искусство на жизнь?
Струеву уже было не до разговоров - он был занят спутницей.
- Ни то, ни другое, - ответил он, - ничего общего у них нет.
- А как же? - спросил мальчик, но Струев уже ушел.
Рихтер остался доволен вечером, и даже Татьяна Ивановна отметила, что все было хорошо. «Наш сын, - патетически заявила она, - смотрит на нас и с нами радуется». «Его дух с нами всегда», - рассеянно сказал Соломон Моисеевич, ища палку. Елена Михайловна, сощурясь, глядела на родственников. Она дала Антону большое яблоко и назвала Лизу «дочкой», а Лиза поцеловала ее. Рихтера упаковали в пальто, стариков проводили до такси.
- А вы, Леонид? - спросила Елена Михайловна.
Голенищев смотрел ей в глаза и улыбался.
- Спасибо за вечер, - неожиданно он притянул Елену Михайловну к себе и поцеловал в шею.
Засыпая рядом с Лизой, Павел снова назвал ее «женой». - Спи, жена, - сказал он, - браки совершаются на небесах. Лиза положила голову ему на плечо. Павел обнимал ее и думал про стриженую девушку с эльгрековским лицом. «Сколько ей может быть лет, - думал он, - если она успела несколько раз выйти замуж? Впрочем, кажется, Леонид сказал, что ей было семнадцать. Значит, теперь лет двадцать пять, как мне. Им всем непременно нужны поклонники и мужья, без этого они не могут. Только на картине она остается вечной невестой». Темнота заполнила комнату, и картина «Вид Толедо» растворилась в ней. Павел смотрел на то место, где висела картина, и ему мерещились струи ливня и крепостные башни.
9
Пока пишешь картину, нельзя думать о зрителе. Это почти невозможная задача: все мы воображаем себе некоего судью - того, кому доверяем, того, кого любим, или того, от чьего мнения зависит судьба этой картины. Однако думать об этих людях и их мнениях нельзя. Потом, когда картина будет закончена, ей придется выдержать взгляды разных людей; и для того чтобы у нее было достаточно сил их выдержать, она должна напитаться независимостью, стать самостоятельным существом.
Существуют распространенные соображения по поводу роли художника на рынке и при дворе. Обычно приводят примеры отношений Веласкеса и Филиппа, Тициана и Карла V, Гойи и королевской семьи, рассказывают о том, что в современном плюралистическом либеральном обществе рынок уже не диктует заказ художнику, но, напротив, формируется, учитывая бесконечное собрание индивидуальностей. Приводят в пример художников XX века (особенно послевоенных), добившихся славы и признания при жизни. Это, вероятно, правда.
Однако правда и то, что лучшие произведения искусства создавались изгоями или такими признанными художниками, которые потеряли признание и сделались одинокими. Гойя не написал ничего более значительного, чем фрески Дома Глухого, то есть те фрески, которые он делал глухим, забытым всеми стариком; Рембрандт стал великим Рембрандтом, оставшись совершенно один; Микеланджело отстаивал свою независимость от Папы, рискуя карьерой и жизнью; Козимо Тура умер в нищете, все потеряв. Самые великие судьбы - это судьбы беглецов и одиночек. Искусство не выдумало фигур более прекрасных, чем Данте, Рабле, Вийон, Ван Гог, Сезанн, Толстой.
Сказанное выше ни в коем случае не рецепт. Отрадно то, что одинокую позицию невозможно имитировать, иначе количество трагических судеб творцов множилось бы бесконечно. Слава богу, этого не происходит - множатся лишь рыночные удачи. Соблазн мира всегда сильнее, чем соблазн подлинности; просто в силу того, что подлинность ничем не соблазнительна, биографии изгоев ничем не симпатичны. Другое дело, что после их смерти общество обычно обращает на них внимание и пускает их товар в оборот, но ведь трудно дождаться собственной смерти и посмотреть, что же будет потом, да и будет ли?
Простое правило искусства состоит в том, что оно возникает не качестве добавления к жизни и без того прекрасной, но как замещение существования на нечто иное. В религиозном искусстве жизни земной противопоставлялась жизнь горняя, и в светском творчестве происходит примерно то же. Венецианская ведутта не добавление к панораме венецианских каналов, это замена одного на другое, красоты преходящей - на непреходящую. Портрет - не есть добавление к реальному существу: это нечто, что остается взамен смертного человека. Самые великие картины, те, которые претендовали на описание и структурирование бытия - то есть такие картины, которые писали Сезанн, Ван Гог, Брейгель и Гойя, - такие картины в известном смысле противопоставляют себя реальности. Всякая картина есть проект иного бытия, иначе организованного, противного существующему. Представляется лишь естественным, что художник должен обменять свое собственное существование на созданную им идеальную модель. Расплата происходит немедленно и без отсрочки. Это с практической точки зрения бессмысленная коммерция - но единственно возможная.
Глава девятая
НА ПРОДАЖУ
I
Первый российский президент испытывал необычайный прилив вдохновенных сил именно оттого, что все вокруг рушилось. Если ставропольский постмодернист, истерзанный сомнениями утопист-механизатор, страдал оттого, что не мог подивиться плодам рук своих, переживал, что провозглашенная им идея «общеевропейского дома» оказалась фикцией и постройки нет как нет, то его преемник мог наблюдать плоды своего труда ежесекундно. Разве обязательно видеть нечто построенное как результат своего труда? Равно любопытно видеть и нечто разрушенное. Разве деятельность - это непременно строительство? С этим можно поспорить. Деструкция - тоже деятельность, не менее почетная, про это умные люди тома написали. Есть натуры, которым надо по кирпичу возводить дом, но не менее увлекательно по кирпичу от упомянутого дома отколупывать - и смотреть, когда же вся эта махина наконец завалится набок, треснет вдоль, да и рухнет? Российская империя развалилась, и плоды труда своего первый Президент озирал с благодушием полководца, оглядывающего поле брани, где нагромождены трупы врагов. Иногда в редкие минуты трезвости его начинало беспокоить - а все ли гладко и благополучно разваливается? Не пострадал ли кто? Печать отеческой заботы в такие минуты проступала на его мясистом потном лице. Он делался строг. Кто-то говорил ему некогда или он в телевизоре подглядел мысль о том, что государь российский, он своим мужичкам вроде отца родного, т.е. порет и жучит, а захочет так и с кашей съест, но и отвечает за них, убогих. Этот образ строгого отца крайне понравился президенту. Озирая руины, он подчас испытывал некое волнение за один отдельно взятый обломок и призывал к себе своих мамок и нянек, то бишь министров и финансистов - задать строгий отеческий вопрос что там? Как оно, вообще? Ему объясняли, что все в порядке: страна валится в тартарары согласно задуманному плану. Ах вот как, говорил президент, ну тогда ладно, но смотрите у меня! Лиходеи! Знаю вас! Валите-то, валите, этта панимаешш, правильное решение, разваливайте эту долбанную империю к свиньям собачьим, но чтобы мужика - ни-ни! Русского мужика в обиду не дам! Не попущу! Да не извольте волноваться, говорили ему обыкновенно, разве ж кто мужика обидеть может, если у него такой отец родной. Да мужик за вами как за каменной стеной. Молиться он на вас, подлец неблагодарный, должен, вы ж гарант его безопасности. И президент полюбил называть себя «гарантом», ему так за народ делалось спокойнее. В самом деле, если он - гарант безопасности и он - все еще здоров и в теле, то и с мужиком должно быть все в порядке. Похмельный и вялый, президент выходил на трибуны, чтобы подбодрить свой народ во дни испытаний. - Что, страшно? - говорил он в такие минуты. - То-то страшно, батюшка! - голосили мужики. - Ну не бойтесь, я ваш гарант, панимаешш. Думаете легка ноша? Так-то, мужики. Зато вы за мной как за каменной стеной. И это было неплохо для русского мужика, потому что других стен в его отечестве уже совсем не осталось. Армия ни на что не годилась, государства Варшавского пакта разорвали соглашение с Россией и влились в противную группировку: сделались кандидатами в члены НАТО, союзные республики провозгласили независимость и вышвырнули российских представителей, автономные области объявили о желании отделиться и вели собственную политику. На территориях бывших союзных республик уже давно были организованы военные базы недружественных России стран. Страну раздирали гражданские войны, на Кавказе шла резня.
Одна радость, что большой войны вроде бы ждать неоткуда: и зачем воевать в такие годы с Россией, если она и так отдавала все добровольно? Да, кое-что в обмен на свое добро Россия получить хотела, но материального ей было не надо. Зачем? Россия, как и обычно, хотела получить некую идеологию в обмен на свое добро, выражаясь иначе, нужен был рецепт существования в обмен на само существование. Ну это всегда пожалуйста. Чего-чего, а идеологии ей давали в избытке. Мировая цивилизация с пониманием отнеслась к русской нужде - и готова была уступить немного цивилизации, но за хорошие деньги, разумеется. По сложившейся традиции за культурные абстракции варвары должны платить конкретную цену - как и при обмене «огненной воды» на жемчуг. Вам - веселие души, нам - ваши бесполезные для вас побрякушки. Цивилизация возмущается, когда обмен не состоялся, когда туземец торгуется, а если обмен состоялся, то все в порядке, говорить не о чем. Примеров сколько угодно. Но самый последний: вы нам - нефть и алмазы, мы вам - демократию.
На это можно возразить: позвольте, а деньги? Ведь деньги же за алмазы платили? И немалые. Ведь появились же российские миллионеры, воротилы, денежные мешки? Народ, ладно, хрен с ним. Это такая сволочь, что ему не дай, все одно пропьет, о нем жалеть не приходится. Но которые поумней, те-то наварили капитал, разве нет? Хитрые российские капиталисты полагали, что они умнее и дальновиднее папуасов и своих русских родственников - купцов девятнадцатого века. Они думали, что наладились ловко дурить Запад и продавать ему ворованные российские ресурсы за настоящие деньги. Никто не хотел произнести крайне простой вещи: деньги в их избыточном количестве становятся символом и являются точно таким же продуктом идеологии, как манифест коммунистической партии. Банковский счет - символ, такой же символ социального статуса, как партбилет. Разницы между миллионом и миллиардом с точки зрения обыкновенных человеческих потребностей - нет. Невозможно проесть миллиард. Разница существует лишь символическая. Делаясь крайне богатыми, русские ворюги попадали в класс капиталистической номенклатуры, то есть в такое же условно-символическое сообщество людей с искусственными привилегиями и искусственными обязанностями, как и класс коммунистической номенклатуры. Разница меж ними и зарубежной номенклатурой была лишь в одном: те, далекие, обладали волшебным правом делать вещь символом, а отечественные ворюги пользовались чужими символами веры. Как если бы абориген Чукотки получил у американского индейца его тотемы в наивной надежде на универсальность заклинаний.
Мало что могло расстроить российского обитателя так, как расстраивали его известия о финансовых кризисах, случившихся в свободном мире. Если экономические неурядицы постигали просвещенный мир - тот самый мир, что по велению пылкого сердца решились копировать российские радетели, - это воспринималось как обида. Каждый финансовый кризис, случившийся в просвещенном мире, являлся преступлением не против капитала - но против системы взглядов и убеждений русского человека. Порой сведения о чужих проблемах пробивались сквозь толщу традиционной русской зависти - к чужим успехам, чужому климату и чужой зарплате, - и тогда русские люди возмущались. Примером такого праведного гнева явилась реакция президента свободной России, когда ему было доложено о кризисе Латинской Америки, земле далекой, конечно, но числящейся в благонадежных.
- Падает валюта таких стран, панимаешш, что никогда и не подумаешь на них! - возмутился бурнопьющий президент российский. Он пристукнул кулаком по столу и оглядел собутыльников. Сидим тут, панимаешш, пьем, закусываем, все чин чином, полагаемся на них, перенимаем опыт, панимаешш, а они? Не говоря уже о том исключительном по нравственной силе факте, что президент крупной страны строил свои отношения с мировой экономикой исключительно на принципах доверия, не менее удивительны были познания президента - поскольку речь шла о достоинствах валют Аргентины и Бразилии. Аргентинские и бразильские деньги, десятилетиями страдавшие от гиперинфляции именно потому, что другие страны усердно подталкивали их в этом направлении, обвалились совсем не вдруг, но абсолютно закономерно - и ровно по тем же причинам, что и обычно. Лишь прискорбный факт низвержения аргентинской экономики в привычные для нее бездны приостановил реформы аргентинского экономиста Кавальо, какового экономиста Кавальо радетели российского бизнеса доставили в Москву - он должен был повести русского мужика по пути прогресса. Уехал домой Кавальо, сел в тюрьму за растраты, и влияние аргентинского просветителя забылось. Так же и достоинство валюты Южной Кореи подверглось ущемлению - и последнее обстоятельство было оскорбительно для утопического сознания русского интеллигента.
II
Не успел Борис Кузин закончить очередную статью, в который недвусмысленно призывал покончить с рудиментами большевизма - как в сфере научноразыскательной, так и планово-хозяйственной - и последовать примеру иных стран, которые хоть от природы и не вполне западные (Южная Корея, например), но вот осмелились идти западным путем - да и преуспели в этом направлении. Статья только лишь должна была появиться на прилавках столицы, а Южная Корея неожиданно позволила себе предательский поступок - обанкротилась. Оставалось надеяться, что читатели «Европейского вестника» не обратят внимание на Южную Корею; в конце концов, и автору, и читателям конкретно до этой страны не было никакого дела, и Кузин привел ее в пример в некоем поэтическом смысле - как литературный троп. Именно это Кузин и объяснил главному редактору «Европейского вестника» Виктору Чирикову, когда предложил ему - ввиду досадных событий - убрать из статьи пассаж про Южную Корею. Понимаешь, - сказал Кузин, - у корейцев что-то случилось с ихними юанями, или как там их деньги называются. В тонкости вдаваться не буду, но что-то там не так. Ты ведь понимаешь, я Корею взял просто как символ, для концепции статьи совершенно не обязательно, чтобы там была пропечатана именно Корея. Не хотелось бы стать мишенью недобросовестной критики. Убери из текста Корею и поставь какую-нибудь еще страну, все равно какую: Мексику, Бангладеш, Индонезию - неважно. Тут главное - мысль сохранить. Мысль актуальная, упустить нельзя: страна, географически не относящаяся к Западу, пошла западным путем развития - и стала Западом в некоем глубинном, социально-нравственном смысле. Страну поменяй, а смысл пусть останется. - Так что, Индонезию ставим? - спросил Чириков, знавший географию столь же вольно, как и Кузин. - Или Мексику, мне решительно все равно, - сказал Борис Кириллович с достоинством. - Давай Суматру напишем, сказал Чириков, - слово красивое. Страна маленькая, хрен знает что у них там за строй. Людей, кажется, не жрут. Думаю, пошли путем западной цивилизации, не иначе. - Черт с ним, оставь Корею, - махнул рукой Кузин; цинизм Чирикова его шокировал, - оставь Корею, все равно про нее никто ничего не знает. Историк цивилизации и в этом вопросе был абсолютно прав: российской интеллигенции было глубоко наплевать как на проблемы Южной Кореи, так и на общественный строй Суматры. Подобно автору статьи читатели «Европейского вестника» были a priori уверены в том, что истинные испытания, подлинные страдания достались только им, русским интеллигентам, а прочее население земного шара в заведомо более привилегированном положении. Названия удаленных стран воспринимались как метафора иного прекрасного бытия, как звук горней лиры - и не надо было даже доказывать, что в Корее или на Суматре люди живут лучше. И если волею случая русские интеллигенты узнавали, что беда обрушилась на удаленные уголки планеты (скажем, смыло океаном остров Суматру и убило население), они сочувствие свое дозировали, имея для сравнения с экзотическими океанскими приключениями свои, реальные проблемы: дочка растет, новые обои нужны, гонорар за просветительскую статью дали неприлично скудный.
В контексте привычных российских бедствий загадочное и прекрасное слово «деньги» представлялось единственной реальностью, что противостоит фальшивой идеологии, лживой морали и подлой истории. Если бы у нас были деньги! - говорили русские люди, - если бы у нас были такие же деньги, как у них там - в Индонезии, Аргентине, Корее, - мы бы не жаловались.
Никому в голову не приходила такая ясная и очевидная вещь, как та, что деньги - это всего лишь бумага. Ценность эта бумага имеет только в той части света, где действуют законы, гарантирующие эту ценность. И до тех пор, пока вы лояльны к этой далекой, недружественной вам части света и ее законам - бумаги в ваших руках, может быть, что-то и стоит. А может быть, и нет - как дело повернется. Совсем не обязательно, что в любой стороне к вашим бумажкам отнесутся с интересом. Никто не может гарантировать, что бумажки являются воплощением буквально всех ценностей - некоторых, наверное; но вдруг не всех? В конце концов, в обмен на дома, корабли, картины, земли, здоровье вы получаете только бумагу. Да, эта бумага является символом всего вышеперечисленного, и теоретически на эту бумагу можно приобрести другой дом взамен проданного, другое здоровье взамен потраченного. Но это теория, и пока не приобрел нового дома, на руках остается только бумага - и в нее положено верить. Продавали все. Военные продавали боевую технику и военные тайны, работники госбезопасности секреты и архивы, дети продавали квартиры родителей, директора научных институтов сдавали в аренду здания и лаборатории, и люди распродавали все вокруг с тем более легким чувством, что факт продажи в новой системе ценностей был уравнен с фактом обладания. Так учили и президентские мамки с няньками своего недоросля: страна не разрушается, отец родной, не изволь волноваться, она разумно рас-про-да-ет-ся! А продажа - это ведь хорошо, прогрессивно. Получим деньги, разбогатеем, у нас будет много миллионов, говорили они, нам будет совсем другая цена! Потом что хочешь с этими деньгами сделать можно. Захотим, так и новую страну купим, лучше прежней. И никто не хотел обсуждать того, что покупатели России имели у себя в тылу собственные нераспроданные страны, а у продавца России в тылу не оставалось ничего. Не хотели обсуждать и то, что новой страны ни за какие деньги не купишь, они, страны, попросту нигде не продаются. А та далекая земля, которая гарантирует ценность бумажек, - она не создаст для вас новой страны и сама вашей страной тоже не станет.
Богатство стало мерой оценки личности. «Это - рыночное искусство!» говорили про какие-нибудь картины, и это значило, что картины продаются богатым адвокатам и дантистам и тем самым участвуют в построении нового общества, общества правдивых, цивилизованных, открытых отношений. «Этот художник продается», - говорили про кого-то, ну, допустим, про Гузкина, но не договаривали, что это лестное выражение обозначает не степень таланта, а только то, что картины этого художника нравятся адвокатам, дантистам, директорам банков, менеджерам среднего звена. Таким образом, пристрастия дантиста и банкира уравнивались по значению с судом истории. И что же здесь неверно? Совсем не нужно, чтобы в этих словах звучала язвительность или, хуже того, обвинение. Разве вкус дантиста - это не суд истории?
Богатство - это добродетель! И не пробуйте спорить с этой очевидностью. От пеленок до савана человек существует внутри денежной системы, подчиняется ей, обласкан ею и зависит от нее. Он ей верит, но он ее и боится. Но сколько бы ни боялся и ни ворчал, знает: ничего другого не существует. Деньги каждого ставят на заслуженное место, каждому нарисуют перспективу, положенную по чину. Дистанция от работяги до президента банка в миллиард раз поболе, чем дистанция от колхозника до генсека компартии. Она непреодолима. Думать, что телевидение или пресса сделали доступной информацию о жизни капиталистической номенклатуры, думать, что клерк осведомлен о жизни держателя акций лучше, нежели партиец о развлечениях политбюро, - думать так ошибочно. Капиталистическая номенклатура отгорожена от низовой капячейки не жиденькой колючей проволокой далекого ГУЛАГа, но сводом законов и мрамором зданий метрополии. Советский бонза рано или поздно границу из проволоки пересекал и сам садился. Но капноменклатура никогда не смешивается с капслужащими - ни в отеле, ни в тюрьме, ни на кладбище. Она так же непостижима для понимания простолюдина, как для понимания мирян непостижимы страсти Ватиканской курии. Когда человек рождается, болеет, женится, умирает, кому первому рассказывают об этом? Конечно, банкиру. Банкир в сегодняшнем западном обществе играет роль священника в Средние века. Нет такой сферы деятельности, что не была бы под его опекой, нет такого движения души, которое бы он не контролировал. И самое страстное движение души не связано с флагом или голосом крови (национализм в банковской религии отсутствует), не продиктовано ненавистью или любовью, вовсе нет. Самые страстные чувства человек Запада испытывает к своему счету в банке. Под Сталинградом одурманенные партийным духом патриоты кидались под танки с криком «За Родину, за Сталина!», случись сегодня битва народов, француз нажимал бы гашетку, приговаривая: «Это вам за Кредит Лионне!», немец стоял бы насмерть: «За нами "Дойче Банк"!» И вот русские вдруг тоже почувствовали заветное жжение в груди: теперь можно крикнуть «За "АльфаБанк"! За "Менатеп"! За "Банк Столичный"!» Банк сконденсировал в себе все возможные привязанности, он воплощает заботу о стариках и любовь к чадам, свободу передвижений и надежный дом, крепость закона и динамику общества. Он - больше любой частной судьбы, он - все судьбы сразу. Банк - это собор. И ваш счет в банке есть та икона, которой вы ходите молиться в храм.
Советскому человеку и в голову взбрести не могло то изобилие финансовых проблем и распоряжений, что заполняют жизнь европейца и делают ее осмысленной. Брачные контракты, межродственные денежные расчеты и долги, наследство и десятки параграфов, его сложно и детально толкующих, завещания и т. д. - все это, неведомое для русского, плохо освоенное им в девятнадцатом веке и позабытое потом, составляет основную, наиболее ярко и обдуманно проживаемую часть жизни цивилизованного человека. Не обращать внимание на все эти скучные подробности - значит, в понимании цивилизации, не уважать жизнь, быть дикарем. Совсем иначе в России. Так уж заведено было в России, что вопросов наследства, завещаний, брачных контрактов практически никогда и не возникало. Люди привыкли по-другому относиться к деньгам, я бы сказал, без той преданности. В силу общеизвестных причин русские не были сроду знакомы с частной собственностью, и та малая часть народа, что собственностью обладала, ее стремительно утратила. Так получилось, что большинство населения до XIX века само было чьей-то собственностью, так что инстинкт приобретательства и вкус к сбережениям как-то не развились. Подобно бедуину, чье имущество сводится к бурнусу, русский убежден, что не имеет смысла иметь: все равно или отымут, или сгорит, или пропьешь. Он относится к собственности с некоторым оттенком презрения. Это с западной точки зрения плохо, поскольку это место в сознании, которое могло быть оккупировано банком, было отдано чему-то еще. Это место в сознании, освобожденное от инстинкта собственника, было занято нелепой идеологией. Русских слишком долго упрекали в том, что они рабы плохой идеологии - и вот сегодня им предложено было убедиться, что есть идеология Запада: она сильнее, жизнеспособнее и подвижнее российской. Она - настоящая.
III
Скоро новый российский капитал почувствовал себя реальной политической силой. Банкиры запросто приезжали в Кремль, нетрезвый президент со значением тискал им руки. Банкиры влияли на назначение министров и давали взятки депутатам парламента. Банкиры покупали президенту и членам его семьи дома и яхты, а президент дарил им заводы, карьеры добычи руды, отрасли промышленности. Банкир Щукин говорил банкиру Левкоеву и банкиру Дупелю: «В конце концов, именно на нас лежит ответственность за демократическое развитие России». «Пора уже, - поддержал его банкир Михаил Дупель, мужчина румяный и с блестящими глазами, - пора капиталу понять, что власть и ее чиновники играют теперь роль простых наемных рабочих. И не надо, не надо в этом вопросе половинчатых решений! Власть хочет и честь соблюсти, и капитал приобрести? Нельзя быть наполовину беременной, ха-ха-ха! Президент должен знать, что он - наемный контрактный служащий, - и точка! И не стоит бюрократу обольщаться на свой счет. Вы пригласили профессионалов поправить вашу экономику? Извольте - придем. Мы работаем, господа, и тяжело работаем, а вы сидите на нашей зарплате? Вы кушаете наш хлеб? - что ж, пожалуйста. Но извольте тогда вести себя как менеджер на зарплате - и чтобы без фокусов!» Дупель покрутил на мизинце перстень с печаткой, такой же печаткой, как и те, что носят представители аристократических родов в Европе. Тофик Левкоев и Щукин глядели на Михаила Дупеля с уважением - он сформулировал их мысли предельно четко - а Тофик скосил глаза на перстень. - Что это, Миша? - полюбопытствовал он. - Наш родовой герб. Я ведь из тех Дупелей. - А, вон оно что, - сказал Тофик, плохо представляя себе, кто же они такие, эти Дупели. - А-а-а, - сказал Щукин, - значит, из тех самых. - Именно. - Да и я, - сказал Щукин, приосанясь и щелкая зубами, - родословную имею.
Впрочем, прошло еще совсем немного времени, и банкиры перестали нуждаться в присвоении себе аристократических титулов: как-то само собой сделалось понятно, что они-то как раз и есть аристократия, они-то и есть элита. Подобно тому как в семнадцатом веке, в так называемое Смутное время, Россией правил союз бояр, поименованный Семибоярщина, так и Союз предпринимателей современной России именовал себя Семибанкирщина - и этот союз считал, что он правит страной. Имена властителей сделались широко известны: Михаил Дупель, Аркадий Щукин, Тофик Левкоев, Абрам Шприц, Ефрем Балабос, Наум Шапиро, Виталий Салкин. Немудрено, что многим гражданам приходило в голову то очевидное, что все вышеперечисленные люди нерусские. «Да вы только поглядите, - говорили люди наблюдательные, - это что ж такое делается, а? Евреи, одни евреи все захапали. Шприц, Дупель и Балабос - хозяева России. Русскому ни полушки не оставили». «Все-таки вот Щукин есть», - отвечали им те, что вечно стараются сгладить этнические противоречия. «Щукин? А отчество какое у него, знаете? Вот то-то и оно». «Ну и что такого, в конце концов? Капитал - вещь интернациональная. Важно, что они граждане России, а нация ни при чем», - отвечали примиренцы. «Вспомните двадцатые годы, - говорили им патриоты, - ведь комиссары в массе своей были кто? Кто русских мужичков в лагеря гнал? Кто в ленинском политбюро сидел? Кто расстрелами командовал? Не знаете разве?» «Позвольте, - возражали патриотам сторонники фактической стороны дела, - если ваше сравнение и верно, то следует ожидать того, что рано или поздно придут русские банкиры и своих еврейских предшественников сожрут. Как это и с красными комиссарами случилось. Ну да, евреи народец инициативный, его пускают для затравки, а потом национальные кадры свое возьмут». - «Так это когда еще будет! А пока как жить?» И в самом деле как? Президент - просто наемный рабочий, министр - вор, живущий на взятках, депутат - мелкий служащий для поручений, приказы отдает капитал. Банкир Дупель опубликовал книгу «Как я стал Дупелем» - и желающие могли прочитать в ней, как, собственно, капиталист становится капиталистом в российских условиях. Дупель поднимался рывками, присваивая каждый новый участок рынка ценой неимоверных усилий, непредставимых интриг, несчитанных жертв. В книге он, разумеется, не мог описать всего, но искушенный читатель между строк мог прочесть повесть о бандитских «стрелках» (так назывались заранее оговоренные встречи для передела территорий влияния), о греве зоны (а всякий или почти всякий бизнесмен России в начале карьеры должен был поддерживать воровской мир), о вещах опасных и сделках противозаконных. Постепенно - и это было понятно из книги - капитал Дупеля стал столь огромен, а сфера влияния обладателя капитала столь велика, что он сумел не только отказаться от темного прошлого, но и возвыситься до уровня государственной власти. Ни одно решение в российской экономике не проходило без консультаций с Дупелем, и некоторые люди считали, что именно он, Дупель, и правит экономикой страны. В самом деле, горячо говорили такие энтузиасты, реальные деньги-то где? В империи Дупеля. Стало быть, и власть реальная у него же. Подумаешь, там министры сидят в правительстве - что они могут? Смех, да и только. Тщетно скептики говорили, что в России иная культурная традиция, мол, власть все равно важнее, чем капитал. Как это иная традиция? - отвечали им прогрессисты. - Какая такая иная традиция? Цивилизация-то на всех одна - поглядите лучше, как у людей устроено - там, в иных палестинах.
Деньги, рынок, продажа - кого не волновали эти слова? Вы сейчас скажете, вас не волновали, - и наверняка покривите душой. Что, неприятно получить за свой труд деньги? Разве так уж неприятно? Идешь себе по городу и знаешь, что можешь открыть любую дверь, завернуть в любой кабачок - поди как худо. Пробовали? Если вы знаете, как хрустят в руке купюры, если вы хоть раз доставали из кармана тугой бумажник и ловили завистливый взгляд соседа, если вам случалось останавливать такси и сперва садиться, а уже потом говорить адрес, не заботясь, сколько стоит проезд, - тогда вы не будете хулить русских интеллигентов, потерявших голову от своей грошовой коммерции. У людей проснулся вкус к жизни. Журналистам подняли зарплаты, в журналах эстрадные певцы рассказывали о своих новых загородных домах, да и художники не остались в стороне: банкиры стали собирать коллекции произведений искусства. Один богач, торговец удобрениями, приобрел для своей дачи холст Модильяни; другой заказал в офис антикварную мебель красного дерева, Тофик Левкоев стал скупать так называемый второй авангард. У Эдика Пинкисевича он купил сразу пять картин. - Что ж, в конце концов, именно купцы и составили теперешние коллекции музеев, - заметил Пинкисевич в частной беседе, - и, думаю, Левкоев из этой породы. - А некоторые говорят, что Левкоев убил банкира Щукина, - мстительно сказал Стремовский, у которого ничего не купили, - как думаешь, правда? Я читал где-то, что он его распилил на мелкие части и рассовал по консервам «Завтрак туриста». Может, врут, а может, и нет. - Врут, - убежденно сказал Пинкисевич, - Тофик интеллигентный человек. Вот только зря он деньги дает на перформансы Сыча. Этого я не понимаю, безвкусица какая-то. - Да, профанация. - А потом, - сказал Пинкисевич, подумав, - «Завтрак туриста» я сам ем. Консервы как консервы.
Раздражение Стремовского, впрочем, легко было понять и извинить: в обществе свободных и равных сразу сделалось понятным, что отныне мерилом таланта является не глухая подвальная слава, не самомнение творца, не его ночные бдения в мастерской и дневные борения с начальством - нет! Отныне мерилом его достижений является успех, потому как ничто больше его творчеству не мешает, никаких коммунистических вериг носить он не обязан, а значит - если можешь, так давай зарабатывай! А коли не можешь заработать, так что-то сомнительно, чтобы у тебя и впрямь был талант. Ведь глаза всего просвещенного мира устремлены на тебя, ведь никто более не затыкает тебе рот, ведь идеология (о, проклятая стоглавая гидра, что поглотила наши усилия и стремления!), идеология-то сдохла! Так что же мешает нынче творцу влиться в современный художественный процесс? Ну ровным счетом ничего не мешает. Что мешает ему получить признание людей прогрессивно мыслящих? Опять-таки ничего не мешает. А уж влившись в процесс да получив признание, сами собой приложатся и успех и деньги. Истина эта, простая и убедительная, оказалась до известной степени еще и обидной истиной. Иной творец, не получивший признания и денег соответственно, ловил на себе недоуменные и осуждающие взгляды коллег. «Что же выходит, - говорили эти взгляды, - не слишком-то он прогрессивный и талантливый оказался. Как же это получилось, что и та галерея его не заметила, и эта? Что-то здесь не складывается. Да, это вам не бороться с начальством, тут работать надо, участвовать в мировом художественном процессе». Тщетно стал бы такой неудачник ссылаться на горестные примеры некоторых художников, что были не совсем успешны по части реализации своей продукции. «Ха-ха, - говорили ему, - Ван Гог и Модильяни! Ты еще про баснописца Эзопа вспомни! Насмешил! Когда это было? Каменный век, кризисы перепроизводства, мировая война, то, се. Теперь-то уже все иначе, в открытом обществе. На свободном рынке всякому таланту дали слово, потому что любое интересное высказывание - это потенциальный рыночный товар. Мир нынче устроен так, что талантливый человек только рот раскроет, а уже галеристы и издатели роем летят - с предложениями. Потому - рыночная система! Потому - плюрализм мышления, демократия. Все продается, было бы что за душой. Если у тебя есть убеждения, мысли, талант - стало быть, можно их продать. А не продал ничего - ну, брат, извини. Может, у тебя и нет ничего на продажу?» Так говорили люди знающие, и в их словах было трудно усомниться. Конечно, иные пылкие натуры пытались поймать их на слове и, воздевая руки к небу, восклицали: «Ах, как же так! Нет, не станем мы продавать свои убеждения, не станем!» Таким мелодраматическим репризам находился четкий ответ: «Оставьте, пожалуйста, вашу романтическую терминологию и не ловите нас на слове. Да кому нужны ваши убеждения, помилуйте? Как-нибудь без них цивилизация обойдется. Сказано же поэтом - «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Продукцию давайте для рынка - больше от вас и не нужно ничего. А если нет у вас товара, вдохновленного вашими убеждениями, такого товара, чтобы прогрессивная общественность могла пустить его в оборот - так, стало быть, и убеждения ваши ни к чему». Поспорить с этой ясной формулировкой было трудно. Тем более что всякий день страна показывала на своем примере, что еще и эти двадцать четыре часа существования отвоеваны тем, что удалось продать никому не нужный завод, заложить под проценты бездействующий грузовой терминал, сдать в аренду горно-обогатительный комбинат. Успевай только поворачиваться - и дело пойдет. А не идет у тебя дело - ну, брат, тут целиком твоя вина. И глядя на улыбающегося Пинкисевича, Стремовский горько усмехался. Впрочем, возможно, это лишь временный успех. Вряд ли Пинкисевич уловил дух времени. Ведь определенно говорят, что на Западе абстракция уже не котируется. Разберутся и наши банкиры - что современно, а что нет.
Картины Пинкисевича стали продаваться за границей. Эдик, летавший на вернисажи, вынужден был отказаться от своего знаменитого ватника и приобрести полувоенный серый френч. В нем он побывал на открытиях в Кельне и Лозанне. Скоро его позвали и в Париж
IV
Пинкисевич, прилетевший покорять Париж, увидел равнодушный город с цветущими бульварами, одинаково серыми домами и людьми, которые ели и пили на каждом углу. Он пошел пройтись и быстро устал. На иностранных языках он не говорил, знакомых не было, куда пойти? Улицы длинные, присесть негде. Пинкисевич постоял на набережной, поглядел на желтую Сену. Вот говорят, Париж, Париж, думал Пинкисевич. А что Париж? То же самое, что Кельн или Лозанна. Он повлекся прочь от набережных, по жарким улицам, мимо чужих людей, говорящих непонятные слова. Решил уже возвращаться в гостиницу, но повстречал на бульваре Распай Гришу Гузкина. Гриша шел по бульвару ленивой походкой состоятельного человека и помахивал тростью. Художники обнялись. Так, наклевывается кое-что в Центре Помпиду, объяснил Гриша свое нахождение во Франции. Да и вообще, Эдик, Париж - это Париж. Платаны, каштаны. Весной надо приезжать в Париж. Моя дама выразила желание, и я, как джентльмен… Гузкин шевельнул плечом, показывая, что может себе позволить удовлетворить женскую прихоть. Одет он был в серебристый пиджак, лиловый шелковый фуляр мягко кутал его шею, черная борода его была подстрижена, как позже он объяснил Эдику, на французский манер. А жена, значит, приехала и, понятно, сразу в Париж захотела, догадался Пинкисевич. Гузкин шевельнул другим плечом, и Пинкисевич понял, что речь идет не о жене. «Ты город знаешь? - спросил Гузкин. Париж надо понять, это тебе не Череповец. Куда бы тебя отвести? В бар Лютеция, не так ли? О, это специальное местечко! Мы собираемся там с друзьями каждый вечер. Что у меня за друзья? Исключительные люди, цвет эмиграции - Жиль Бердяефф, Эжен Махно, Кристиан Власов - та самая, уцелевшая, гонимая русская интеллигенция, цвет ее. Беседа с ними - это всегда испытание интеллекта, они придирчивы, спуску не дают. Однако не следует так уж бояться. Да, это люди острого ума, да, они могут высмеять беспощадно, но мы умеем быть снисходительными». Гузкин оглядел Пинкисевича, сопоставил его облик с запросами парижских друзей и сделал вывод. Или побудем вдвоем, есть что вспомнить, не так ли? Скоро художники сидели в легендарном кафе «У Липпа», что на углу Сен-Жермен и Рю-де-Ренн. Гузкин любил места исторические. Он принялся рассказывать Пинкисевичу, что в кафе этом сидели Хемингуэй и Эзра Паунд, обедал Пикассо и завтракал Дали. Пинкисевич слушал, широко открыв глаза. Конечно, надо знать, куда пойти. Так можно целый день шататься по городу и не найти нужных мест. Когда-нибудь скажут, думал он, сидели вот Пинкисевич с Гузкиным, выпивали. Просто зашли, мол, в кафе «У Липпа», раздавили бутылочку. Посмотри на стойку, заметил Гузкин, с тех времен еще осталась. Вот так же, как мы, подходил к ней Пикассо и брал абсент. Ничего не изменилось.
Кафе «У Липпа» давно превратилось в дорогой ресторан, где американским туристам давали поиграть в ушедшую эпоху, но Гриша не замечал этого.
- Видишь, как все сохранили, - говорил он. - Ты только погляди, какая красота.
- У нас бы давно все испоганили, а здесь вон как соблюдают.
- Ну нашим волю дай! - и оба смеялись, вспоминая свою мерзкую жизнь при социализме и отвратительные пельменные, где под столом разливали водку в пластмассовые стаканчики из-под желудевого кофе.
- Но в Париж русские приехать любят. Ой любят!
- Да уж, Луговой, почитай, каждый год катается!
- Только что он в Париже понимает?
- Вот именно. Что они поняли в Париже?
- Хотел бы я посмотреть, как Луговой будет есть устриц! Ха-ха-ха!
- Я думаю, он их вместе с раковиной жевать станет!
- Нет, он их столовой ложкой будет выковыривать!
- Сметаной польет!
- Воображаю, как партийцы вино французское хлебают.
- Литрами из горла!
- В подъезде!
- Ерш с водкой мешают!
- Наверное, с мясом - белое, а с рыбой - красное!
- Нет, с мясом - водяру, а с рыбой - портвейн!
- Гарсон, - бодро сказал Гриша, - бордо! - он не говорил по-французски, но два этих слова произнес в нос и грассируя.
Официант принес винную карту; у Липпа карта вин толстая, и Гриша принялся читать вслух, показывая Пинкисевичу, что разбирается в винах и понимает, в каком году был хороший урожай, а в каком не очень. Он помнил некоторые интонации и жесты барона фон Майзеля. Так, например, Гриша сощурился и резко пролистал несколько страниц, обронив: «Ну, гасконские вина пусть пьют гасконцы, а от эльзасских вин вообще люди тупеют». Пинкисевич смотрел на Гузкина так, как выпускник художественного училища смотрит на министра культуры. «Луара, - сказал Гузкин, - хм, Луара, значит», - и, как барон, в сомнении поднял бровь. У него получалось нисколько не хуже, но названия вин давались с трудом, и, что хуже, нужные цифры - то есть какой год считать правильным, а какой нет - вылетели из головы начисто. Он указал в карте на вино, название которого было непроизносимо.
- Какого года? - спросил Гриша по-немецки. - Welches Jahr? - И сказал то же самое по-французски, - de quelle annee? - подобно большинству эмигрантов он прекрасно освоил ресторанный язык
- Восемьдесят девятого. Есть восемьдесят седьмого и семьдесят четвертого, у Липпа говорили на всех языках, и официант повторил это и по-немецки тоже.
- Danke. Мерси.
Гриша поправил фуляр и снова стал читать меню, стараясь понять логику цифр и сделать верный выбор. Он взглянул также на цены - и ахнул. Может быть, все-таки не бордо, подумал он, наценки тут дикие. Эдик все равно пьет одну водку.
V
В то же самое время буквально через дорогу в кафе «Дю Маг» барон фон Майзель предложил Луговому выбрать вино.
- Я пью Шато Брион, - сказал Луговой, не глядя в карту, - экспериментировать возраст не позволяет.
- Прекрасно, а год?
- Не будем шиковать, барон. Обыкновенный деловой ужин. Восемьдесят восьмой вас устроит?
- Интеллигентный выбор. Достойно и просто. Вы знаете, между прочим, в этом кафе Сартр имел обыкновение встречаться с Симоной де Бовуар.
- Я сам здесь сиживал с Жан Полем, - сказал Луговой, - и пили мы то же самое.
- Но не восемьдесят восьмой год, полагаю.
- Конечно, нет. Тогда мы пили шестьдесят четвертый.
- Разумеется. Вы хорошо его знали?
- Нет, не особенно. Пришлось пересечься пару раз. Смешная, вздорная история. Вы, конечно, ничего не знаете про его поздний роман?
- Никогда не слышал. Да, вижу, - это официанту, показавшему бутылку, откройте и перелейте в графин.
- Русская переводчица, дама с затеями, лет сорока. Мила, глупа, назойлива. Жан Поль просил, чтобы я сделал ей паспорт.
- Вы будете пробовать или я?
- Что ж, давайте попробую. Неплохо. Совсем неплохо. Но должно быть лучше. Попробуйте, барон.
- Вы правы, что-то не так
- Возможно, дело в том, что вино не надышалось.
- Трудно сказать наверняка.
- Откройте-ка еще одну. Мы сравним.
- Правильно. Это взвешенное решение. С вами приятно иметь дело.
- Рад встрече, барон.
VI
Гриша Гузкин сказал:
- Здесь есть анжуйское розовое. Помнишь, его еще мушкетеры пили.
- Вот это да, ты знаешь, куда привести! - восхитился Пинкисевич. - Возьмем бутылку? А лучше сразу две. Мы чем не мушкетеры?
Принесли розовое анжуйское в ледяной бутылке. Художники, спросившие до того по свиной отбивной, стали есть свинину и запивать ее вином. Пока ели, Гриша старался припомнить, правильно ли они поступают и едят ли свинину с анжуйским люди воспитанные, - но вспомнить не мог.
- Как здесь с закупками? - перешел к деловой беседе Пинкисевич, подобрав хлебом соус.
- Ну что тебе сказать? Есть серьезные коллекции.
- У тебя почем покупают?
- Обыкновенные европейские цены, - сказал Гузкин скромно, подержал в руке бокал, посмотрел вино на свет, - в пределах ста тысяч. Недавно барон фон Майзель взял пару вещей для своей коллекции. Так, продаю время от времени.
- Ты уж, небось, миллионером стал.
- Понимаешь, Эдик, здесь не принято говорить о доходах.
- А все-таки?
- На жизнь хватает. Думаю, домик на Лазурном берегу прикупить. Так, осень проводить у воды.