Я раб у собственной свободы… (сборник) Губерман Игорь
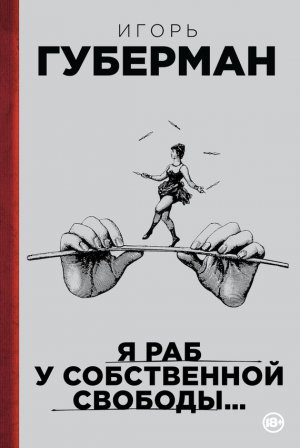
* * *
Не жалею хмельных промелькнувших годов,
не стыжусь их шального веселья,
есть безделье, которое выше трудов,
есть труды, что позорней безделья.
* * *
Этот тип – начальник, вероятно:
если он растерян, огорошен,
если ветер дует непонятно —
он потеет чем-то нехорошим.
* * *
Подпольно, исподволь, подспудно,
родясь, как в городе – цветы,
растут в нас мысли, корчась трудно
сквозь битый камень суеты.
* * *
Творимое с умом и не шутя
безделье освежает наши души;
с утра я лодырь, вечером – лентяй
и только в промежутке бью баклуши.
* * *
Уже с утра, еще в кровати,
я говорю несчетный раз,
что всех на свете виноватей —
Господь, на труд обрекший нас.
* * *
Как ни туманна эта версия,
но в жизни каждого из нас
есть грибоедовская Персия
и есть мартыновский Кавказ.
* * *
Так привык на виду быть везде,
за престиж постоянно в ответе,
что, закрывшись по малой нужде,
держит хер, как бокал на банкете.
* * *
Лишь тот вполне благочестив,
кто время попусту не тратил,
а, смело пояс распустив,
земной отведал благодати.
* * *
Расчетлив ты, предусмотрителен,
душе неведомы гримасы,
ты не дитя живых родителей,
а комплекс компаса и кассы.
* * *
Чуждаясь и пиров, и женских спален,
и быта с его мусорными свалками,
настолько стал стерильно идеален,
что даже по нужде ходил фиалками.
* * *
О равенстве мы заняты заботами,
болота и холмы равняем мы;
холмы, когда уравнены с болотами,
становятся болотами холмы.
* * *
Живи, покуда жив. Среди потопа,
которому вот-вот наступит срок,
поверь – наверняка мелькнет и жопа,
которую напрасно ты берег.
* * *
Мужчины – безусловный авангард
всех дивных человеческих затей,
и жаль, что не умерен их азарт
ношением и родами детей.
* * *
Так ловко стали пресмыкаться
сейчас в чиновничьих кругах,
что могут с легкостью сморкаться
посредством пальцев на ногах.
* * *
Сколько света от схватки идей,
сколько свежести в чувственной гамме,
но насмотришься сук и блядей —
жирно чавкает грязь под ногами.
* * *
Над злой тоской больниц и тюрем,
над нашей мышьей суетой,
дымами труб насквозь прокурен,
витает вряд ли дух святой.
* * *
Я чужд рассудочным заботам
и очень счастлив, что таков:
Бог благосклонен к идиотам
и обожает мудаков.
* * *
Есть люди – прекрасны их лица,
и уровень мысли высок,
но в них вместо крови струится
горячий желудочный сок.
* * *
Погрязши в тупых ежедневных делах
и в них находя развлечение,
заблудшие души в блудливых телах
теряют свое назначение.
* * *
Очень жаль мне мое поколение,
обделенное вольной игрой:
у одних плоскостопо мышление,
у других – на душе геморрой.
* * *
Пора! Теперь меня благослови
в путь осени, дождей и листопада,
от пламени цветенья и любви
до пепла увяданья и распада.
* * *
Дана лишь тем была недаром
текучка здешней суеты,
кто растопил душевным жаром
хоть каплю вечной мерзоты.
* * *
Мы все умрем. Надежды нет.
Но смерть потом прольет публично
на нашу жизнь обратный свет,
и большинство умрет вторично.
Кто томим духовной жаждой,
тот не жди любви сограждан
* * *
Человек – это тайна, в которой
замыкается мира картина,
совмещается фауна с флорой,
сочетаются дуб и скотина.
* * *
Взрывы – не случайный в мире гость;
всюду то замедленно, то быстро
воздух накопляет нашу злость,
а она – разыскивает искру.
* * *
По странам и векам несется конница,
которая крушит и подчиняет;
но двигатель истории – бессонница
у тех, кто познает и сочиняет.
* * *
На безрассудства и оплошности
я рад пустить остаток дней,
но плещет море сытой пошлости
о берег старости моей.
* * *
Глядя, как играют дети,
можно быть вполне спокойным,
что вовек на белом свете
не пройдут раздор и войны.
* * *
Когда усилия науки
прольют везде елей и мед,
по любопытству и со скуки
все это кто-нибудь взорвет.
* * *
Служа истории внимательно,
меняет время цену слова;
сейчас эпоха, где романтика
звучит, как дудка крысолова.
* * *
Весомы и сильны среда и случай,
но главное – таинственные гены,
и как образованием ни мучай,
от бочек не родятся Диогены.
* * *
Бывают лица – сердце тает,
настолько форма их чиста,
и только сверху не хватает
от фиги нежного листа.
* * *
Душой своей, отзывчивой и чистой,
других мы одобряем не вполне;
весьма несимпатична в эгоистах
к себе любовь сильнее, чем ко мне.
* * *
Когда сидишь в собраньях шумных,
язык пылает и горит;
но люди делятся на умных
и тех, кто много говорит.
* * *
Всегда сильней и выше песенник,
и легче жить ему на свете,
в ком веселей и ярче висельник,
всегда таящийся в поэте.
* * *
Воспев зачатье и агонию
и путь меж ними в мироздании,
поэт рожден прозреть гармонию
в любом и всяком прозябании.
* * *
В стихах моих не музыка живет,
а шутка, запеченная в банальности,
ложащаяся грелкой на живот,
болящий несварением реальности.
* * *
Нельзя не злясь остаться прежним
урчаще булькающим брюхом,
когда соседствуешь с мятежным
смятенно мечущимся духом.
* * *
Жрец величав и строг. Он ключ
от тайн, творящихся на свете.
А шут – раскрыт и прост. Как луч,
животворящий тайны эти.
* * *
Владыка наш – традиция. А в ней —
свои благословенья и препоны;
неписаные правила сильней,
чем самые свирепые законы.
* * *
Несмотря на раздор между нами,
невзирая, что столько нас разных,
в обезьянах срослись мы корнями,
но не все – в человекообразных.
* * *
Бесцветен, благонравен
и безлик,
я спрятан в скорлупу
своей типичности;
безликость есть
отсутствие улик
опасного наличия
в нас личности.
* * *
Наука наукой, но есть и приметы;
я твердо приметил сызмальства,
что в годы надежды плодятся поэты,
а в пору гниенья – начальство.
* * *
Я повзрослел, когда открыл,
что можно плакать или злиться,
но всюду тьма то харь, то рыл,
а непохожих бьют по лицам.
* * *
Жизнь не обходится без сук,
в ней суки с нами пополам,
и если б их не стало вдруг,
пришлось бы ссучиваться нам.
* * *
Слишком умных жизнь сама
чешет с двух боков:
горе им и от ума,
и от мудаков.
* * *
Талант и слеп, и слишком тонок,
чтоб жизнь осилить самому,
и хам, стяжатель и подонок
всегда сопутствуют ему.
* * *
Когда густеют грязь и мрак
и всюду крик: «Лови!»,
товарищ мой, не будь дурак,
но смело им слыви.
* * *
В эпоху страхов, сыска, рвения —
храни надменность безмятежности;






